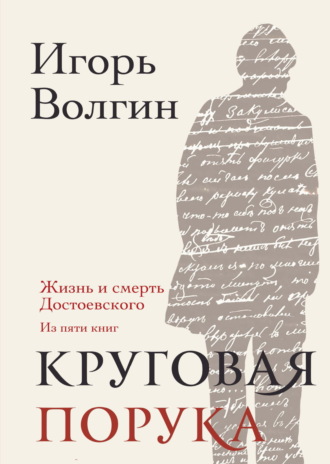
Полная версия
Круговая порука. Жизнь и смерть Достоевского (из пяти книг)
Любопытно бы знать: с чем рифмуется Григорович?
При этом (что уже не впервой) сюжет вновь начинает двоиться. Правда, на сей раз – сущие пустяки. Григорович уверяет, что однажды утром Достоевский торжественно призвал его и прочитал вслух своё творение. Восхищённый слушатель (вернее, первослушатель – честь в данном случае немалая!) почти силком забрал у автора рукопись и поспешил доставить её Некрасову. Затем оба читателя посещают Достоевского, а по уходе Некрасова Григорович (последний, натурально, остаётся, ибо он у себя дома), «лёжа на своём диване», ещё долго слышит шаги взволнованного соседа.
Версия самого Достоевского несколько иная. Он говорит, что Григорович в то время жил у Некрасова, которому он, Достоевский, отвёз рукопись самолично. Ночной звонок (у Григоровича стук) в дверь наводит на мысль, что Достоевский, пожалуй, ближе к истине: зачем звонить, если у Григоровича должен иметься собственный ключ? Достоевский определённо говорит об уходе обоих ночных посетителей, что порождает некоторое недоумение относительно диванного свидетельства Григоровича.
Не вполне ясно и то, чем занимался герой в первые часы этой незабываемой судьбоносной ночи. По его позднейшему (адресованному широкой публике) признанию, после отдачи рукописи Некрасову он мирно направился «к одному из прежних товарищей», где и предался занятию, как нельзя более подходящему к случаю. «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!» Отчего же не почитать – «и, пожалуй, всю ночь». Он вернулся домой в четыре. Страшно подумать, как выглядела бы история отечественной словесности, если бы любитель поздних чтений замедлил с приходом и ночные гости удалились несолоно хлебавши.
Между тем одна воспоминательница утверждает, что автор «Бедных людей» в тесном дружеском кругу излагал этот хрестоматийный сюжет несколько иначе. Отослав рукопись в редакцию (т. е., очевидно, отдав её Некрасову?) и терзаемый авторскими сомнениями, он якобы ринулся в пучину разврата («закутил с горя») и в ту самую ночь вернулся домой как раз после таких непохвальных отвлечений. Трудно сказать, домысел ли это мемуаристки или лукавый самооговор, имеющий целью подчеркнуть опасную близость порока к чистым источникам творческого труда…
«Бедные люди» сделали его знаменитым – буквально в одну ночь. Но это ночное признание – с блицвизитами, объятиями и слезами, а главное – с восторженным поминанием Гоголя (чья незримая тень, отбрасываемая из Италии, многозначительно маячит на заднем плане) – всё это, хотя и предвосхитило характер дальнейших событий, однако ж не отменяло необходимости взглянуть на происходящее при свете дня.
Достоевский отдал роман Некрасову. Тем самым он вверял свою литературную участь той партии, душой и совестью которой был Белинский. От его приговора зависело всё.
От Белинского зависело всё, но сам он, горячий, вспыльчивый и прямой, не выказывал и тени литературного генеральства. Он был инстанцией, производящей в генералы других. Он признавался лидером и теоретиком школы, которая вскоре, заслужив у Булгарина бранную кличку натуральной, обратит это прозвище в своё боевое знамя. Белинский жаждал социальности, сопряжённой с психологизмом: «Бедные люди» пришлись как нельзя кстати.
Герольдский клик Некрасова «Новый Гоголь явился!» (автор «Мёртвых душ» – мера и точка отсчёта, что позволяет усмотреть в некрасовском возгласе ещё и геральдический оттенок) – эта весть должна была отозваться сладкой музыкой в сердце «первого критика». Произведение восхитило его сразу и целиком. Это был сигнал для всех остальных.
«…И в гроб сходя, благословил»: благословившему оставалось жить ровно три года.
Когда всё-таки был он представлен? Белые ночи всё водят свой призрачный хоровод – и май неприметно переходит в июнь, и тянет на летний воздух, и грех в такую погоду сочинять письма или вести дневники, и будущие биографы недоумённо разводят руками…
И всё же… В 1873 г. бывший дебютант напишет М. П. Погодину: «С Белинским я познакомился в июне 45го года и тут же с Некрасовым». Месяц обозначен твёрдо, без затей. Конечно, прошло двадцать восемь лет, но такие вещи помнятся хорошо.
Что удивительно: Некрасов и Достоевский покинули столицу в один и тот же день (следовало бы запатентовать это ценное наблюдение!). А именно – 7 июня. Достоевский отбыл в Ревель к брату, Некрасов – к Герцену и его друзьям в Москву – дабы обзавестись вкладчиками для будущего «Петербургского сборника» (именуемого пока «1 января»: издание замышлялось к Новому, 1846 году). Следовательно, если принять во внимание исчисления самого бенефицианта, ночной визит к нему двух молодых друзей и последующее знакомство его с Белинским – все эти события совершились в первую неделю июня 1845 г. [26]
Итак, внесём важную хронологическую поправку: Достоевский вступил в литературу в июне! Что, впрочем, ничуть не меняет ни освещения сцены, ни расположения фигур.
«Я вышел от него в упоении… – говорит Достоевский о своём первом визите к Белинскому. – Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая её, укреплялся духом».
Он запомнит свидание: звёздный свой час. Отныне он обречён в поте лица своего отрабатывать выданный ему непомерный аванс.
Он признан: правда, пока только в кругу «своих». Но «неофициальный» успех «Бедных людей», сколь ни странно, отсрочит появление их в печати. Теперь не было нужды отдавать роман в «Отечественные записки», где он – с подачи Белинского – мог бы явиться незамедлительно. Имело смысл повременить – до выхода некрасовского «Петербургского сборника»: там роману была уготована особая роль.
…Делать в пустеющем Петербурге было более нечего – и, как уже говорилось, 7 июня, сев на пароход, он отправляется в Ревель, к брату – единственному своему наперснику и конфиденту. Там приступает он к «Приключениям господина Голядкина» (будущему «Двойнику»): надо ковать железо, пока горячо. Какие ещё заботы одолевали его в это лето, томительное лето 1845 г., можно только догадываться: писем нет, да и писатьто, собственно, было не к кому…
1 сентября он возвращается в Петербург. Он едет морем – и от города, казалось бы, расположенного встретить его литаврами, веет на него неизъяснимой печалью. Может быть, оттого, что дело вновь происходит глубокой ночью.
«Я смутно перечувствовал всю мою будущность в эти смертельные три часа нашего въезда…» Он смотрит на город своей судьбы, на глухую и величественную панораму надвигающейся столицы. Кажется, никогда ещё не возникало у него подобного чувства – такого грозного ощущения грядущей беды, такого мучительного сомнения в неотменимости выбора: «Весь этот спектакль решительно не стоит свечей».
Как будто чёрная сентябрьская ночь молча меряется с той, белой…
Между тем подходит октябрь, столица наполняется публикой – и в тоне его начинают звучать более мажорные ноты. Он запросто поминает имена, давая понять брату, что это теперь – его круг, что он здесь – свой среди своих. Он бойко рассуждает о замышляемых им и его друзьями журнальных предприятиях. Он сочиняет весёлое объявление об издании «Зубоскала» и публикует его в «Отечественных записках»: следствием сего неосторожного шага станет запрещение объявленного журнала. Плачевный результат первого оригинального выступления в печати (в том самом органе, о котором мечталось) не очень огорчит автора, ибо этот его дебют, по счастью, останется анонимным.
Главный дебют – ещё впереди: ожидание приносит ни с чем не сравнимую радость. Тем более что, «терзаемый угрызениями совести», Некрасов обещает доплатить ещё 100 рублей серебром сверх положенной за «Бедных людей», ранее обговорённой суммы, ибо, как сокрушённо признает, 150 рублей – «плата не христианская».
Согласимся, что подобная (без требований со стороны автора) надбавка – событие в писательском мире довольно редкое. Во всяком случае, с Достоевским такого больше не приключалось.
Хорошее дело – арифметика.
Достоевский надеялся продать роман (семь печатных листов) Краевскому в «Отечественные записки» за 400 рублей серебром. Выходит – около 60 рублей за печатный лист. Некрасов, крайне стеснённый в средствах, первоначально предлагает автору «Бедных людей» аккордную плату – упомянутые 150. Автор, не колеблясь, соглашается.
Для человека, пишущего «из хлеба», подобный поступок довольно странен.
Он согласен получить плату едва ли не в три раза меньшую: немногим более 20 рублей за печатный лист. Даже после широкого некрасовского жеста плата, сделавшись чуть более «христианской», всё же остаётся весьма и весьма умеренной (примерно 35 рублей за лист). Таким образом, автор готов потерять 250, а затем, после добровольной некрасовской компенсации, – 150 рублей: деньги, которые по расчёту он мог бы взять с издателя «Отечественных записок» Андрея Александровича Краевского.
Обременённый расходами и долгами, ради чего он идёт на такие жертвы?
Передача рукописи в «Петербургский сборник» – акт идейной солидарности. Солидарности с Некрасовым, с Белинским, но, впрочем, и с Краевским, поскольку все они в 1845 г. составляют ещё одну компанию.
Конечно, солиднее (да и выгоднее!) иметь дело с «самим» Краевским. Но дебютант выбирает «мечты и звуки». И не потому, что так уж чтит автора одноимённой, наверняка позабытой им стихотворной книжки, а скорее – в силу молодой симпатии к сверстнику, к кругу литературных идей, ими обоими разделяемых…
Он примыкает к направлению.
«…О к ним, с ними!»
Любимец публики
15 ноября он впервые посещает Панаевых: там обыкновенно сходится весь кружок[27].
На следующий день – под впечатлением – он пишет брату. Если бы мы наверное не знали, кому принадлежит текст, это послание можно было бы принять за жестокую и сокрушительную пародию.
«Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдёт до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчёт меня страшное… Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоев<ский> тото сказал, Достоев<ский> тото хочет делать… Откровенно тебе скажу, что я теперь упоён собствен<ной> славой своей».
Вспомним: «Я вышел от него в упоении». Именно это чувство, впервые захватившее его тогда, весной, после встречи с Белинским, вновь возрождается осенью. Правда, теперь это упоение иного рода: оно требует приставки само. Дебютант словно напрочь забыл о своих недавних предчувствиях: как будто вовсе не ему пригрезилось «мене, текел, фарес» нагнавшей на него тоску петербургской ночью…
«Эх, самолюбие моё расхлесталось!» И – как высший градус этого «расхлеставшегося» самолюбия – передача чужого, но отнюдь не отвергаемого мнения: «Гоголь… не так глубок, как я».
Гоголь упомянут как нельзя кстати. Поразительно только, что такой знаток и ценитель гоголевских писаний не улавливает в собственной захлёбывающейся речи этот знакомый звук. Впрочем, может быть, в слове «расхлесталось» как раз и содержится скрытое указание на имя?
«Да, и в журналы помещаю… “Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь”. Думаю себе: “Пожалуй, изволь, братец!”»
Автор «Бедных людей» проговаривает свой эпистолярный монолог в той же – хлестаковской – тональности. Он, автор, тоже «с Пушкиным на дружеской ноге». Во всяком случае, фамилии «аристократишек» – князя Одоевского и графа Соллогуба – помянуты с насмешливым пренебрежением: не столько даже к их титулам, сколько к заискивающим, с точки зрения автора, попыткам добиться немедленного знакомства. Между тем «Бедные люди» будут украшены в печати эпиграфом из того же князя Одоевского.
Здесь различима грань: между литературой и «окололитературой».
Трудно поверить, что «Бедные люди» и письма с известиями о литературных успехах их автора писаны одним и тем же пером. Там – уверенная рука мастера, искусно владеющего слогом и точно рассчитывающего каждый речевой жест. В письмах – наоборот, отсутствие «формы», неумение «художественно», со стороны, оценить ситуацию, коробящая порой откровенность. Достоевский словно нарочно спешит навлечь на себя обвинения в заносчивости, зазнайстве и саморекламе.
Стоит, однако, вслушаться в интонацию всех этих нескромных признаний. Не сквозит ли в его ранних восторгах что-то искусственное, лихорадочнопреувеличенное и, как это и можно было предположить, не вполне в себе уверенное? Не носят ли подобные упоения не только наивный, но и несколько театрализованный характер?
Никогда ещё «вхождение в литературу» не осуществлялось таким ошеломляющим образом. Даже у наиболее счастливых дебютантов – Пушкина, Гоголя, позднее Толстого – писательская известность нарастала постепенно. Никогда ни одному начинающему автору Белинский не говорил: «…цените же ваш дар и… будете великим писателем!..»
Для Достоевского, не принадлежавшего ни к светскому, ни к полусветскому кругу, ведшего уединённое, будничное, «угловое» существование, неожиданный литературный успех значил перемену всех личных и общественных обстоятельств. Информация, предназначаемая брату, должна была как можно резче подчеркнуть именно этот аспект: мгновенное, почти сказочное достижение желанной цели, обретение нового жизненного качества. Автор писем старается растолковать эти перемены как можно «популярнее», то есть грубее.
Лев Толстой, например, никогда не допустил бы подобных экзальтаций. Он не любил выглядеть смешным. Кроме того, писательство оставалось для него лишь одним из возможных жизненных вариантов, порою далеко не главным. Недаром Тургенев не без ехидства вопрошал автора «Детства»: «…что же Вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? основатель нового религиозного учения? чиновник? делец?» Толстой словно не уверен, что именно литература позволит ему реализовать своё жизненное предназначение [28].
У Достоевского нет таких сомнений. Для него писательство – единственная и исключительная возможность. Его самооценка целиком зависит от осуществления этой главной задачи.
«Меня то же мучило, что и Вас, еще с 16ти, может быть, лет, – пишет он в 1877 г. одному начинающему литератору, – но я както уверен был, что рано или поздно, а непременно выступлю на поприще, а потому (безошибочно вспоминаю это) не беспокоился очень». «Не беспокоился», веря в единственность своего выбора: с такой верой можно было и не поспешать. «Насчёт же места, которое займу в литературе, был равнодушен…»
С первого своего шага он «вдруг» занял в литературе место, о котором не смел и мечтать. Не отсюда ли мальчишеская «упоённость» его писем: в них видна душа доверчивая и открытая, ещё не наловчившаяся прикрывать собственные слабости спасительной самоиронией. Ничто так не выдает возраст автора, как полнейшая неспособность сохранить на лице важность, приличествующую моменту…
Достоевский ревностно осваивает выпавшую ему роль. Он не без удовольствия примеряет костюм внезапного любимца муз, этакого баловня фортуны и, чтобы, не дай бог, не спутали, спешит выставить объяснительную табличку: «любимец муз». Разумеется, не только музы, но и все прочие обязаны испытывать к счастливцу тёплые чувства: «Эти господа уж и не сознают, как любить меня, влюблены в меня все до одного». Язык спотыкается, речь переходит в лепет… «Я, признаюсь, литературой существую… тридцать пять тысяч одних курьеров!.. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш…» Простодушный Иван Александрович врал вполне бескорыстно. Неискушённый автор «Бедных людей» не менее бескорыстно старается рассказать правду. Но как раз поэтому слова его выглядят чистейшей хлестаковщиной.
Неслучайно именно в таком контексте возникает небрежное: «Минушки, Кларушки, Марианны и т. п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег» – замечание, навлёкшее на неосторожного бонвивана столько учёных подозрений[29]. Между тем – независимо от своего реального содержания – фраза эта абсолютно отвечает характеру играемой роли. Ибо ничто так не оттеняет успех, как внимание женщин. Но поскольку героиня отсутствует, делается указание на временно заменяющую её принадлежность театрального реквизита.
Впрочем, героиня может вотвот явиться.
15 ноября 1845 г., как уже было сказано, Достоевский проводит вечер у Панаевых: у Ивана Ивановича и Авдотьи Яковлевны (которые в домашнем быту именуют друг друга запросто: Жанно и Евдокси). На следующий день он сообщает брату, что, «кажется», влюбился в хозяйку дома. Так впервые (хотя и с некоторым опозданием) возникает, наконец, нота, которая, едва себя обозначив, вскоре оборвётся, чтобы вновь зазвучать только через десять лет…
Если это первая любовь (а о других нам ничего не известно), то к тому же – с первого взгляда. И взгляд этот, хоть и затуманенный душевным волнением, зорко подмечает высокие достоинства предмета («умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя»).
«Хорошенькая» – ещё слабо сказано: 25летняя Авдотья Яковлевна, судя по всему, была неотразима. Хотя, как сокрушённо замечает Чувствительный Биограф, и страдала от несовершенства мужа, «от сознания его вторичности среди окружающих его талантов». Надо полагать, что здесь содержится деликатный намёк на имеющие воспоследовать вскоре перемены. Авдотья Яковлевна – на долгие годы – станет верной подругой одного из «окружающих талантов» (а именно Некрасова) и деятельной сотрудницей его журнала. Что же касается нынешнего панаевского гостя, то по прошествии двух с половиной месяцев он подтвердит серьёзность своего чувства: «Я был влюблён не на шутку в Панаеву, теперь проходит, а не знаю ещё». То есть не знает, пройдёт ли… Впрочем, имя Панаевой больше не будет названо – никогда.
Но не возникнут более ни разу и пресловутые «Минушки и Кларушки», которые, к слову, фигурируют в том же самом письме, где речь впервые заходит об Авдотье Яковлевне (с последней эти внесценические персонажи вступают даже в некую вербальную связь: «хорошенькая… и пряма донельзя» – «похорошели донельзя»). Тема исчерпала себя так же неожиданно, как и появилась, что свидетельствует о её относительной периферийности. (В переписке современников такие подробности тоже довольно редки – не столько изза непристойности сюжета, сколько в силу его обыденности.) Дальнейшие сетования Достоевского на беспутную жизнь – жалобы, которые иные специалисты склонны трактовать в совершенно определённом смысле, могут означать всё, что угодно [30].
Приведя известный случай, когда её отец упал в обморок перед светской красавицей (мы ещё коснемся этого эпизода), Любовь Фёдоровна не без остроумия добавляет: «Период страстей у отца начинается только после каторги, и тогда уже в обмороки он не падает».
Насмешливая дочь ошибается: период страстей начался гораздо раньше. Точнее, имела место «одна, но пламенная страсть» – она-то и потеснила все остальные.
С 1845 г., по его собственному выражению, он живет «как в чаду».
Отныне и уже навсегда его биографическое время сопряжено с жёсткими сроками журнальных публикаций. Отныне он будет жить, задыхаясь от издательской гонки, стараясь поспеть в номер, растрачивая взятые вперёд деньги и вновь залезая в долги. Его бурная и краткая слава сменится, несмотря на упорство и интенсивность его творческого труда, вялым интересом к нему читающей публики, которая, как водится, быстро охладевает к недавним своим любимцам. Никогда больше не переживёт он минут, хотя бы отдалённо напоминающих восторг первых дней. Неслыханный, беспрецедентный успех будет мниться всё более случайным: он отравит ему кровь и замучит воспоминаниями. И так – вплоть до разразившейся над ним катастрофы, которая положит конец этому мучительному состоянию, позднее названному им однозначно: болезнь.
…Наконец, 15 января 1846 г. долгожданный альманах поступает в лавки книгопродавцев. Недели через две, 1 февраля, во втором номере «Отечественных записок» появляется «Двойник». И, хотя совпадение было чисто случайным, невольно могло закрасться подозрение, что расчётливый дебютант так подгадал события, чтобы шарахнуть публику сразу из двух стволов.
Как и следовало ожидать, сюжет снова двоится.
…Казалось, дразнящий ореол тайны, почти полгода мерцавший вкруг авторского чела, должен смениться, наконец, ровным свечением нимба. На деле, однако ж, не обошлось без скандала.
Достоевский ступил на литературную арену в момент относительного затишья. Совсем недавно смолкли корифеи – Пушкин, Лермонтов, Крылов… После громового успеха первого тома «Мёртвых душ» наступила томительная пауза. На подходе была новая литературная волна. Однако мужающая натуральная школа ещё не осознала себя в качестве таковой. Потребовались «Бедные люди», чтобы дело приняло серьёзный вид.
С первых шагов дебютант заявил о себе как человек партии. Вернее, так посчитали его литературные восприемники. Для Белинского «Бедные люди» явились сильнейшим художественным подтверждением его теоретической правоты. «Петербургский сборник» с первой повестью молодого автора был брошен на стол как неоспоримое доказательство. В полемической ажитации сюда же поначалу присоединили и «Двойника».
«Белинский, служака исправный, – желчно заметит А. Блок, – торопливо клеймил своим штемпелем всё, что являлось на свет Божий».
Естественно, что все противники натуральной школы, начиная с немедленно ринувшегося в бой Булгарина и кончая высокоумными и язвительными критиками «Москвитянина», – все они поспешили оповестить публику, что её ожидания жестоко обмануты. Причём если одни рецензенты отвергают само наличие дарования, другие тонко дают понять, что робкие зачатки таланта были погублены неумеренными похвалами мнимых друзей.
Реакция самого виновника этих журнальных ристаний на ещё не привычную для него печатную брань вполне отвечает правилам игры. «Сунул же я им всем собачью кость! Пусть грызутся – мне славу дурачьё строят», – пишет он брату 1 февраля 1846 г. в день выхода «Двойника». Он словно повторяет – в ещё более откровенной форме – слова Белинского, явившиеся в «Отечественных записках» тем же самым днём, 1 февраля: «…слава не бывает без терний, и говорят, что посредственность и бездарность уже точат на г. Достоевского свои деревянные мечи и копья…» «Г. Достоевский» с лёгкостью принимает эту точку зрения; для него авторитетны только мнения «наших». А все «наши», не исключая Белинского, находят необходимым признать, что самый юный из них «далеко ушёл от Гоголя».
Самого Гоголя немедленно известят о событии. Три корреспондента из России (поэт Н. М. Языков и, не сговариваясь с ним, сёстры Виельгорские) вышлют ему «Бедных людей», причём один экземпляр следует с царской почтой (двор, а вместе с ним М. Ю. Виельгорский проводят лето в Италии). Гоголь, «пролистнув» текст, обронит несколько слов в пользу таланта автора и его «качеств душевных»: сказано будет благожелательно, но скупо.
Это единственный собственноручный отзыв Гоголя о Достоевском. (А ведь им вместе жить на этом свете ещё целых шесть лет.) Возможно ли? Неужто Гоголь не вглядывается с робкой надеждой в туманную петербургскую даль, как бы стараясь различить наконец-то явившегося преемника?
18 февраля 1846 г. – ранее всех – Н. М. Языков сообщает Гоголю о появлении нового гения («какой-то Достоевский»[31]) и просит его высказать мнение относительно «Бедных людей». Книги (в том числе «Петербургский сборник»), посланные Языковым отдельно от этого письма, проищут Гоголя до июля. И хотя он уже прочёл отправленный ему Виельгорскими роман, он «не услышит» вопроса Языкова, давая понять последнему, что недоволен задержкой:
«Письмо твоё от 19 марта получил, но книг не получил; они канули бог весть где… Как нарочно в этом году так было легко получать книги: курьеры приезжали всякую неделю в Рим, всем что-нибудь привозили, одному мне ничего» [32].
Автор «Ревизора» раздосадован, как ребёнок.
«Я ничуть не виноват в неполучении тобою книг: виноват или кн. Вяземский, или Виельгорский! – срочно оправдывается Языков. – Не посланы ли эти книги во Франкфурт…» [33]
Курьеры, курьеры… тридцать пять тысяч одних курьеров! И каких – Вяземский, Виельгорский…
Но наконец книги получены – и ошалевший от ожидания Гоголь (в рассеяньи он именует присланный сборник «Невским альманахом», хотя егото Языков как раз и не посылал) может быть удовлетворён. Между тем нетерпеливый поэт вторично требует от знаменитого друга начальственной оценки «Бедных людей», извещая его попутно, что автор «из числа твоих подражателей». Казалось, теперь надо бы отозваться. Гоголь безмолвствует.
Это – невероятно.
Ещё весной 1846 г. автор «Мёртвых душ» просил Языкова сберегать его, Гоголя, письма, особенно те, в которых он касается материй литературных. Ибо автор писем не оставляет надежды подарить читателей избранными местами из своей переписки. Гоголь обещает своему корреспонденту (долженствующему немедленно возликовать от подобных посулов) почаще сообщать те мысли, «которые нужно будет пустить в общий оборот» [34].


