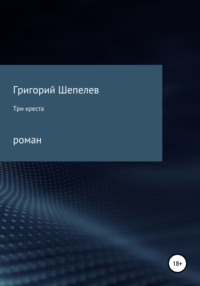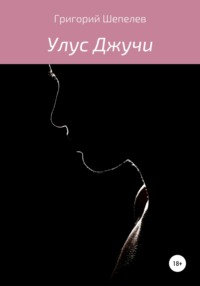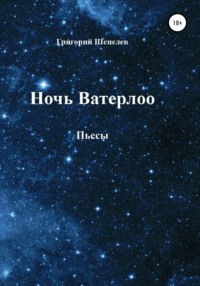полная версия
полная версияПолная версия
Холодная комната
От взгляда ведьмы по позвоночнику Юли пробежал ток, и она проснулась. В окно светила луна. Сквозь щели под рамами тянул ветер. Сердце не билось, а слабо дёргалось – как зверёк, попавший в капкан. На краю постели сидела Светка. Она курила. Пальцы её тряслись.
– Ты что, идиотка? – спросила Юля, приподнимаясь на локте.
– Мне стало страшно! Я не смогу так уснуть.
На столике у кровати стояла пепельница. Одним коротким движением погасив сигарету, Светка легла и прижалась к Юле. Та ощутила дрожь и холодный пот. Устало откинулась на подушку.
– Из-за чего тебе стало страшно?
– Да сон какой-то приснился.
– Сон?
– Да.
– Пошла вон отсюда!
– Нет, я останусь.
Сказав так, Светка закрыла глаза и сладко зевнула, рассчитывая уснуть под охраной Юли. Но та решила, что ей это всё не нравится. Она больно пихнула Светку локтем под рёбра и начала её щекотать. Светка зашипела и стала обороняться зубами. Зубы у неё оказались острыми, как у кролика. Кременцова решила не применять спортивные навыки. Так как прочих у неё не было, медсестра сразу взяла верх. Обеим от этого стало весело, несмотря на вымокшую повязку. Они смогли успокоиться только перед рассветом.
Глава двенадцатая
Проснулась Юля как от пощёчины. Бросив взгляд на будильник, похолодела. Час дня! Она принялась трясти и тормошить Светку. Какое там! Тощая, проспиртованная развратница лишь сопела и бормотала вздор, болтаясь, как обезьяна из поролона. Между тем, времени оставалось только на то, чтоб ополоснуться, одеться и продрать щёткой взрыв макаронной фабрики на башке – как-никак, не на карнавал предстояло ехать! Засунув Светку обратно под одеяло, чтобы ей крепче спалось, Юля за пятнадцать минут проделала все три дела, а после них – ещё два: достала из сейфа ствол с запасной обоймой и написала Светке записку следующего содержания: «Дверь никому ни под каким видом не открывать, квартиру ни на одну секунду не покидать, по шкафам не лазить, а то по заднице надаю!» Приклеив записку скотчем к зеркалу в ванной, выбежала, и, крепко заперев дверь на все три замка, отправилась в путь.
Погода стояла пасмурная. Дул ветер. Он пробирал до костей, хоть на Кременцовой были колготки, юбка почти до щиколоток и куртка, надетая поверх кофты. Стуча зубами на остановке и прижимаясь лбом к заднему стеклу переполненного троллейбуса, Юля думала, что, наверное, тепло будет Алексею Григорьевичу в земле, потому что он холоднее её гораздо, а через месяц, когда ударит мороз, от него уже ничего практически не останется. Старый, лязгающий троллейбус полз, тормозил, распахивал двери. Люди входили и выходили. Стекло потело и прояснялось. Ещё одна недурная мысль шла Юле на ум: а как можно жить, никогда ни с кем не прощаясь? Сколько людей пробегает мимо! С каждым прощаешься. Хусаинов – один из них. Это грустно, но до конца понять человека можно только тогда, когда его уже нет на свете. И это грустно, но только грусть беспредельна. Только за ней не стоит стена.
В метро размышления Кременцовой сделались неразборчивыми и вялыми. До Кузнецкого она ехала сидя, до Юго-Западной – стоя. Поднялась злющая. Возле выхода толпа баб пыталась продать цветы. Сунув в рожу самой противной из них своё удостоверение вместо денег, оставленных во вчерашней юбочке, Кременцова выбрала десять роз. Заодно спросила, на чём доехать до Востряковского кладбища. Ей назвали номер автобуса. Ждать его пришлось пятнадцать минут, поэтому Юля опять замёрзла и опоздала к началу заупокойной службы.
– А где платок-то твой, милая? – преградила ей путь в дверях кладбищенской церкви бабка, чем-то похожая на ограбленную цветочницу, – здесь тебе не публичный дом! Это божий храм! Совсем опаскудилась! Без платка в храм прётся! А ну, пошла, пошла вон отсюда! Зараза!
Юля опешила. Она видела Алексея Григорьевича в гробу, видела друзей и коллег, стоявших со свечками возле гроба, слышала пение, возносящее помыслы выше звёзд, однако всё это было заслонено от неё какой-то беззубой пастью, тявкающей ей прямо в лицо что-то непонятное про какой-то платок. На подмогу ей пришёл Бровкин. Что-то шепнув жене, стоявшей с ним рядом, он подошёл к старухе и объяснил, что Юля – не замужем.
– Ну, так что ж, что не замужем? – захлебнулась визгом старуха, получив некоторую поддержку со стороны ещё трёх, – говорю – не ходят в храм без платка! Не ходят! Вон, посмотри – пречистая Богородица на иконе и та в платочке! А эта дрянь без платка припёрлась! Паскудство это! Я говорю, не место ей в церкви нашей, апостольской!
– Богородице – тоже, – сказала Юля, и, оттолкнув заткнувшуюся старуху, приблизилась к Богородице. С полуметра всмотрелась в её глаза. Семнадцатилетняя мать Христа смотрела с печалью – более неутешной, чем материнская. Видимо, она знала, сколько людей будет перебито, замучено, сожжено и ослеплено во имя того, кого она прижимала к своей груди. А вот младенец-Христос смотрел озадаченно. Мир, должно быть, предстал ему не таким, каким представлялся с облака. Не иначе, всё оказалось ещё во много раз мельче.
Сообщив Юле, что отпевание скоро уж завершится, Кирилл подвёл её к гробу. Дал ей свечу. У гроба стояло человек сорок, и столько же – чуть подальше. Юля узнала весь руководящий состав Московской прокуратуры и двух медийных красавиц из Генеральной. Она увидела всех своих, от Инны Сергеевны и Егора Семёновича до уборщицы Таньки и секретарши Машки. Был и Андрюшка. Был и Перинский, уже вдрызг пьяный. Был Николай Петрович – тот самый следователь, которым Юля пугала в больнице Аньку. Почти все женщины плакали.
– Со святыми у-по-кой, – тянул басом дьякон. Ему подтягивали две девушки – судя по голосам, не меньше чем выпускницы вокального факультета Гнесинки.
Алексей Григорьевич был красив, хоть слишком напудрен. Однако, не было ощущения, что он может открыть глаза, улыбнуться, встать. Совсем не было. К Кременцовой шагнул Перинский. Шмыгая носом, он положил ей на плечо руку. Из бокового кармана его ветровки торчала бутылка виски. Инна Сергеевна не смотрела на Кременцову. Её большие глаза блестели от слёз, но тушь не была размазана.
– Юлька, Юлька, – надрывно скулил Перинский, трясясь в рыданиях на плече готовой убить его Кременцовой. Видимо, никаких других слов он вспомнить не мог. Когда отпевание завершилось, стали прощаться. Все целовали белый венец на лбу мертвеца. Перинский поцеловал раз двадцать, твердя при этом со всхлипами: «Юлька, Юлька!» Его оттаскивали втроём. Юля, наклонившись, не удержала слезинку. Она упала на длинный нос Хусаинова и скользнула вниз по его щеке, размывая грим. Свеча в сложенных руках покойника наклонилась. Её поправила дама из Генеральной прокуратуры.
А потом два могильщика стали прибивать к гробу белую крышку. Стук молотков звучал нестерпимо. Из свода он возвращался сплошным, раскатистым звоном. Гроб понесли к могиле Кирилл, Николай Петрович, Егор Семёнович и Перинский. Рядом с последним шёл, страхуя его, капитан Науменко – самый лучший в Москве кинолог. Могилу вырыли ещё утром. Дно её было устлано красно-жёлтым ковром из листьев, кружившихся над погостом.
– Мягко будет ему, – пробормотал кто-то, когда опускали гроб. Две или три женщины зарыдали. Каждый бросил на гроб по горсти земли. Достали платки, чтоб вытереть руки. Могильщики не спеша взялись за работу. Дышалось очень легко. Было очень тихо. И очень пасмурно. Юле захотелось уйти. Затравленно оглядев редкий лес крестов, холодно мерцавший под серым небом, она приблизилась к Бровкину и шепнула:
– Кирилл! Эксперты что говорят?
– Какие эксперты? – косо взглянул на Юлю Кирилл, которому перед этим что-то шептала на ухо Карнаухова.
– Про икону что говорят эксперты? Скажи, пожалуйста! Очень нужно.
Инна Сергеевна отошла. Старший лейтенант помолчал с минуту, вслушиваясь в отрывистый, методичный скрежет лопат, и проговорил:
– Ничего особенного.
– Как так?
– Ну, оклад – из меди, начало прошлого века. Доска – не помню, из чего сделана. Я тебе позвоню.
Юля попрощалась только с Андрюшкой, и то кивком, потому что он стоял с другой стороны могилы. Шла, не оглядываясь. Шла быстро, хлюпая – но не носом, а липкой сукровицей в ботинке. И даже если бы она знала, что никогда более не увидит ни одного из этих людей, столпившихся у могилы – не обернулась бы всё равно. Ей не было грустно. Ей было плохо.
Оказавшись на улице, она вспомнила про охапку роз, которую до сих пор держала в руках. Но не возвращаться же было! Доехав до Юго-Западной, она молча вернула розы цветочнице, побелевшей от страха, и, провожаемая тревожным шёпотом всего рынка, бегом спустилась в метро.
От транспортной остановки к дому она хромала. Сукровица при этом чавкала так, что люди смотрели – притом сначала на ногу, и лишь затем поднимали глаза к бледному лицу растрёпанной, худой девушки в длинной юбке. Возле подъезда опять стояла толпа подростков. Они разглядывали громадный джип – «Тойоту Лэнд Круизер», припаркованный так, что к подъезду можно было пройти лишь боком.
– Что за мудак так ставит машину? – крикнула Кременцова, зверски ударив левой ногой по бамперу, – что за сука?
– Да два каких-то мордоворота и коротышка в очках, – сказали мальчишки. Юля остановилась и поглядела на них.
– Коротышка – худенький? С кривым носом?
– Да. И плешивый. Так это что, дружбаны твои?
Юля поднялась к себе на этаж пешком. На площадке, к счастью, ни одна лампочка не горела. Чуть отдышавшись, Юля сняла ботинки, вынула пистолет, и, щёлкнув предохранителем, осторожно подошла к двери своей квартиры. На плитках пола остались гнойные отпечатки ее ступни. Нога без ботинка болела меньше, но её состояние после долгой ходьбы было ужасающим.
Тишина за дверью не успокоила Кременцову, так как стальная дверь имела хорошую, с двух сторон, обивку. Достав ключи, Юля очень тихо открыла все три замка, и, тихо вдохнув, с нажатием ручки рванула дверь на себя.
Светку убивали на кухне. Бил её, лежавшую на полу, маленький бухгалтер. Ногами. Она стонала гораздо тише, чем он дышал. Пижама на ней была вся пропитана кровью, и на полу были пятна – свежие, алые, и подсохшие, тёмно-красные. Коротышка махал ногами осатанело. Удары шли по вискам, по рёбрам, по почкам. Два рослых гопника, сидя за пластиковым столом, который Юля купила всего неделю назад, курили, скучали. Один из них говорил о чём-то. Кажется, не о том, что происходило. Первым заметил Юлю бухгалтер. Он замер и заорал:
– Стреляйте, стреляйте! Это она!
Его крик был лишним – оба уже вскочили, выхватив пистолеты. Лейтенант Кременцова стреляла не так блистательно, как дралась. Но и не так скверно, как занималась сексом. Болтливого молодца она уложила выстрелом в лоб. Второго, который ей показался вовсе несимпатичным, изрешетила пулями. Шесть из них были точно лишними. Коротышка с визгом полез под стол. Подняв Светке веко и вызвав Скорую, Юля извлекла его на свет божий и начала выламывать ему руку. Он ей всё рассказал – нестерпимо громко, но вполне внятно. Суть была такова. Обидевшись на неё, он призвал на помощь бандитов, которые крышевали Люблинский рынок. Сошлись на тысяче долларов. Отморозки встретились с Эльсинорой. Она дала им визитку. Открыла Светка сама.
Последнее показалось Юле невероятным. Однако, поразмышляв, она пришла к выводу, что её подружка ещё спала, когда пришли суки, и дверь открыла спросонок. Чёртова идиотка! Чёртова дурочка!
Размозжив коротышке голову сковородкой, лейтенант Кременцова одним движением сорвала со Светки липкие тряпки и широко раскрыла глаза. Да, она должна была это видеть. Иначе было нельзя. Прекрасная медсестра уже не стонала. И не дышала. В её огромных глазах с длинными ресницами почему-то не было ничего, кроме удивления.
– А кого тут откачивать? – с тем же чувством спросила, осмотрев трупы, девчонка с красным крестом на спине – та самая, поза-позавчерашняя.
– Уж, во всяком случае, не меня, – ответила Кременцова, и, встав с колен, приставила пистолет к своему виску. Глаза медработницы стали злыми.
– Брось пистолет! А ну, брось! Я кому сказала? Вот дура!
Юля изо всей силы втиснула ствол в висок, чтоб раздавить болью протесты жизни, безжалостно вырываемой из красивого, молодого, сильного тела. Боль получилась адская. Палец сам нажал спусковой крючок.
Часть вторая
Поломка шпаги
Глава первая
К концу рабочего дня торговля возле метро «Электрозаводская» оживлялась. На площади с беспорядочными рядами ларьков становилось тесно. Люди потоками шли к метро, к Макдональдсу, к остановкам и электричкам. Две буквы «М» озаряли с двух сторон рынок после захода солнца. Одна, поменьше, обозначала метро, другая – Макдональдс. Она сияла выше всех окрестных домов. На площади можно было,казалось, купить абсолютно всё, что угодно – от семечек до дублёнки с канадским лэйблом. Больше всего продавалось фруктов и овощей, а также цветов. Было два ларька с аудиокассетами. Многие продавщицы, даже с провинциальным акцентом, пользовались такой популярностью у студентов рядом стоящего Института автомеханики, что курили только их сигареты и ели всякую всячину из Макдональдса, не сходя с рабочего места. Эта романтика приносила выгоду и старушкам, которые собирали бутылки около станции.
На другой стороне Большой Семёновской улицы, подле универмага «Хозяйственный», стоял в те года ещё один рыночек. Он имел тот же профиль, что и универмаг. Несколько десятков складных палаток располагались двумя рядами. Те, кто в них находился, также частенько распространяли запах спиртных напитков, как правило, зимой – водки, а летом – пива. Но всё здесь было культурнее, чем на той стороне дороги. Рынок давал, таким образом, неплохую прибыль двум близстоящим кафе, а ещё бомжам со всего района, каждое утро возившим ящики и мешки с товаром от складов к рынку, и каждый вечер – обратно. Некоторые торговцы предпочитали, правда, бомжам с телегами свои собственные машины. Но загружали и разгружали этот ходячий металлолом, опять же, бомжи. Складами служили окрестные гаражи, котельные и подвалы. Кроме бомжей, по рынку вечно слонялись, и не без цели, ничуть не менее обворожительные ребята, коих легко было бы принять по лицам и по манерам за убежавших из тюрьмы урок, не будь они в милицейской форме и с автоматами. Настоящие урки на этом рынке не появлялись. Им привозили деньги туда, где они хотели их получить.
Стоял ледяной, бесснежный ноябрь. Один из дней его первой трети склонялся к сумеркам. Ветер с севера гнал и укреплял стужу. Несколько торгашей, напяливших недостаточное количество свитеров под ватники и тулупы, уже сворачивали палатки, решив, что вечерний клёв маловероятен. Бомжи, хрипло матерясь, со звоном и грохотом взгромождали ящики на телеги. Морозостойкие торгаши даже и не думали собираться. Минус семнадцать с ветром были для них ещё ерундой. Вдобавок, их грел хит года – песня «Как упоительны в России вечера», нон-стопом звучавшая из машины Лариски, самой скандальной на рынке личности. Им казалось, что над Москвой сгущается именно такой вечер. К числу романтиков относился парень в ватных штанах, унтах и бушлате, натянутом на другой бушлат, четырьмя размерами меньше. Его палатка располагалась близ угла магазина. Он торговал наждачкой, скотчем, перчатками, отрезными кругами для шлиф-машинки и изолентой. Справа была палатка с сантехникой. Сосед слева специализировался на проводах, розетках и выключателях.
Скоротечный, бледный закат погас над домами. Слоняясь перед своей палаткой, парень смотрел рассеянно на людей, идущих по рынку, и на машины, которые еле-еле ползли по Большой Семёновской. Иногда смотрел на Макдональдс, глотая слюни. Он пробежался бы до него, не будь там очередей и не будь на свете закона подлости: отойдёшь – сразу налетят покупатели, а соседи могут лишь присмотреть за товаром. Жёлтая «М» мерцало под самыми облаками, мчавшимися на юг сквозь яркое зарево мегаполиса. Под тоскливую песню она была бесподобна. Небо темнело и наливалось морозной зеленью. У метро, насколько можно было заметить издалека, торговля шла бойко. А здесь пока ещё ничего подобного не было. Грея руки в карманах ватных штанов, продавец наждачки сопел сквозь ледышки в носу и думал-гадал, не начать ли сборы. И тут к нему подошёл его сосед справа, студент-заочник Алёшка. Все почему-то именно так вот и звали его – Алёшка, а никакой не Лёшка, как других Лёшек. Он пил быстро остывающий кофе из крышки термоса и грыз вымерзший пирожок.
– Как дела, Матвей?
Вынув из руки Алёшки стаканчик и сделав пару глотков, Матвей дал ответ:
– Херово.
– Так ведь к тебе только что очередь на два километра стояла!
– Три мудака.
– Вообще ничего не взяли?
– Ты сам всё видел.
– Я в это время польский смеситель втюхивал.
– Втюхал?
– Да как сказать… За триста семьдесят пять отдал.
Матвей рассмеялся. Вернул стаканчик.
– Алёшка! Ирка за это дело тебя убьёт. Она ведь на польские строго держит четыре сотни!
– Но ведь она не узнает!
– Ах ты, наивный чукотский мальчик! Ирка-то не узнает? Да у тебя сейчас уже голосок дрожит, а если она к тебе подойдёт и спросит, почём ты, сука, отдал смеситель, у тебя будет только один вариант – сказать, что ты видел, в какое место Женька ей засадил между гаражами. Тогда она башку тебе враз откусит, а не отпилит пилкой от своего швейцарского лобзика украинской сборки!
– Я ей скажу, что ты это видел и растрепал всему рынку, – не растерялся Алёшка. К приятелям подбежал щупленький блондин из палатки слева, возле которой стояло несколько человек. Размахивая полтинником, он взмолился:
– Парни, махните! Позарез надо!
– Денис! – воскликнул Матвей, отсчитывая десятки, – ты меня бесишь! Сколько у тебя взяли провода? Опять бухту?
– Две! Два на полтора! Ну скорей, скорей, а то уйдут к Славке!
Схватив купюры, Денис помчался к своим клиентам. Матвей с Алёшкой, облизываясь, следили, как он отдаёт им бухты и берёт деньги. Через минуту счастье свалилось и на Матвея. Толстый очкарик, остановившись возле рулонов наждачки, стал отгибать углы.
– Ты её не мацай, – строго сказал Матвей, поняв: дохлый номер. Даже и не взглянув на него, очкарик продолжил щупать наждачку. Вяло спросил:
– Почём?
– Вся по-разному.
– Ну, допустим, восьмидесятка.
– Семьдесят рублей метр.
– А что так дорого? На Каширке – по шестьдесят!
– Туда надо ехать.
– Логично. Ладно, уговорил! Отрежь сантиметров двадцать.
– Пошёл отсюда!
– Что ты сказал? – поглядел очкарик поверх очков. Матвей объяснил на пальцах. Клиент ушёл, назвав его идиотом.
– Как ты определяешь их прямо сходу? – спросил Алёшка, засунув крышку в карман и натянув варежки.
– У него хороший учитель есть, – объяснила бежавшая мимо девушка в белых валенках и дублёнке. Это была Лариска – любительница тоскливой музыки, профильный конкурент Алёшки и Ирки. Остановившись, она продолжила:
– Лучший в мире преподаватель хамства! Звать его Боря. А кстати, где он? Заболел, что ли?
– Понятия не имею, – сказал Матвей. Лариска в знак осуждения громко фыркнула и махнула тонкой рукой в перчатке.
– Эх, вы, напарнички! Дай-ка мне сигаретку.
Матвей достал из-за пазухи пачку «Мальборо Лайт». Лариска с Алёшкой, подышав на руки, взяли по сигарете и закурили.
– Куда бежишь-то, Лариска? – спросил Матвей, убрав сигареты. Ему курить не хотелось.
– В кафе бегу. Мне в машине холодно – Димка с Ванькой дверь открывают, чтобы им музыку было слышно! Должна же я иногда хоть немножко греться? У меня жопа смёрзлась!
– Есть на что греться?
– Конечно, есть! Ведь я не хамлю клиентам.
– По чём ты гонишь железные вертикалки? – спросил Алёшка.
– По сорок пять, – сказала Лариска, вдруг поперхнувшись табачным дымом.
– По сорок пять? – вознегодовал Алёшка, – Лариска, что за дела? Ведь мы же договорились – полтинник держим!
– Вот именно! – погрозила пальцем Лариска, стуча ногой о другую ногу, – а ты вчера их гнал, сволочь, по сороковнику! Думаешь, у меня разведка слабее, чем в Пентагоне? Матвей, серьёзно, почему Борьки нет?
– Откуда я знаю?
– Неплохо было бы знать.
– А зачем?
– А затем, что Боря чует беду как крыса. На вашем месте, мальчишки, я бы снялась.
С этими словами Лариска надвинула конкуренту шапку на самый нос и возобновила свой путь в кафе, забавно семеня ножками в больших валенках.
– Конечно – я, как дурак, снимусь, а она тут, сучка, лопатой будет бабло грести до восьми часов, – проворчал Алёшка, поправив шапку, – как бы не так!
– Она что-то знает, – проговорил Матвей, глядя вслед Лариске.
– Да что она может знать?
– Понятия не имею. Но что-то знает.
– Какая разница? Уже пять часов.
Матвей понял, что у Алёшки есть разрешение на торговлю. Так как к последнему вскоре подошёл покупатель, чтоб попытаться вернуть бракованную кран-буксу, Матвей направился к двум весёлым парням – Володьке и Сашке, которые торговали напротив бытовой химией, и спросил у них:
– Парни, вы разрешение брали?
– Мы что, похожи на идиотов? – спросил Володька. Сашка прибавил:
– Если менты захотят забрать – с одним разрешением не отбрешешься! Они вспомнят про накладные, сертификаты, ценники, чеки, приходники, и так далее. Ты сам знаешь! Всем этим просто не напасёшься.
– А если даже и напасёшься – нашего рынка на карте города нет, – напомнил Володька.
Матвей, вернувшись в свою палатку, начал потихонечку собираться. Совсем стемнело. С неба глядели звёзды. Ближе к шести начался наплыв, которого ждали. Складывая палатку, Матвей продал десять пар перчаток и метр наждачки. Алёшка не успевал обслуживать покупателей, Денис – тоже. Поколебавшись, Матвей решил приостановить сборы. Он сел на ящик и закурил. Примерно в эту минуту на рынке вдруг появился Женя – руководитель дружного коллектива. Он уже седьмой год регулировал отношения рынка с властью в лице различных организаций и держал с Иркой, своей любовницей, пять палаток. Хоть его продавцы бессовестно воровали, ему хватало денег на казино, рестораны и проституток ростом под метр восемьдесят, а Ирке – на «мерседесы», которые она каждый год меняла, и длинные сигареты. Увидав Женю, переходящего из палатки в палатку, Матвей поднялся.
– Гляди, Алёшка! Чего-то Женька забегал.
Алёшке было не до Матвея и не до Женьки. Он считал кэш и распределял его по карманам. Перебирая крупные, всполошился.
– А? Что? Чего?
– Дурак, что ли? Женя идёт! Не свети ты бабки!
Запихнув деньги в задний карман, Алёшка перебежал в палатку Матвея, верхняя часть которой была разобрана. Вслед за ним туда вошёл Женя.
– Привет, архаровцы, – сказал он, потирая руки, – с вас – по полтинничку.
– В честь чего? – не понял Матвей, – сегодня, вроде, не вторник.
Женя вздохнул, закатил глаза и ответил:
– Завтра – любимый народный праздник!
– А, день Милиции! – раздражённо сплюнул Алёшка, будто увидев какую-то несусветную дрянь.
– Во-во! Абсолютно точно. Так что, Матвей, не жадничай – если эти скоты нажрутся не коньяка, а водки, от их похмелья нам будет плохо.
– Да я не жадничаю, – с досадой сказал Матвей, – только бы похмелье уже сегодня не началось!
Красивое, горбоносое лицо Жени изобразило недоумение. Ледяные глаза пристально уставились на Матвея.
– С чего ты взял?
– Да Лариска смутно так намекала.
– Лариска? Сестра Вадима?
– Конечно. У нас других Ларисок не водится.
– Да откуда она может что-то знать? – поморщился Женя, сунув полтинники в боковой карман короткой дублёнки. Он был повыше ростом Матвея и лет на восемь постарше. Зимой и летом носил картуз типа офицерской фуражки, но только меньше диаметром. Эта провинциальная ерунда очень импозантно смотрелась на его светлых вихрах.
– Во всяком случае, я пока ничего об этом не знаю. И менты тоже в данный момент ничего об этом не знают. В данный момент. Без приказа сверху – с очень большого верху, они сюда не припрутся. Пока такого приказа нет.
– Скорее всего, сегодня уже не будет, – предположил Алёшка, – уже почти шесть часов.
– Ну, гипотетически всё возможно, – произнёс Женя, вяло пожав плечами, – однако, я ничего об этом не слышал. Понятно?
– Да, как всегда, – ответил Матвей, и Женя пошёл к Денису. Алёшка вновь вернулся к делам. Матвей опять сел на ящик и призадумался. Через три минуты к его палатке подошла женщина.
– Почём скотч? – спросила она. Матвей не ответил ей. Он смотрел на синий автобус, въезжавший на территорию рынка с Большой Семёновской.
– Ты глухой? – вспылила клиентка.
– Нет, я тупой, – ответил Матвей и выбежал из палатки. Два-три десятка его коллег, заметивших милицейский автобус раньше, уже столпились возле одной из палаток Жени. В ней была Ирка – вздорная баба лет сорока, чуть что принимавшаяся орать. Матвей разобрал с противоположного конца рынка каждое её слово: