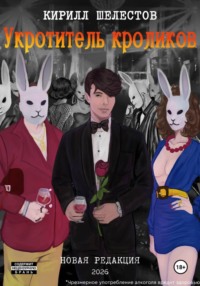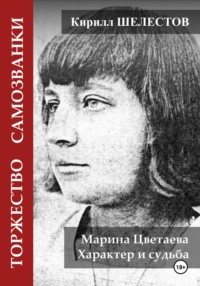Полная версия
Смерть Отморозка
–По-твоему, лучше быть на стороне сильных и богатых, Поль? – в голосе Жана-Франсуа прозвучал сарказм.
–Нет, Ваня, я на стороне талантливых, трудолюбивых, красивых и здоровых. Их в мире осталось очень мало, это – вымирающий вид. Их нужно беречь, а не толстых, старых и праздных. Что касается богатых, то не стану рассуждать про Европу и Америку, там своя история, но на моей родине богатые – это в подавляющем большинстве жадные, отвратительные пиявки.
–Но ведь ты сам – богатый человек, Поль,– вдруг усмехнулся Жан-Франсуа, обнажая свои мелкие неровные зубы. – Разве нет?
Это был неожиданный и неприятный выпад; он будто укусил. Норов нахмурился.
–С чего ты взял, что я богат, Ваня? Потому, что я расстаюсь с деньгами легче, чем окружающие?
–Он вовсе не хотел вас обидеть, месье Поль,– испуганно вмешалась Лиз.– Ведь правда, шери? Он просто не так выразился…
Норов заставил себя улыбнуться.
–Конечно, хотел. Но я на него не сержусь.
–Не стоит воспринимать буквально все, что говорит Павел,– вмешалась Анна.– Когда я работала у него, я лично по его распоряжению переводила миллионы на благотворительность. Мы финансировали дома престарелых, специальные учреждения для детей-инвалидов, да кому только мы не помогали! Мы тратили огромные деньги…
–И поступали очень глупо!– перебил Норов.– Чем больше ты раздаешь нищим, тем больше их становится. Помнишь директрису фонда для умственно отсталых детей, которой мы вгрузили кучу денег? – спросил он, переходя на русский. – Такую толстую, решительную носатую тетку, убежденную, что в мире нет ничего важнее, чем спасение мелких идиотов?
–Конечно, помню. Она твердила, что нельзя ждать за это благодарности, – это дело совести каждого.
–Подразумевая, что это долг каждого. Удобная позиция для получателя, согласись?
Он перевел Жану-Франсуа и Лиз смысл этого короткого обмена репликами и продолжал уже по-французски.
–У этой достойной дамы было трое ненормальных детей от разных мужей. Все трое содержались за счет благотворителей в специальном заведении, которым она руководила. Так вот через некоторое время она родила четвертого, опять ненормального. Выходит, я да и другие жертвователи энергично способствовали разведению ее неполноценного потомства!
–Ты действовал в соответствии со своими тогдашними убеждениями,– возразила Анна.– Что же в этом плохого? Мне кажется, когда человек живет в соответствии с принципами, это достойно уважения.
–Да, но жаль, что я так долго придерживался ошибочных убеждений.
–По-вашему, никому вообще не нужно помогать? – простодушно спросила Лиз.– Совсем-совсем никому?
По тону вопроса Анна догадалась, что Лиз переживает за себя, и что ей, как и Жану-Франсуа, не раз случалось пользоваться щедростью Норова. Беспокойство, прозвучавшее в ее вопросе, показалось Анне забавным.
–Не знаю, – отозвался Норов. – Может быть, никому.
–А я считаю, что правильными были твои прежние убеждения,– возразил Жан-Франсуа.
Норов только усмехнулся, показывая, что считает бесполезным продолжать этот спор.
* * *
В секцию по плаванью Павлика привела мать. Она опасалась, что он останется маленьким, как она сама, а плаванье, как она считала, способствует росту.
Плаванье Павлик не полюбил. Вода в бассейне всегда оставалась холодной, и он начинал стучать зубами, уже выходя из душа. Очков в ту пору не было; хлоркой выедало глаза до рези, до красных прожилок. Но, чувствуя ответственность перед матерью, он не мог бросить и не пропускал тренировок, даже на каникулах, когда приходилось заниматься дважды в день.
Мать приходила на соревнования, в которых он участвовал, приводила с собой сестру, и обе болели за него. Если Павлуша выигрывал, то мать устраивала в его честь обед и пекла шарлотку. Сестра присоединялась к ее поздравлениям, но не вполне искренне; кажется, она считала, что он и так слишком задается. Сама Катя, в отличие от брата, спорт не любила, зато прилежно занималась музыкой.
Тренировала детскую группу рослая крупная широкоплечая женщина топорной внешности, с грубым трубным голосом. В свое время она была «спинисткой», чемпионкой России на длинной дистанции; оставив плаванье, сильно раздалась или, как она сама выражалась, «закабанела». Звали ее Галина Николаевна, воспитанники за глаза называли ее Галькой. Она немилосердно распекала их за лень; особо нерадивые наказывались после тренировки дополнительными десятью бассейнами баттерфляем и сотней отжиманий на суше.
У Норова долго не шел брасс, для дельфина ему не хватало силы, а вот на спине выходило совсем неплохо. Всего полгода понадобилось ему, чтобы со второго юношеского перейти на первый, затем на третий взрослый, хотя в комплексе он еще до третьего не дотягивал. Гальке нравилось его упорство. В группе он был единственным спинистом, и она относилась к нему с симпатией, то ли по родству душ, то ли потому, что он был самым мелким. Это не означало снисхождения с ее стороны, наоборот, на тренировках ему доставалось чаще, чем другим.
–Норов, хватит сачковать! – зычно кричала она, перекрывая гул бассейна.– Ну-ка, включай ноги, лентяй, а то сейчас зад утонет! Может, тебе его скипидаром намазать? Давай, работай! Как кит иди, а не как топор!
На соревнованиях, когда Павлик выходил на последний четвертак, она, не выдержав, срывалась с места, и, рыся вдоль бортика, надрывалась:
–Финиш! Финиш, Норов! Ну же! Давай!
И Павлик давал. Он швырял в воду уже бессильные руки, взбивал вялый фонтанчик непослушными согнутыми ногами, рвался из последних сил, из дыхания, из секунд. Когда он приходил первым и, отдышавшись в воду, вылезал из бассейна и снимал резиновую шапочку, Галька встречала его у лесенки и трепала по мокрым волосам.
–Сойдет в темноте за третий сорт,– одобрительно ворчала она.– Кит.
Ее похвалой Павлик гордился. Он знал, что он не кит, но сдаваться не умел. Волосы у него были непокорными и торчали даже мокрыми.
* * *
В школе, благодаря отличной учебе и общественной работе, Норов пользовался авторитетом. В спортивной секции все было иначе; тут решала сила, выносливость, ловкость, – всего этого Павлику от природы не хватало. Своевольный самолюбивый характер порой становился причиной его конфликтов с другими ребятами, но драться он не умел, и из-за этого попадал в неприятности.
Лето юные пловцы проводили в спортивных лагерях, – это был суровый быт. На берегу узкой речки ставились большие брезентовые палатки, в которых ребят расселяли человек по тридцать. Днем в палатках стояла жара, ночью дети мерзли под тонким одеялом. Окна и двери не закрывались, комары ели поедом, кусали даже через простыню.
Как правило, ребята проводили в лагерях по месяцу, но мать оставляла Норова на два. Эти лагеря Павлик в глубине души ненавидел, и из-за бытовых неудобств, и из-за выматывающих трехразовых тренировок каждый день, но главное – из-за несвободы, – постоянного пребывания в чуждой ему среде. Он раздражался и задирался больше обычного.
Как-то парню из старшей группы, дежурившему по палатке, не понравилось, как у Норова заправлена постель, и он велел, чтобы тот ее перестелил. Норов отказался, ему казалось, что с постелью все в порядке, к тому же он не любил, когда ему приказывали.
Особой дедовщины в лагере не было, но само собой подразумевалось, что прав у старших больше. Парень был крупнее Норова, он дал ему обидный подзатыльник. Норов в ответ неловко его отпихнул. Тогда тот ударил Норова в лицо.
Норов бросился на него, сжав кулаки, но стукнуть как следует не смог, он не умел драться. Парень перехватил его руку, выкрутил, швырнул его на постель. Норов вскочил, глядя на обидчика ненавидящими, сверкавшими глазами.
–Перестилай постель! – приказал тот.
Теперь она действительно была смята.
–Не буду!
Парень вновь его стукнул. Норов хотел ответить и опять не сумел. Не зная, что сделать и не в силах терпеть, он плюнул в парня и попал прямо в лицо. Взбешенный, тот врезал ему крепче и разбил нос. Потекла кровь, Норов почувствовал ее на губах и опять плюнул.
Эта нелепая сцена продолжалась несколько минут. Парень бил Норова опять и опять, а тот стоял, не защищаясь, перемазанный кровью и слезами; всхлипывал уже в голос, но не уклонялся и на каждый удар отвечал плевком. Белая рубашка парня была вся в красных подтеках. Наконец, другие ребята их разняли.
Кто-то из мелюзги стукнул об этом происшествии Гальке, и через два дня она вызвала обоих к себе.
–Что там у вас приключилось? – хмуро поинтересовалась она.
–Ничего,– ответил старший парень.
Норов молчал, избегая смотреть на Гальку.
–Он тебя бил? – спросила его тренер.
–Нет,– буркнул Норов, не поднимая головы.
–Ты его бил? – обратилась тренерша к парню.
–Нет,– поспешно ответил тот.– Я просто сказал ему, чтобы он кровать переправил…
–А он?
–Он отказался.
–А ты?
–А я… ничего… Просто отошел.
–Хорошо, что не бил,– кивнула Галька и вдруг дала парню такую увесистую затрещину, что у него лязгнули зубы.
–Вы че деретесь?! – взвыл он.
–Я не дерусь,– внушительно возразила Галька. – Если я тебя стукну, ты не встанешь. Я тебе доходчиво объясняю, что маленьких бить нельзя. Понял, дубль?
Слово «дубль» заменяло ей грубое «дурак».
–Понял,– обиженно сопя, ответил он.
–Валите восвояси.
Они двинулись к своей палатке.
–Галька, блин! – сердито выговорил парень, когда они отошли.– Лошадь, блин!
Кажется, он ожидал от Норова сочувствия.
* * *
–Какие же они разные! – с улыбкой покачала головой Анна, когда они с Норовым ехали в машине выпить по бокалу вина в один из соседних городков.
–Я тебе говорил,– кивнул Норов.– Они мне почти как родственники.
–Но, знаешь, мне не понравилось, что Жан-Франсуа тебя задирает…
–Не обращай внимания,– беззлобно отмахнулся Норов.– Это французский стиль; они же петухи, задиры, но не агрессивны.
–Он всегда так эмоционально говорит о музыке?
–Иногда гораздо более прочувствованно. Сегодня он был не в самом музыкальном настроении, должно быть, возбудился из-за твоего приезда. Вообще у него очень подвижная психика, он то взволнован, много болтает, то тихий, рассеянный.
–Ну да, понимаю, творческий человек. И все же это было как-то… не очень по-дружески…
–В нем есть обида на человечество, которая иногда выплескивается на тех, к кому он хорошо относится. Он ведь пережил настоящую драму. Лет десять назад он был подающим большие надежды дирижером, можно сказать, восходящей звездой. Однажды даже выступал в Париже, где-то за границей, чуть ли не в Берлине, словом, ему доверяли руководить серьезными оркестрами. В ютьюбе много его записей, посмотришь потом, если захочешь.
–Что же случилось?
–Дирижерство казалось ему чем-то второстепенным, он же считал себя великим композитором. Он сочинял авангардную музыку, которую никто, однако, не желал исполнять. Ваня что-то записал в ютьюбе, предложил ее туда и сюда, повсюду получил отказ и в раздражении решил доказать окружающим, какие они болваны. Он начал дирижировать, как он сам мне признавался, со скрытым сарказмом, ну, как-то иначе расставлять акценты. Он несколько раз пытался мне объяснить, но я, откровенно говоря, мало что запомнил. Смысл такой, что там, где нужно «ля-ля-ля», он давал «ля-ля-бам!». Публике это нравилось меньше. Ване об этом сначала намекали, потом говорили открыто, но он упорствовал. И его попросту перестали приглашать.
–Загубить карьеру из-за одного только упрямства?
–Неразумно, согласен. Но это было лишь начало его проблем. Как водится, именно в эту минуту его бросает жена, которую он страстно любил.
–Почему бросила?
–Женщины вообще очень чувствительны к успеху, а его бывшая жена – яркая дама с очень сильным характером. Она увлеклась другим… С ней осталась дочь. Ваня к девочке очень привязан; во Франции отцы часто более чадолюбивы, чем матери. Он страшно переживал, начал попивать, сорвал несколько выступлений и ему не продлили контракт. И вместо того, чтобы сделать правильные выводы, как выражаются в России, он разобиделся, хлопнул дверью и вообще ушел из большой музыки. Должно быть, в глубине души он надеялся, что все кинутся его уговаривать и умолять вернуться. Но никто, конечно же, не кинулся.
–Как все это по-детски!
–В Ване очень много детского. Что ты хочешь от музыканта! Дальше все пошло под гору. Он пил, опускался, обижался на человечество, жалел себя, думал о самоубийстве…
–Он сам тебе это рассказывал? – удивилась Анна.
–Что-то он, что-то Лиз, что-то мой приятель дьякон, который хорошо их обоих знает. Французы вообще-то не склонны ни откровенничать, ни сплетничать, вопреки тому, что мы читаем о них в романах. Они не вторгаются в чужую частную жизнь и оберегают свою. Короче, не знаю, чем бы закончилась для Вани эта история, если бы его не приняла Лиз в свои крепкие и надежные объятия.
–Они давно вместе?
–Лет пять или шесть.
–Мне показалось, с левой кистью у него что-то не так. Травма?
–Ты по-прежнему наблюдательна. Травма. Только не вполне обычная. Это случилось, когда он еще находился в глубоком пике, Лиз еще только возникла на горизонте. Чтобы подработать, он изредка давал концерты в окрестных городках, выступал как пианист, он очень прилично играет. И вот однажды он сел за рояль пьяный. Играл без нот, ну и оскандалился. Сбивался, забывал, короче, полностью провалился. Примерно на половине он прервал выступление, извинился, поехал домой и в ярости разбил себе обе руки камнем.
–Какой ужас! Сам?!
–Сам, сам. В наказание. По счастью, в это время его нашла Лиз, отвезла в больницу. С правой рукой все обошлось, а левой повезло немного меньше. Кость мизинца не так срослась.
–Он не может теперь играть?
–Может, но хуже. Впрочем, он уже не выступает.
–Господи! Встретить такого человека! И где? В деревне! Подобное, наверное, только во Франции возможно. Да у нас во всем Саратове с его миллионным населением такого не найти.
–Ну, Ваня и для Франции уникален. Хотя они талантливее нас, это очевидно.
–У них с Лиз есть дети?
–Общих нет, только от первых браков.
–Лиз была замужем? – удивилась Анна.
–И довольно долго. Она ушла от мужа ради Жана-Франсуа.
–Ее ребенок живет с ними?
–Нет, девочка осталась с отцом. Здесь дети лет с четырнадцати сами решают, с кем жить: с матерью или отцом.
–И дочь Лиз выбрала отца? Это так необычно!
–Наверное, девочка сочла уход матери предательством, не захотела его понять, не простила.
–Но Лиз все равно ушла.
–Любовь, Нютка, представь себе.
–Не представляю. Получается, что Лиз Жану-Франсуа и мать, и сестра, и жена?
–И друг. Она сильнее характером.
–Думаю, ей трудно с ним.
–Непросто, – согласился Норов.
–А он?… Он ее любит, как по-твоему?
–Скорее, он ей благодарен. С ней он чувствует себя защищенным. Она считает его великим музыкантом, искренне им восхищается.
Некоторое время Анна молчала, обдумывая услышанное.
–А чем акустическая музыка, ну та, которую сочиняет Жан-Франсуа, отличается от обычной?
– Хотел бы я тебе объяснить! У меня есть его записи, довольно много, при желании сможешь послушать. Представь, сначала звучит орган, затем врывается шум улицы, грохот мотоцикла, визг тормозов, какое-то пронзительное хрюканье, кажется, что хворостиной гоняют свинью. Потом раздается хоровое пение… в таком роде… Не то чтобы совсем железом по стеклу, но очень похоже. Моего терпения хватает на две минуты.
–Андеграунд?
–Чтобы не употреблять нецензурных слов, пусть будет андеграунд.
* * *
Радиостанция в машине Норова играла классическую музыку.
–Какая красивая мелодия! – восхитилась Анна.
–Это увертюра к «Кориолану».
–А кто композитор?
–Бетховен, конечно. Эх, черт! Надо было сказать, что я.
–Ты так хорошо разбираешься в музыке!
–Совсем не разбираюсь. Просто это одна из самых известных вещей, можно сказать, шлягер.
Они въехали на пригорок; с одной стороны дороги тянулся лес, с другой виднелся дом с большим участком, на котором за тонкой проволочной оградой, паслись две лошади и овца, заросшая длинной грязной шерстью так, что не было видно ног. Овца подняла голову и с любопытством уставилась на машину.
–Какая забавная! – улыбнулась Анна.– А почему ее не стригут?
–Да они и сами не очень стригутся, ты же видела.
–Но ведь ей, наверное, тяжело двигаться?
–Ничуть. Это французская овца – немытая, но жизнерадостная. А лошади, чувствуется, наши, русские, смотри, какие понурые.
–У нее и правда добродушное лицо!
–У овец – морда.
–А у этой – лицо! Она очень симпатичная. Признайся, а Жана-Франсуа и Лиз ты тоже подкармливаешь? – вдруг без всякого перехода спросила Анна.
–Что значит, подкармливаю?
–Даешь им денег? Только скажи честно.
Норов помялся.
–Почему ты так решила?
–Уж очень Лиз перепугалась, когда ты принялся ругать благотворительность. К тому же я знаю тебя. Что бы ты ни говорил, ты не можешь не раздавать другим. Ты будешь это делать, даже когда у тебя ничего не останется.
–Ну, я действительно, подбрасываю им кое-что время от времени. Делаю подарки, выдаю бонусы, но немного… – Норов говорил виновато, будто его уличили в глупом проступке.– Правда, немного.
–Золотые сережки Лиз ты подарил?
–С чего ты взяла?
–Потому что я знаю твой вкус. Сколько я таких сережек для твоих подарков в свое время заказывала у Юры, ювелира! И кольцо тоже? И подвеску? А часы у Жана-Франсуа на руке? Очень красивые, совершенно не вяжутся с его потрепанным прикидом.
–Часы, между прочим, совсем не дорогие.
–Недорогие ты бы не стал покупать! Значит, ты им даешь деньги, делаешь подарки, платишь, наверное, вдвое…
–Да нет же!
–Сколько ты им заплатил за дом?
–Какая разница?
–Просто любопытно. Это коммерческая тайна?
–Ну, две сотни.
–Сколько?!
–За пять лет вперед.
–По сорок тысяч за год?! За пять лет?! Ты шутишь?! Они тебя об этом попросили?
–Да нет… я сам предложил… У них были финансовые проблемы, мне стало их жалко…
–С ума сойти! Во-первых, за такие деньги наверняка можно купить собственный дом. Во-вторых, если ты платишь за пять лет вперед, хотя бы получи скидку!
–Я же хотел помочь им, а не нажиться, – проворчал он.
Анна покачала головой.
–Это не у меня – «снег всегда», а у тебя! – с осуждением заметила она.– Между прочим, Жан-Франсуа мог бы вести себя с тобой и повежливее, с учетом всего, что ты для них сделал.
Норов усмехнулся.
–Французы учтивы, но благодарности от них не жди, я имею в виду искренней, а не потока вежливых фраз. Для этого они слишком самодовольны, каждый мнит себя мэтром. Когда им что-то перепадает, они решают, что их наконец-то оценили по заслугам. К тому, кто им дает, уважения они не испытывают, думают, что ему просто деньги некуда девать.
–Я уже заметила это по репликам Жана-Франсуа. А знаешь, в этом они очень похожи на нас.
–Разве что в этом. В целом, они гораздо симпатичнее: отзывчивее, приветливее, вежливее, терпеливее. Очень легкие в общении и жизни. Мы совсем иные.
–Может быть, в нас сказывается лишь неумение себя вести? Мне кажется, в русских очень много красивого.
–Например, у них бывают глаза круглые.
–Я серьезно! – засмеялась Анна.
* * *
Ля Рок, куда Норов привез Анну, был небольшим средневековым городком, популярным у туристов, с замечательной рыночной площадью четырнадцатого века. Выстроенная в форме правильного прямоугольника, с большим каменным колодцем под навесом посередине, она была заново вымощена серым гладким булыжником. Вокруг нее стояли деревья со скамейками под ними. Каждый вечер здесь собиралось местное население: на дорожках бегали и играли дети; куря самокрутки, громко спорили на скамейке трое здешних алкашей, совсем опустившихся, но мирных, а у их ног дремали две облезлые большие собаки. Когда солнце садилось, включали прожектора, дающие снизу разноцветную причудливую подсветку.
С четырех сторон площадь окружали двухэтажные каменные дома с просторными крытыми аркадами и колоннами; в первых этажах располагались кафе и ресторанчики. Вечер был теплым, солнечным, и на каждой террасе сидело по нескольку посетителей. Норов и Анна сели в угловом ресторанчике, – он был понаряднее прочих: возле столов красовались переносные подставки с цветами; на деревянных, удобных стульях лежали подушки и пледы. На черной доске у входа были написаны мелом названия предлагавшихся десертов, которые тут подавались вечером, помимо напитков, – большая редкость для деревенских кафе.
Норов заказал бокал красного местного вина себе и розового, помягче, – Анне; от десертов она отказалась. Укрыв пледом ноги, зажмурившись и запрокинув к солнцу бледное красивое лицо, она молча наслаждалась теплом.
–Можно я возьму твой плед? – попросила она, открывая глаза.
–Конечно, мне он все равно ни к чему. Тебе холодно?
Она укуталась пледом поверх пуховика.
–Знобит немного, должно быть, после перелета,– с виноватой улыбкой ответила она. – Почти восемнадцать часов в дороге! Из Саратова в Москву, потом во Франкфурт, из Франкфурта – в Тулузу. Да и не выспалась.
Она выглядела утомленной; легкий макияж не скрывал теней под большими глазами.
–Хочешь, вернемся?
–Нет, нет! Тут так хорошо! Тепло.
–Март. Термометр в машине показывал шестнадцать, а когда ты прилетела, было двадцать.
–Двадцать градусов! С ума сойти. А у нас ночью минус десять…
Из кафе вышел невысокий блондин лет тридцати пяти, в узких черных брюках, цветном жилете и щегольском бордовом шарфе, завязанном вокруг горла. Сощурившись на солнце, он огляделся, увидел Норова с Анной и подошел:
–Salut Paul! Ca va?
–Merci, Daniel, рas mal. Анна, это Даниэль, Даниэль это Анна.
Последовал обмен приветствиями.
–Впервые у нас? – спросил Даниэль.
Анна кивнула:
–Сегодня прилетела.
–Нравится?
–Очень.
–Сегодня – хороший денек, вам повезло. Profitez. (Пользуйтесь). Не хотите попробовать профитроли? Рекомендую. Наш кондитер ими гордится.
–У вас тут свой кондитер?
–И очень хороший.
–С ума сойти!
–Принести?
–Спасибо, может быть, позже.
Даниэль вежливо улыбнулся и вновь скрылся в помещении.
–Владелец? – спросила Анна. – Вид хозяйский.
–Даниэль Кузинье. Вообще-то салон принадлежит его жене, мадам Кузинье. Он – скорее при ней.
–Он сам обслуживает посетителей?
–Ну да. Есть еще сменная официантка, которая принимала у нас заказ.
–У нас владелец нипочем не стал бы сам обслуживать. Нанял бы официантку или даже двух…
–И еще бармена. И, конечно, уборщицу-таджичку, потому что не будут же бармен и официанты мыть туалет. Всем им он бы стал зажимать зарплату, бармен и официанты принялись бы воровать, а таджичка – разводить грязь. В результате заведение закрылось бы через полгода из-за убытков, не заплатив положенной аренды. А называлось бы оно «Элит».
–Или «Версаль»,– улыбаясь, добавила Анна.– «Версаль» у нас тоже очень популярен.
–Март – мой любимый месяц. В апреле тут гораздо хуже, дожди. Январь тут тоже хорош, но прохладнее. Летом аборигены устают от жары и туристов, а зимой и весной они очень милы: оживают, наряжаются. Ярмарки, фестивали, концерты, – празднично.
–Ты что-нибудь читаешь?
–О, много! Раньше не хватало времени, зато последние годы наверстывал с жадностью.
–Философию?
–Не для моего ума. Не понимаю абстракций,– скучно, холодно. В основном, историю.
–Русскую?
–Русскую в первую очередь.
–И какое впечатление?
–Слишком много зверства. Гордые красивые страницы тоже есть, но как их мало! Мне хотелось понять, как мы оказались в такой яме.
–И как же мы в ней оказались?
–Ну, если в двух словах, то мы из нее и не вылезали. Как свалились в нее тысячу с лишним лет назад, так и сидим. Начали с рабства у полукочевых хазарских орд, а заканчиваем сырьевым придатком Китая. Ничего достойного, по большому счету, не изобрели, кроме мата. Тысячу лет распродавали свои природные ресурсы, вырубали леса, уничтожали зверье, поганили землю. Убивали друг друга, обманывали, продавали. Вот, собственно, общий смысл нашей героической истории. Грустно и больно.
–Но ведь сколько нам приходилось защищаться! На нас нападали!
–Никакие враги не причинили нам столько зла, сколько мы сами. Давай сменим тему.
–Давай. Русскую – на русскую. С кем в прошлом году ты здесь подрался?
–Да ни с кем я не дрался! Это все Ваня придумывает. Французы – известные фантазеры.
–Попробуем иначе,– улыбнулась она.– Расскажи, с кем ты не дрался?
–Да нечего рассказывать…
У Анны зазвонил телефон.
–Да. Добрый вечер, – в ее круглых глазах отразилось веселое недоумение. – Действительно не ожидала… Спасибо за приглашение, сейчас узнаю.