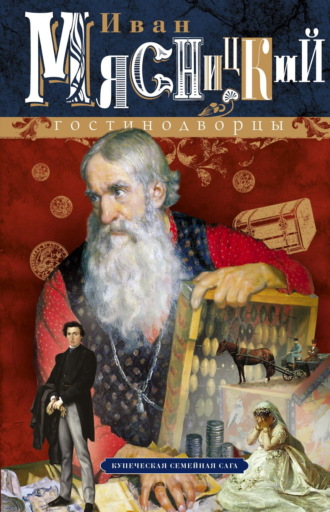
Полная версия
Гостинодворцы. Купеческая семейная сага
– Я-с, Иван Афанасьич, – откликнулась фигура, торчавшая на передке.
– Молодец, люблю! – бросился тот на гитару. – Понял, значит, давеча мою пантомиму, когда я ехал с отцом.
– Как не понять, помилуйте-с… вы только свистните, а мы уже смыслим.
– Пошел!
Рысак лихача рванулся с места, взмахнул хвостом и потонул во мраке ночи.
IXУ рыбинского мещанина Федора Головкина, державшего хор цыган и жившего около Марьиной Рощи, в это время шел дым коромыслом.
В большой зале, ярко освещенной настенными канделябрами, происходила оргия.
Молодой купец Митя Блуждаев, в компании с отставным, прокутившимся дотла гусаром Лупаревым, которого Блуждаев держал при себе в качестве адъютанта по разгульной части, кутил у цыган третьи сутки.
На столах красовалась целая батарея донского, под столами валялись пустые бутылки. Вдоль стен сидели цыганки в яркопестрых костюмах и гремели хоровую. Блуждаев был пьян, как стелька. Он сидел на диване и, ероша и без того спутанные на голове кудри, пил стаканами донское и плакал слезами пьяного человека.
Отставной гусар, с потасканным лицом и ярко-красным носом, сидел возле Блуждаева и, отчаянно крутя левой рукой длинный ус, правой дирижировал хором, неистово пристукивая каблуком.
– Так! Жги! Ловко! Чище, идолы! – покрикивал гусар. – Люблю! Митя! Друг!.. Выпьем!
– Милые мои! – ревел Блуждаев, хватая себя за грудь и обрывая пуговицы у жилета. – Эфиопы-черти! Убейте меня! Ради бога, убейте!
– Митя, плюнь, выпьем! – твердил гусар, опуская усы в стакан.
– Убейте, эфиопушки! – плакал Митя, размазывая по лицу ладонью слезы. – Не могу я больше жить на свете после этого… тяжко мне, фараонушки… Дюжину шампанского! – перестал он вдруг плакать. – Стой! Стой, анафемы!..
Хор остановился.
– Плясовую… Тр-рогай!
Хор моментально тронул «Сени». Со стула сорвалась красивая смуглая цыганка и, сверкая черными, как агат, очами, ветром пронеслась по зале.
– Пашка, молодец! – орал Блуждаев, хлопая отчаянно руками и совсем перевешиваясь через стол. – Сатана! Люблю! Пашка!
Пашка замерла на мгновение посредине залы и, сверкнув агатами на Блуждаева, змеей поползла к нему, перегибая свой стан и вздрагивая плечами. Блуждаев схватил себя за волосы и впился глазами в цыганку. Гусар топал ногами. Цыганка сделала прыжок и под самым носом обмиравшего от восторга купца так отчаянно перетряхнулась всем корпусом и таким обожгла его жгучим взглядом, что Блуждаев застонал, словно его ударили ножом в сердце, и упал на диван.
– Пашка! – вскрикивал он, отчаянно взмахивая руками и сбивая со стола бутылки и стаканы. – Сюда, Пашка, сюда!
Гусар бросился к плясунье, схватил ее в охапку и посадил на колени к Блуждаеву.
– Все бери, все, только поцелуй! – кричал он, бросая на пол скомканные радужные бумажки.
Цыганка усмехнулась, влепила в мокрые пьяные губы купца поцелуй и в одну секунду очутилась у двери. В дверях стоял Иван Афанасьевич Аршинов и вызывающе смотрел на Блуждаева.
А Блуждаев, разлакомившись поцелуем цыганки и неистово крича: «Бис, Пашка, бис!», ловил руками воздух и, поймав голову своего гусара, заключил его в объятия.
– Пойдем, желанный, в сад, – шепнула цыганка Аршинову и скользнула в дверь.
Иван шагнул за ней и чрез минуту очутился в садике, слабо освещенном двумя-тремя фонарями, качавшимися на кустах бузины.
– Сюда, желанный, сюда! – говорила цыганка, скользя тенью по дорожкам. – Вот скамеечка, тут, садись.
Иван сел. Цыганка обвила его шею руками и словно огнем опалила его губы поцелуем.
– Что пропал, Иван Афанасьевич? Аль забыл уж свою «смуглянку»? – спрашивала она, прижимаясь к Аршинову.
Иван усмехнулся самодовольно и, повернув голову цыганки, посмотрел ей в глаза.
– Соскучилась? – спросил он.
– Вот как соскучилась, Иван Афанасьевич, и сон потеряла, и аппетиту никакого не стало.
– Ну?
– Провалиться на этом месте, желанный, коли вру…
– Я тоже, Пашенька, по тебе соскучился, да никак нельзя было… знаешь отца?
– У-у-у, беда! – затрясла та головой. – Был он как-то намедни у нас со своими покупателями – подступиться нельзя, так волком и глядит.
– Ха-ха-ха! – закатился Иван. – Неужели и ты его лаской не прошибла?
– Ничего не берет. Сидит да исподлобья на всех и глядит… и скупой-прескупой, не то что ты, Иван Афанасьич…
– Да я что, я добрый…
– Добрее да желаннее тебя я на свете человека не видывала.
Цыганка чмокнула снова Аршинова и захныкала.
– А у меня, желанный, опять несчастье: сестрица Маша пишет из Рыбинска, погорели недели две тому, все, как есть, дотла сгорело.
– Ладно. Я помогу.
– Вот спасибо, желанный! Век за тебя сестра Бога молить будет!
– Кто это у вас? – спросил Аршинов, перебивая цыганку и прислушиваясь к пению, доносившемуся из комнат.
– Блуждаев Дмитрий Федорыч. Знаешь?
– По фамилии слыхал.
– Третьи сутки у нас гуляет, богатый и тароватый купец.
– Ужли третьи сутки?
– Третьи, Иван Афанасьич!
– Счастье же вот людям, а я двое суток погуляю и сичас от папаши трепка формальная.
– Паша! Паша! – кричал гусар, появляясь в саду.
Он шел по дорожкам и цеплялся поминутно за кусты.
– Это что за чучело? – нахмурился Иван.
– А это с Блуждаевым приехавши…
– Не отвечай ему, ну его к лешему!..
Гусар прошел мимо сидевших на скамейке Аршинова с цыганкой и, попутавшись по кустам, выругался и скрылся в комнатах.
– Хмельны, оба хмельны, желанный… Спеть песенку прикажешь?
– Погоди, надо поговорить с тобой сперва.
Но говорить не пришлось. На террасе показалась грузная фигура Блуждаева, поддерживаемая гусаром.
– Пашка! Эй! – крикнул он, потрясая в воздухе бутылкой шампанского. – Адъютант, почему нет эфиопки, а?
– Придет… ты поверь уж моему слову.
– Почему нет? – орал Блуждаев, колотя бутылкой по перилам террасы. – Найди в моменту…
– Да придет, погоди… ах, как ты глуп, Митя!
– Желаю Пашку, и кончено… Пусть «Очи» споет… Пашка-а! Змея!
– Не ори, придет, я знаю женщин… я, брат, на женщин миллион спустил, ты то пойми, – уговаривал его гусар, толкаясь носом в плечо Блуждаева, – мил-ли-он! Придет! Деньги есть – придет… пойдем хор слушать… выпьем…
– Не могу без ней… «Очи» желаю!.. Найди! Из земли вырой!
– Да нет ее здесь… ты пойми… видишь – нет.
– Ничего не вижу… Друг ты мне али нет?
– Друг, Митя…
– Найди Пашку… Она здесь… я видел, как она с каким-то балбесом ушла… а? Я деньги трачу, не жалею ничего, а она провалилась вдруг… тащи сюды хозяина, я его бить буду, обращению учить.
– Я пойду к нему, Иван Афанасьич, – поднялась цыганка со скамейки, – спою ему «Очи» и назад вернусь…
– Прочь, – отпихнул Аршинов в сторону цыганку, – я с ним поговорю сам…
– Пашка! Змея! – надрывался Блуждаев. – Где ты?
– Она со мной! – проговорил Аршинов, вырастая под самым носом Блуждаева.
Тот отшатнулся и схватился за гусара.
– С тобой?
– Со мной. Она для вас пела, а теперь будет петь для меня, понял?
– Гусар! Что же это такое, а? Ведь это грабеж, а? Не допущай этого, гусар…
– Мы этого не допустим! – проговорил тот, выступая вперед.
– Плевать я на все хотел, вот что! – ответил Аршинов.
– Что-о? Плевать? Бей его! Гусар, руби!
Бутылка засвистала в воздухе и ударила в плечо Аршинова.
– A-а, так вы вот как, ну посмотрим!
Он плюнул по старой школьнической привычке в ладони и, сжав кулаки, бросился на кутил…
* * *На другой день Афанасий Иванович встал рано. Умывшись и помолившись Богу, он сошел в сад, обошел все дорожки, зашел в оранжерею и, поговорив с садовником, прошел в столовую, где за самоваром уже сидели Арина Петровна и Андрей.
Он ласково поздоровался с женой и сыном и справился об Иване.
– Ивана, папаша, нет, – ответил Андрей.
– Не ночевал?
– Надо думать, что не ночевал.
Афанасий Иванович сморщился и молча выпил стакан чаю.
«Загулял, – подумал он, – ну что же, пускай уж погуляет напоследках».
Выехав в город, он послал за Алеевым и отправился с ним к Митягову.
У Митягова они засиделись до вечерен и вышли оттуда с покрасневшими лицами.
Аршинов отправился в лавку, а Алеев проехал прямо домой.
– А где же Липа? – справился он у жены.
– Да в саду, гляди, гуляет.
– Ну что, спрашивала ты ее, как ей жених?
– Спрашивала, – с боязнью проговорила Анна Ивановна, – да так она как-то все… ни да ни нет, только, по-моему, Спиридоныч, Сереженька куда умнее и пригляднее Ивана Афанасьича.
Алеев посмотрел на жену и постучал себя указательным пальцем по лбу.
– До старости ты дожила, а здесь до сей поры ветер гуляет. По-твоему, Сергей хорош, а по-моему, Иван. Понимаешь, – повторил он с удареньем, – по-моему, Иван.
– Я, Спиридоныч, что же… и по-моему тоже, Иван Афанасьич – паренек великолепный и из себя мужчина настоящий… известно, девушки глупы; забьют что себе в голову – ничем не выбьешь.
– Стало быть, Липе Сергей нравится больше?
– Да я рази это говорила? Христос с тобой, Спиридоныч!
– Без уверток. Так, что ли?
– Да это ничего, Спиридоныч, мало ли, кто девушке нравиться может.
– Так-с. Значит, ей Сергей по нраву?
– Не знаю, Спиридоныч, ей-ей, не знаю.
– Не знаешь, а мелешь, мельница пустая.
– Да ты, Спиридоныч, сам лучше ее урезонь… право, лучше этак-то будет.
– Урезонивать мне глупую девчонку нечего. Прикажу – и кончено. Скажите, какая принцесса! Иван не нравится! Бову-королевича, что ль, для нее из-за границы выписать?
– Скажи ты ей это, скажи.
– И скажу. В саду она?
– В саду, Спиридоныч… ох, господи, господи.
Алеев прошел в сад и увидал Липу, сидевшую в раздумье на скамейке под липами.
Он подошел к дочери и окликнул ее.
Липа вздрогнула и подняла голову.
– Это вы, папаша? – проговорила она и поцеловала отца.
– Сядем, Липушка. Фу ты, благодать нонче какая… Полное благорастворение воздусей… Что это ты бледная какая? Аль не поспалось?
– Должно быть…
– От волнения это все бывает. Ну, как тебе Иван Афанасьич пондравился?
– Никак, папаша…
– Плох разве?
– И не плох, а мне не нравится.
– А ты ему больно пондравилась. Нонче старик Аршинов мне передал это известие.
Липа молчала.
– Просят руки твоей.
Алеев подождал с минуту ответа и нахмурился.
– Так какой же ответ твой будет, а?
– Я за него замуж не пойду, папаша! – ответила Липа, отодвигаясь от отца.
Алеев вспыхнул и уставился на дочь.
– Это на каком же основании?
– Он мне не нравится.
– После пондравится.
– Никогда, папаша! – чуть не крикнула Липа.
– Вздор, сударыня, вздор! Мужчина красивый, дельный.
– Я его не люблю.
– Полюбишь. Я дал уж им согласие.
– Папаша!
– Это дело конченое. Я своего слова назад не возьму.
Липа вскочила со скамейки и, задыхаясь, смотрела на отца.
– Я не пойду за него, ни за что не пойду. Слышите, папаша! Я люблю другого, Сергея Афанасьича люблю.
– Вот как! – побледнел Алеев. – В любовь без спросу родителей изволили заиграть… Ах ты, мразь этакая! Да как ты смеешь это отцу говорить, а? Да ты что, распутная девка али дочь?
– Папаша, за что вы меня оскорбляете?
– Молчать! Ты меня оскорбляешь, а не я, ты заповедь забыла: «Чти отца твоего», так я тебя сызнова учить начну… Оскорбляю я ее! Завела себе любовника да еще отцу этим похваляется. Чтоб больше я от тебя об Сергее слова не слыхал, слышишь? В землю тебя своими руками зарою, а за Сергея не отдам. Иван за тебя сватается, за него и выйдешь.
– Папа, папа…
– Слезы? Реви сколько хочешь, но если ты завтра к Аршиновым в слезах выйдешь, при них изувечу… Девчонка! Дрянь!
Липа упала на скамейку и зарыдала.
Алеев поднялся со скамейки и пошел навстречу Муравину, вышедшему из беседки.
– Здравствуйте, Иван Андреевич, – проговорил Алеев, стараясь улыбнуться и протягивая руку старику, – греетесь на солнышке-то?
– Греюсь, Сергей Спиридоныч, греюсь! – улыбнулся старик, смотря из-под руки на зятя. – Липушку не видали?
– А вон она там сидит! – мотнул Алеев головой. – Да, вот, кстати, – мелькнула у него мысль, – сватается за нее хороший жених, Иван Афанасьевич Аршинов, а она ломается. Будьте добры, Иван Андреич, уговорите ее, все-таки лишнее слово для дела полезно будет.
– А почему же она не хочет идти за него, Сергей Спиридоныч? – прищурился старик на зятя.
– Да забрала себе глупость в голову, будто в Сережку влюблена. Просто глупая девчонка, у которой еще ветер в голове гуляет.
– А если она и в самом деле его любит?
– Ну, и вы туда же! – досадливо махнул рукой Алеев. – Что старый, что малый.
– Этим, Сергей Спиридоныч, шутить нельзя… да-с! Сердце – не игрушка-с.
– Просто глупости, говорю, выйдет замуж и глупость забудет. Поговорите, пожалуйста, ей.
– Нет-с, извините, на такое дело я и уговаривать не стану.
– На какое дело? – раскрыл удивленно рот Алеев.
– А на такое-с, на распутство-с. Вы думаете, она хорошею женой Ивану Афанасьевичу будет? Любить его станет? Никогда-с. Рана-то в сердце у ней останется и до смерти не заживет… да-с!
– Я думал, вы здраво рассудите, а заместо того ахинею понесли.
– Ахинею? Нет, Сергей Спиридоныч, не ахинею, а правду горькую вам говорю. За что вы ее, голубушку мою родную, губить хотите? А? Отец вы ей али лиходей? Любит она Сережу, за него и отдайте.
– Ну, это уж мое дело, за кого отдать, и учить меня в этом я никому не дозволю! – проговорил Алеев, насмешливо посматривая на тестя.
– Учить вас? Куда мне, Сергей Спиридонович, учить! Мне впору у вас поучиться, как людей губить.
– На ваши дерзости я плевать хотел.
– Плюйте, плюйте, вы ведь глава тут, что хотите, то и творите, только, по-божески ежели судить, Сергей Спиридоныч, подло, низко так с родною дочерью поступать… да-с! Коли совести у вас нет и любви к своему детищу, так хоть Бога побойтесь, накажет Он вас за это… да-с! Карающая десница страшна, Сергей Спиридоныч, бойтесь ее, бойтесь…
Алеев побледнел. А Муравин, трясясь от волнения, стучал палкой по земле и смотрел вызывающе на зятя.
– И я-то хорош, – прошипел Алеев, – разговаривать вздумал с выжившим из ума…
– А вы с большим умом на погибель дочь свою ведете… Эх, Сергей Спиридонович, Сергей Спиридонович… Придет час, за все ответите, а за Липушку втрое… слышите? Втрое ответите… Такой отец, как вы, – хуже пса… и пес своих детей от ворога оберегает, а вы свое детище прямо ворогу в руки отдаете… Змей вы стоглавый! Змей!
– Старый дурак! – позеленел Алеев и зашагал к дому.
– Змей! Змей! – кричал Муравин, грозя палкой удалявшемуся зятю. – Липушка моя… нет у тебя отца… Змей лютый, змей!
Липа бросилась к деду.
XК одной из станций железной дороги подошел пассажирский поезд. Из вагона первого класса вышел, держа в руках саквояж, Сергей Аршинов и, поздоровавшись с начальником станции, быстро прошел сквозь грязный вокзал на широкую площадь, замощенную только у подъезда.
Сергей окинул взглядом стоявшие у вокзала экипажи и, увидев краснощекого парня в красной рубашке, важно восседавшего на козлах дрожек, крикнул ему:
– Андрей, подавай!
Краснощекий парень подкатил к подъезду и раскланялся с Сергеем.
Сергей сел, и дрожки, ныряя в выбоинах и рытвинах, повернули за постройки, окружавшие вокзал, и покатили по гладко убитому шоссе.
Вдали, версты за три от вокзала, зеленел лес, левее, сверкая на солнце и извиваясь в прихотливых изгибах, лениво текла река.
От леса тянул прохладный ветерок и волнами катился по изумрудному ковру полей.
В безоблачном небе звенел жаворонок, а с реки несся тревожный гам вспугнутой стаи уток.
Сергей с наслаждением потянул в себя чистый весенний воздух и залюбовался расстилавшеюся перед его глазами картиной простора. Давно знакомая картина; но как она была отрадна сердцу Сергея! Всякий раз, как только ему приходилось быть на фабрике, он наслаждался ею и чувствовал себя свободным и беспечным, как птица. Он улыбался и этой сверкавшей серебром речонке с ее крутыми берегами, поросшими кустарником, и говору зеленого леса, подернутого синеватой дымкой испарений, и пению птичек, распевавших немолчно свои любовные песенки в весеннем воздухе, напоенном ароматом полевых цветов и смолистых сосен, красневших на опушке леса. В такие минуты, минуты общения с природой, он забывал всю горечь и пошлость городской жизни, с ее мелочными тревогами и заботами, и с чисто юношеским восторгом отдавался охватывавшему его волнению.
– Андрей, ведь это дикие утки кричат? – спросил он у своего кучера, улыбаясь счастливой улыбкой.
Андрей посмотрел на реку и вытянул кнутом лошадь.
– Дичь, Сергей Афанасьич, – ответил он и, повернув свою красную загорелую «лупетку», оскалил белые, как сахар, зубы. – Да тут и гуси бывают; намедни двенадцать штук вдруг, покеда за ружьем домой бегал, улетели.
– Как же ты смеешь стрелять до Петрова дня? – улыбался Сергей.
– А чего же их не стрелять, коли они сами под ружье лезут? – ответил Андрей и раскатился дробным смехом. – Не лезь!
– Ну, что у нас, все благополучно?
– Все-с слава богу. Третево дни один из Денисовки в машину рукой попал, так помяло малость, а то ничего, слава богу.
– В больнице лежит?
– Свезли. Жена уж оченно убивалась, потому руку-то у него отняли… левшой теперича стал, – добродушно добавил Андрей, подхлестывая лошадь.
– Как же это он так?
– От глупости от своей… поправить там что-то хотел, ан вон какое дело вышло – руки лишился.
– Семейный?
– Восемь ртов на его шее сидят… Жена, я тебе скажу, Сергей Афанасьич, так в голос и голосит…
– Что же директор?
– Жемс Иваныч-то? Да дилехтору что же… нехристь ведь…
– Что ты чушь болтаешь, Андрей? Он такой же христианин, как и мы с тобой.
Андрей повернулся, посмотрел недоверчиво на Сергея и тряхнул головой.
– Может, и хрестьянин, да веры жестокой… штраховать было хотел…
– Кого?
– А Никифора… которому сичас руку отняли.
– Андрей, не городи вздора! – вспыхнул Сергей.
– Сичас помереть, Сергей Афанасьич… потому в машине через эсту Никифорову руку порча произошла.
– Негодяй!..
Сергей хотел еще что-то прибавить, но смолк. Он знал отлично порядки, заведенные на фабрике его отцом и англичанином-директором, этою «ходячей машиной», как называли его все служащие на фабрике. Теперь директора играют совсем не ту роль, какую играли тридцать лет тому назад. Директора-англичане на фабрике были тем же, чем были управляющие-немцы у помещиков во времена крепостного права, то есть были полновластными хозяевами и вводили порядки по своему усмотрению, не справляясь ни с нравами, ни с обычаями фабричных, ни с их человеческими потребностями, а преследуя только одну заветную цель: не пренебрегая никакими средствами, эксплуатировать труд в пользу хозяйского кармана.
Афанасий Иванович, приезжая на фабрику, прежде всего бежал в контору и требовал штрафную книгу. Просмотрев штрафы, он шел на фабрику, где, встретив директора, или улыбался, или хмурился. Расположение духа его всецело зависело от цифры штрафов. Чем больше было штрафов, тем слаще улыбался Афанасий Иванович, и, пожимая правою рукой руку директору, левою похлопывал его по плечу и приговаривал:
– Дела у нас, кажись, того… Слава те господи!
– О, ес! – отвечал обыкновенно Джемс Иванович, рыжий весноватый мужчина, с круглой бородкой и маленькими мышиными глазками.
Но если штрафов было мало, Афанасий Иванович являлся на фабрику пасмурным, как сентябрьское утро, и, едва здороваясь с директором, цедил сквозь зубы:
– Глядеть за порядками надо больше… за порядками глядеть!
– О, ес! – отвечал также директор, а проводив хозяина в Москву, принимался штрафовать живого и мертвого.
Сергей знал эти, как он говорил, «подлости», возмущался ими, краснел перед каждым рабочим за отца, и только!
Протестовать он не мог. Да и какое мог иметь значение его протест в глазах такого отца, каким был Афанасий Иванович? Ровно никакого.
Ранее он пробовал просить отца о различных снисхождениях к рабочим, но потерпел фиаско, махнул безнадежно рукой на фабрику и, как человек, лишенный всякого авторитета и права, скорбел только о меньшем брате и, где возможно, помогал ему из своего кармана.
Путники въехали в лес, сразу обдавший их холодом и сыростью.
– А сколько соловьев у нас, Сергей Афанасьич, – прервал молчанье Андрей, – страсть!
– Много? – спросил Сергей, отрываясь от своих нерадостных дум.
– Штук восемь… новый один прилетел.
– А ты, что ж, их считал?
– Да как же! – совсем повернулся Андрей на козлах. – Я их всех наперечет знаю.
– Охотник, значит?
– Я? Страсть! – мотнул головой тот и радостно уставился на Сергея. – Да ведь и птица какая, Сергей Афанасьич, просто малина! Красота, а не птица! Вот тута, – ткнул он кнутовищем в воздух, – старый соловей поет… лет семь здесь живет… ну, только стареть начал, нету уж чистоты этой, настоящей…
Сергей улыбнулся.
– Ей-богу, – побожился Андрей, приняв, вероятно, улыбку хозяйского сына за недоверчивость к его рассказам о соловьях, – а вот в Девкином яру, Сергей Афанасьич, соловей проявился – все медные отдашь…
– Хорош?
– Вечерком беспременно сходите послухать. Ах, какой соловей! Много я ихнего брата слыхивал, а такого впервой довелось… Вот тута тоже соловушка ахтительный…
– Чем же хорош тот, что в Девкином яру живет?
– Всем-с. Регент, а не птица-с. Чисто вот по камертону поет, ей-богу… ах, да и только; в вечернюю зорю он, по-моему, хуже поет… в утреннюю не в пример… Вы любите соловьев, Сергей Афанасьич?
– Люблю.
– Завтрева утречком отправимся… И вечером хорошо поет, но утром куда!
Андрей махнул рукой и совсем перевернулся к Сергею, перекинув одну ногу через козлы.
– Ты смотри лошадь, Андрей…
– Ничего-с… Исправник наш смирный, он теперича по прохладе-то шажком и отдохнет… Я нонче утром в четыре часа к нему отправился.
– К кому?
– К соловью-с, в Девкин яр подошел, он и защелкал… уж Ефим Андреич меня ругал, ругал… вот как пужал – инда рубаха взмокла…
– За что ж он тебя ругал?
– А за соловья-с… ровно он на меня чару напустил… стою и слушаю, прихожу домой, ан десять часов… вот как бодрил меня, Ефим Андреич.
– Должно быть, соловей хорош! – рассмеялся Сергей.
– Из Девкина яру-с? Регент просто. И шут его знает, каких, каких только он колен не выкидывает… сперва, знаете, тыркать этак начнет, тырр… тырр… тырр… потом чавканье пустит со свистом, раскатит свист по лесу, конца не видать, а после на манер юлы начнет, фиу… фиу… а потом как вдарит: тр-р-р-р-р… ровно вот серебряные двугривенные по каменному полу рассыплет… тпру! Тпру!
Исправник, заслушавшись рассказов Андрея, свернул с дороги и побрел лесом.
Андрей быстро направил его на путь истинный и хлестнул кнутом.
Лес редел. Сквозь купы деревьев виднелись строения, а на безоблачном фоне неба вырезалась громадная фабричная труба.
– Погоняй, Андрей! – проговорил Сергей.
– Слушаю-с.
– Джемс Иваныч, я думаю, теперь дома, завтракает.
– Теперича? Теперича дома. К им сродственница из англичанской земли приехала в гости.
– Родственница?
– Сродственница. Когда она прибыла, дай бог памяти? Да, в субботу… Жемса Иваныча супруга стречать их на вокзал ездила.
– Ему родственница или ей?
– Доподлинно не умею сказать. Слышал, что племянница, а чья – господь их ведает, известно – нехристи, рази у них разберешь, но барышня чудесная… вчерась я ее на фабрику к Тулупову возил… к тамошнему дилехтору в гости.
Сергей молчал. Он вспомнил о Липе и вздохнул.
– А у нас, Сергей Афанасьич, – продолжал болтливый Андрей, – нехорошее затевается.
– Что такое?
– Да так это… недовольны все… штрахами… ну, и… галдят.
Сергей насторожил уши.
– Ты откуда это знаешь?
– А слышишь тоже, как рабочие говорят, ну и…
– И что же?
– Нехорошо-с. Кому что, а нехристю пуще всех достанется… уж оченно он всех штрахами доел… из долгу ведь не выходят… прямо агличанин без всякой меры орудует.
– Кто же больше всего волнуется? Ты говори мне, Андрей, без опаски, я тебя не выдам.
– Господи, да рази я что супротив вас… жалко мне только… несчастье может произойти, а больше всего ткачи галдят.
– Я так и знал…
– В воскресенье в Девкином яру собралось их человек двести… сперва это песни горланили, хороводы водили, плясали, а я тут прилунился… признаться, соловья своего слушать ходил, ну, и приткнулся… а потом вдруг, гляжу, в кружок все собрались… слышу, говорит кто-то… я через плечи глянул. Весь просто диву дался… Васька Питерец речь держит… слова от него николи не слыхал, а тут вот как рассыпался, все ткачи рот разинули…


