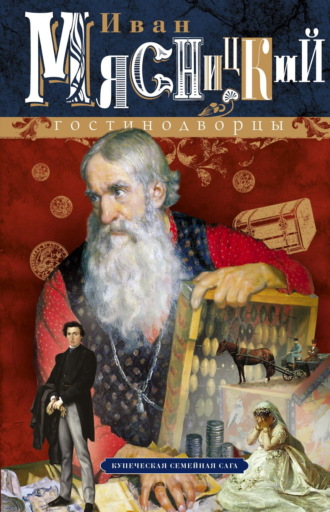
Полная версия
Гостинодворцы. Купеческая семейная сага


Иван Мясницкий
Гостинодворцы. Купеческая семейная сага


© «Центрполиграф», 2022
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2022

Часть первая
Отцы
IВ один из чудных майских дней, часов в одиннадцать утра, к Старому Гостиному двору, на Варварке, подкатил вороной рысак, запряженный в дрожки. Бородатый кучер, в надвинутой на глаза хребтовой шляпе и новеньком армяке темно-синего сукна с серебряными пуговицами, ловко осадил рысака у одной из арок галереи и повернул голову в ожидании приказаний хозяина. Из дрожек, слегка придерживаясь за яркий кушак кучера, вышел высокий плотный купец с легкою проседью в волнистой бороде, сказал несколько слов кучеру и, взойдя по ступенькам на галерею, снял высокий цилиндр и набожно стал креститься на церковь Варвары-мученицы. В галерее Гостиного двора кипела жизнь: сновали взад и вперед разносчики, выкрикивая нараспев названия своих товаров, шли артельщики с товарами своих хозяев, придерживая их лямками на спине, бежали мальчишки с чайниками за кипятком в водогрейную, находившуюся в то время – в шестидесятых годах – под церковью Варвары-мученицы, проходили купцы, раскланиваясь с сидевшими на галерее знакомыми и справляясь на ходу об их здоровье; у дверей амбаров стояли артельщики и глазели на улицу, по которой тянулись ломовики, нагруженные всевозможными товарами, и стрелой пролетали купцы, выезжавшие в город из своих домов, разбросанных по всему благословенному Замоскворечью. Только что приехавший купец прошел по галерее, завернул в Хрустальный переулок и остановился у прибитой над дверями амбара вывеской, на которой золотыми буквами по синему фону было написано: «Афанасий Иванович Аршинов». Помолившись на рядскую икону и едва кивнув головой на поклон вытянувшегося у дверей артельщика, он вошел в амбар. Амбар представлял из себя узкую и длинную комнату, выходившую внутрь двора и разделенную на две половины. В первой стояли две конторки, несколько лавок и полок с образцами товара; вторая половина служила складом, где с утра до вечера шла упаковка товара. Около двери, разделявшей амбар на две половины, начиналась лестница в «палатку» с одиноким окном-«аркой», выходившим на галерею. В амбаре были двое: приземистый и пузатенький человечек, лет под пятьдесят, и молодой человек, лет двадцати, сильно напоминавший чертами лица вошедшего бородача.
– «Сам!» – быстро проговорил пузатенький человечек и торопливо схватил кусок товара.
Молодой человек лениво поднял от конторки свою красивую кудрявую голову с темно-синими глазами и посмотрел на вошедшего. Легкая складка легла у него между изящно очерченными бровями, и что-то неприязненное мелькнуло во взгляде, брошенном им на отца. Он еще ниже нагнулся над конторкой и нервно схватился за перо.
«Сам» молча помолился на икону, висевшую над конторкой, поклонился пузатенькому человечку и, едва взглянув на молодого человека, стал подниматься по лестнице кверху. На половине лестницы он остановился и забарабанил пальцами по поручням.
Пузатенький человек вопросительно посмотрел на «самого».
– Кто был? – спросил «сам», сдвигая цилиндр на затылок.
– Да кто же-с, Афанасий Иваныч, – задумался тот на секунду, – да-с, Шугаев был. Спрашивал об вашем здоровье-с… Телушкину пятьдесят кип товара продали, половина на наличные, половина к Крещенской ярмарке-с.
«Сам» кивнул головой и уставился в кудрявый затылок сына.
– Сергей, ты что пишешь? – угрюмо спросил сам.
– Счета Макушеву, папаша! – ответил тот, не поворачивая головы.
– До сих пор написать не мог! Я думаю, за тобой дела-то не бознать сколько. Учили, учили тебя, дурака, и ничему хорошему не выучили.
Молодой человек вспыхнул. Перо задрожало у него в руке и проехало по счету. Он стиснул зубы и разорвал испорченный счет на мелкие лоскуточки.
Аршинов усмехнулся в бороду и совершенно спокойно спросил у пузатенького человека:
– Нового чего, Иван Васильевич, не слыхал ли?
– Ничего-с, Афанасий Иваныч, как есть ничего-с. Впро-чем-с, Веретенкин у Остравецкого пару лошадей за три тысячи купил-с.
– Хороши?
– Сказывают, что оченно великолепны. Хреновского заводу-с.
– Гм… а где же Андрей?
– Андрей Афанасьич у Митягова с Шугаевым чай пьют-с.
– А Иван?
– Иван Афанасьич в Троицкий завтракать пошли-с.
– Когда придет, позови его ко мне.
– Беспременно-с.
Аршинов постоял с минуту молча и, глубоко вздохнув, пошел вверх по лестнице.
* * *Афанасий Иванович Аршинов происходил из старинного купеческого рода. Его прапрадед Иван Савельич пришел в Москву в лаптях и поступил на фабрику в сновальщики. Спустя двадцать лет у него уже была своя фабрика, которая к концу пятидесятых годов разрослась в громадную фабрику с миллионным оборотом.
Как купец, Афанасий Иванович пользовался уважением и неограниченным доверием, хотя в кредите нуждался очень редко и кредитовался, в силу унаследованных традиций, неохотно. Торговые дела у него, благодаря его здоровому, практическому уму, шли блестяще. Как настоящий русский купец, наделенный от природы сметкой, он смотрел всегда в «корень» дела, не давая воли фантазии и накладывая veto на «спекуляции», часто предлагаемые его старшим сыном Андреем.
В нем, как в зеркале, отражались все достоинства и недостатки купца старого закала, старого завета. Свою купеческую честь он ставил выше всего. Сам щепетильный до мелочей в расчетах, он требовал того же и от своих покупателей. Человек, позволивший себе отступить хотя бы на йоту от правил «купеческой чести», в его глазах переставал быть купцом.
– Торгаш и прощелыга! – говорил он о таковом и тут же приказывал вычеркнуть «прощелыгу» из его книг навсегда. Скупой, больше по купеческой привычке, он не гонялся за большою наживой. «Грош, да мой!», «За большим погонишься и последнее потеряешь!», «Всех денег не оберешь!» – были его любимыми поговорками. И в деле, и в семейной жизни он держался одних и тех же принципов. Его характер был смесью упрямого самодурства и добродушия, черствого эгоизма и высоких порывов великодушия. Не получив никакого образования, едва выучившись подписывать свою фамилию, он презирал образованных, которые все слыли у него под кличкой «ученых», и доказывал, что образованный купец в лавке не жилец, а только постоялец.
– Все одно, что для соловья клетка, то для образованного лавка. Позабудь попробуй запереть дверку – улетит!
Благодаря такому взгляду на «ученость» он своих сыновей дальше приходского училища не пускал.
– Писать, читать выучился, арихметику знает, на счетах класть умеет – какого ему еще рожна после этого? Для лавки и этого достаточно!..
Правда, младшего сына, уступая новым веяниям, он отдал было учиться в Коммерческое училище, да и того взял из четвертого класса и постоянно корил его ученостью.
Женился он, когда ему было двадцать четыре года, так же просто, как женились его деды и прадеды.
В один прекрасный вечер покойный отец Афанасия Ивановича приказал Афоне надеть новый сюртук и повез его к торговавшему в то время богатому москательщику Антропову, у которого последняя из семи дочерей, Арина Петровна, благодаря небольшому росту и некрасивому лицу, позасиделась в девках.
Пока Афоня болтал с Ариной Петровной о погоде, отец его за бутылкой лиссабонского успел «сторговаться» с Антроповым. Старики вышли из кабинета, где происходила купля и продажа, посмотрели, улыбаясь, на Афанасия Ивановича с Ариной Петровной и приказали подать донского.
И не справились даже ни у того, ни у другого, нравятся ли они друг другу: таких церемоний и галантностей старики не признавали и считали за лишние только разговоры.
И ни Афанасий Иванович, ни Арина Петровна не считали возможным протестовать. Отцы решили – значит, так и быть должно. За отцами столько разных прав, что перечить им – значит восставать против режима родительской власти, не терпящей никаких возражений и кладущей свое эгоистичное veto на мысли и желания всех, кто только так или иначе находится у них в подчинении и зависимости.
«Что ж, если тятенька решил, значит, хорошо!» – подумал Афанасий Иванович и с совершенно покойным сердцем троекратно облобызал свою будущую подругу, которую он видел только в первый раз в жизни.
Странно началась их семейная жизнь. Не говоря уже о любви, о которой у них и не могло быть речи, они совершенно не понимали друг друга, и каждый жил своими интересами… Сходились они вечером и расставались утром, не зная, что сказать друг другу. Он отправлялся на фабрику, а она – к свекрови, с которой и проводила целые дни, принимая разношерстную банду разных проходимцев, под видом странников и странниц, и слушая их разглагольствия о странах и чудесах, ими виденных.
Афанасий Иванович смотрел на жену как на «бабу», которую ему дал родитель только потому, что «не подобает человеку быти единому», а Арина Петровна глядела на мужа как на владыку и властелина, которого даже и апостол велит почитать и бояться.
Арина Петровна от природы была очень неглупая женщина, но ум ее, благодаря замкнутой жизни и домостройным порядкам, царившим в замоскворецком купечестве, был направлен исключительно на мелкие домашние интересы, составлявшие всю цель жизни русской женщины дореформенной Руси.
Родился сын. Немудрено, что сердце Арины Петровны, не согретое горячей лаской мужа, всю свою любовь, все порывы подавленного чувства перенесло на маленькое существо и наполнилось беспредельным счастьем.
Афанасий Иванович к появлению сына отнесся наружно, по крайней мере, довольно равнодушно.
Когда Арина Петровна, еще слабая от перенесенных ею нечеловеческих мук, но со счастливою улыбкой, светившеюся в ее кротких глазах, развернула плотного и красного, как вареный рак, мальчугана, Афанасий Иванович, только что вошедший в спальню жены «поздравить» ее, покосился на сына и сдвинул брови.
– Сын? – спросил он, смотря в угол.
– Сын, Афанасий Иванович! – ответила Арина Петровна, с гордостью глядя на мужа.
– Это хорошо… для фирмы! – проговорил он и тотчас же обратил внимание жены на паутину, висевшую в углу.
За первым сыном, спустя три года, явился второй, а за ним, через такой же промежуток, и третий. Дети росли, бегали в приходскую школу и затем поступали в лавку. Арина Петровна изливала на них всю свою материнскую нежность и не заметила, как состарилась, деля со своими ненаглядными сыночками и радость, и горе.
Любимцем отца был старший, Андрей, точная копия с Афанасия Ивановича, сухой, суровый, но душой и телом преданный делу, за которым он, как выражался сам Афанасий Иванович, издыхал, как собака. Аршинов гордился им и, где только мог, нахваливал сына.
– У меня Андрей – золото! – говорил он, самодовольно поглаживая бороду. – Захочет – на горе грязь сделает!
Женил его Афанасий Иванович рано; Андрею не было еще и двадцати лет, как отец повез его смотреть дочь фабриканта Неплюева; свадьбу сыграли в две недели. Агния Васильевна оказалась кроткой и любящей женой. Она всей душой привязалась к Андрею и, несмотря на его сухость, была уверена, что Андрей любит ее больше всех на свете. Сильно печалило и ее, и старика Аршинова одно обстоятельство: у Андрея не было детей. Это обстоятельство заставляло бездетную молодую женщину ежегодно по нескольку раз ездить на разные богомолья, на которые изредка сопровождал жену и Андрей.
Второй сын Аршинова, Иван, был, что называется, ни рыба ни мясо. И к делу особенно не прилежал и от дела не бегал… Ко всему относился он флегматично, хотя и бывали моменты, когда его, что называется, «прорывало». Иван закучивал, пропадал дня на три, на четыре, затем являлся, как ни в чем не бывало, прямо в лавку и принимал в палатке ужасную трепку от отца.
После «внушения» он неторопливо сходил вниз и, поправляя прическу и костюм, совершенно спокойным тоном спрашивал у младшего брата Сергея:
– Что нового в газетах пишут, Сергей?
– Ничего особенного, – ответил тот.
– И Катков ничего?
– И Катков ничего.
– Тэк-с… Дай-ка «мемориал». Калинкину продали… Васютину тоже… Хорошо-с!.. Значит, я в Лопашев ушел… слышишь ты, ученый?
Тем и кончалось до следующего «прорыва». Такие «прорывы», разумеется, сильно не нравились Афанасию Ивановичу, жившему по строгим традициям отцов и дедов, а он спал и видел, как бы только женить Ивана.
Младший, Сергей, был резким контрастом своих братьев. Чрезвычайно подвижный, приветливый и деликатный со всеми, он обладал удивительно доброй душой и любящим сердцем. С малых лет он пристрастился к книге и плакал, как ребенок, когда его отец взял из школы. Его любознательный ум жаждал знания и света, он мечтал совсем не о той дороге, которая вела из Замоскворечья на Варварку, но суровое veto отца сразу порвало все его порывы и мечты.
Он боготворил свою мать и боялся отца.
Будучи еще ребенком, он уже не любил его, инстинктивно возмущаясь его деспотическим отношением ко всей семье; с того же самого дня, как отец посадил его за конторку в лавке, он почувствовал, что в сердце его родилось новое неприязненное чувство к тому, кто разрушил его планы и надежды.
Братьев своих он ценил по «достоинству», а те платили ему той же монетой, пользуясь всяким удобным и неудобным случаем, чтоб показать ему свое превосходство.
Среди родных, таким образом, Сергей чувствовал себя одиноким, и, если б не мать, которой он поверял свое горе и радости, да не книга, которой отдавал все свободные минуты, – он сделался бы или пьяницей, как его брат Иван, или таким сухарем, как брат Андрей.
– А что же Иван, пришел или нет?! – крикнул из палатки Афанасий Иванович, хлопая на счетах.
– Нет еще, папаша! – ответил Сергей, отрываясь от конторки.
– Что он там застрял… с кем он ушел-то?
– С Петром Федорычем.
– Ну вот… хорошая компания… и отец жулик, и сын мотыга… пошли за ним артельщика.
Старший приказчик мотнул головой артельщику, и тот, сорвавшись с места, моментально скрылся на двор.
– Сергей! – раздался снова голос Афанасия Ивановича.
– Сейчас, папаша…
Сергей положил перо, отодвинул табурет и вихрем взлетел на лестницу.
В палатке за простым столом, придвинутым к самому окну, сидел Афанасий Иванович в очках и прокладывал на счетах цифры.
– Завтра отправишься на фабрику… слышишь? – проговорил Афанасий Иванович.
– Хорошо.
Фабрика Аршинова находилась под Москвой и управлялась, как и большинство фабрик, директором-англичанином. Старик Аршинов наезжал туда раз в неделю, а иногда посылал и сыновей.
– Захватишь деньги и передашь их Джемсу Иванычу для расплаты с рабочими.
– Хорошо.
– Да не потеряй, смотри… денег с лишком тридцать тысяч.
– Не в первый раз возить…
– Знаю, что не в первый, да голова-то у тебя не делом бывает забита… начнешь читать газеты и проворонишь сумку.
– Я в дороге никогда не читаю, папаша.
– И хорошо делаешь. В твоем чтении проку мало: купец должен делом заниматься, а не книжками. И без тебя ученых-то по Москве сотни без сапог шатаются.
– Больше ничего не прикажете? – сделал движение Сергей.
– Ничего. Кланяйся Джемсу Ивановичу и скажи, что я на днях сам приеду… и завтра я бы поехал, да дело есть… ступай.
На лестнице раздались торопливые шаги, и в палатку вошел Иван, высокий, крепко сложенный блондин с пухлыми щеками и небольшой бородкой, беспорядочно торчавшею в разные стороны.
Он окинул равнодушным взглядом брата и нагнулся над плечом отца.
– Присылали за мной? – вопросительно уставился он на старика.
– Посылал. Садись. Сергей, ступай вниз!
Сергей спустился в лавку и засел за свою конторку.
К нему, озираясь во все стороны, подошел старший приказчик и проговорил шепотом:
– Слышали новость, Сергей Афанасьич? Афанасий Иванович Ивана Афанасьевича женить хотят.
– Не слыхал, да это меня мало и интересует, по правде сказать.
– Как же не интересовать, помилуйте, ведь брата родного женят… на свадьбе попируем.
– А на ком, не слыхали?
– Не слыхал… сами, чай, знаете, что Афанасий Иванович не любит разглагольствовать… кончать совсем дело, в те поры и объявят… кажется, сходят.
Приказчик отскочил от Сергея и схватился за первый попавшийся под руку кусок товара.
Сверху сошел Иван, посмотрел на приказчика и отдал ему какое-то приказание.
Приказчик скрылся в заднюю половину лавки, где раздавались голоса артельщиков, паковавших товар.
– Сергей! – подошел Иван к брату. – Ты, кажется, дружен с молодым Алеевым.
– Бываю иногда, – потупился тот, – а что?
– Сестру его… видал?
– Липу? Да… тебя она интересует?
– Да я ее и не видал никогда… Завтра еду с отцом смотреть ее.
Табуретка полетела с громом в угол. Сергей вытянулся и, бледный как смерть, двинулся к брату.
– Не смей! – задыхаясь, крикнул он, сжимая кулаки. – Слышишь, Иван, не смей!
Иван невольно попятился назад и наткнулся на вошедшего купца с длинной седой бородой.
ПКупец посмотрел с удивлением на братьев и приподнял шляпу.
– Ивану Афанасьичу почтение!.. Сергею Афанасьичу нижайшее! – проговорил он, сладко улыбаясь.
– Вы к папаше? – спросил его Иван, приходя в себя и пожимая старику протянутую руку. – Пожалуйте в палатку…
Купец приподнял еще раз шляпу и неторопливо, все с той же сладенькой улыбочкой стал подниматься по лестнице в палатку.
– Да ты что же это, Сергей… ошалел? – сдвинул брови Иван, становясь за конторку.
– Не смей ездить к Алеевым, – подступил снова Сергей к брату, – не смей!
– Вот как! Странные нонче порядки пошли; младшие братья начинают старшими командовать… вот оно что значит, ученье! Ах, дурак, дурак! Кого же мне слушать: тебя иль отца?
– Меня…
– Скажи пожалуйста!
– Меня. Я люблю Липу… слышишь, Иван? Люблю, безумно люблю и никому ее не отдам.
Иван от такого неожиданного признания широко раскрыл глаза и с удивлением уставился на брата.
– Понимаем-с, – проговорил он наконец, и скверная улыбка искривила его пухлые румяные губы, – понимаем-с… роман-с, значит, завели… Ужасно это для меня чувствительно… То-то мне удивительно, что это наш Сереженька все к Алеевым да к Алеевым, а он там амуры завел… Хе-хе-хе…
– Можешь смеяться, Иван, сколько тебе угодно, но если ты только посмеешь жениться на Липе, я тебе враг на всю жизнь…
– Ах, как это для меня страшно… даже убийственно, ей-богу!
– Оставь свои площадные прибаутки в покое. Я тебе говорю серьезно, как брат брату… Нет, больше, как порядочный человек человеку, и ты должен, – слышишь? – должен понять, что дело идет о счастье, о целой жизни близкого тебе человека… ты не видал Липы, не знаешь ее совсем, а я люблю ее… Пойми, брат, люблю и душой, и сердцем… неужели же ты станешь на дороге к моему счастью? Неужели у тебя хватит дерзости исковеркать жизнь двух человек?
– Чудной ты, Сергей, ей-богу… Да разве я сам хочу жениться? Эка невидаль – жена! Отец говорит: женись, и кончено.
– Да разве мало невест помимо Липы? Скажи отцу, что она тебе не нравится.
– Так вот он меня и станет слушать… Да что ты отца-то первый день знаешь? Скажет: гожа! Ну и иди под венец… с ним, брат, разговор короткий…
– Хорошо, я переговорю сам с отцом; но только ты, Иван, дай мне слово, что будешь всеми силами противиться этому браку.
– Изволь. Мне все равно, только навряд ли что выйдет из этого: если отец решил, значит, так и будет!
– Ну, это мы еще увидим…
– Да что ж она, хороша очень, что ли? – продолжал ухмыляться Иван.
– Я знаю одно только: я люблю ее и больше ничего не знаю.
– Значит, писаная… И давно ты в ее втюрился-то?
– Не все ль тебе равно?
– Любопытно все-таки… Поди, целовался с ней?
Сергей ничего не ответил. Он облокотился на конторку и погрузился в горькое раздумье.
Полгода тому назад он совершенно случайно был послан отцом за какою-то справкой к старику Алееву, покупавшему у них товар на крупные суммы. Старика не было дома. Сергея встретил сын Александр, которого он давно знал по «городу», и пригласил к себе посидеть, пока приедет старик.
Сергей очутился в небольшой уютной комнатке молодого Алеева и был поражен обстановкой. В простенках между окнами стояли шкафы, наполненные книгами и журналами, по стене висели картины и эстампы, на столе лежала скрипка.
– Боже мой, – вырвалось у него невольно, – и это все ваше?
Молодой Алеев с удивлением посмотрел на Сергея и ответил:
– Разумеется, мое.
– И вам позволяет отец иметь книги и заниматься музыкой?
– С грехом пополам! – улыбнулся тот. – Наружно он недоволен и вечно сердится, что я занимаюсь совсем не купеческими делами, но в душе, я уверен, он очень доволен тем, что книга и скрипка привязывают меня к дому крепче, чем родительские наставления. А вы любите читать?
– Я? Книга – это моя единственная радость в жизни.
Они заговорили о литературе. Сергей боготворил Пушкина, молодой Алеев благоговел перед Лермонтовым. Оба горячо принялись отстаивать своих божков.
– Не спорьте, Александр Сергеевич, – кричал Аршинов, колотя себя в грудь руками, – выше Пушкина нет поэтов на земле… возьмите вы его любое произведение… да вот, позвольте я вам прочту хоть бы это место из «Онегина»…
Сергей бросился к шкафу, вытащил томик Пушкина и нервно зачитал письмо Татьяны…
Читал он просто, но в чтение вложил столько силы молодого чувства, столько неподдельной любви и благоговения к каждой строчке любимого поэта, что молодой Алеев с нескрываемым наслаждением слушал своего молодого товарища.
– Как это хорошо! – раздался молодой женский голосок, когда Сергей кончил чтение письма.
Сергей оглянулся. У дверей стояла молодая девушка, лет двадцати, и с любопытством смотрела на Сергея.
– Ах, это ты, Липа! – проговорил молодой Алеев и тут же представил сестру Сергею.
Сергей пожал протянутую ему пухлую ручку с розовыми ногтями, взглянул на девушку и вспыхнул. Вспыхнула и Липа и потупила глазки.
Когда Сергей оправился от смущения, Липа уже сидела за столиком и щебетала, как птичка, рассказывая брату, как она упала с санок, катаясь с горы, устроенной у Алеева в саду. Она звонко хохотала, передавая брату различные детали этого комического эпизода, и украдкой поглядывала на Сергея, смотревшего на нее во все глаза.
От всей стройной фигуры молодой девушки, дышавшей здоровьем и счастьем, так и веяло тою беззаботною юностью, которая всюду вносит с собой довольство жизнью и бесконечное веселье.
От Алеевых Сергей вернулся домой совершенно очарованным. Он не спал всю ночь. В ушах его звенел серебристый смех Липочки, и стоило ему только закрыть глаза, чтоб образ молодой девушки, словно живой, появлялся перед ним и дразнил его воображение. Он жадно смотрел в эти жизнерадостные голубые глазки, на маленький улыбавшийся ротик со сверкающей белизной красивых зубов и шептал: «Как она хороша! Боже мой, как она хороша!»
На другой же день, под предлогом попросить какую-то книгу, он явился к молодому Алееву и просидел у него часа два. Липа не являлась.
Сколько раз он порывался спросить у брата про нее и не мог; слова не сходили с языка.
Уходя, он заглядывал во все углы комнат, по которым приходилось проходить ему, надеясь увидать Липу, и долго стоял в передней, разговаривая громко с Александром. Ему казалось почему-то, что Липа слышит его голос и по какому-то непонятному капризу не хочет выйти к нему.
– Вы позволите, Александр Сергеевич, иногда зайти к вам побеседовать? – неуверенно проговорил он, уставясь в полумрак залы, где как будто промелькнуло что-то белое.
– Очень буду рад! – ответил тот, крепко пожимая руку гостю. – Пожалуйста, без церемоний… поговорим, почитаем.
– Конечно, конечно! – бормотал Сергей. «Это она в белом, – думал он, – но почему не вышла? Что я ей сделал?..» – Так до свидания, кланяйтесь, пожалуйста, от меня папаше и… мамаше.
Послать поклон Липе у него не хватило духу.
Выйдя на свежий морозный воздух, Сергей с тоской на сердце перешел на другую сторону улицы и жадно стал всматриваться в освещенные окна алеевского дома.
Вон промелькнула фигура. Это Александр, а вот и другая.
У Сергея забилось сердце и затуманились глаза.
– Это она… Липа… ну да, она… теперь она вышла.
Липа подошла к окну, запушенному инеем, прильнула к стеклу и стала смотреть на улицу.
– Она смотрит… ждет кого-то… уж разумеется, не меня! – поспешил он прибавить с горькой улыбкой. – И с какой стати она станет меня высматривать… видя всего раз только и затем… не вышла… слышала мой голос и не пришла… она только и дожидалась того, чтоб я ушел.


