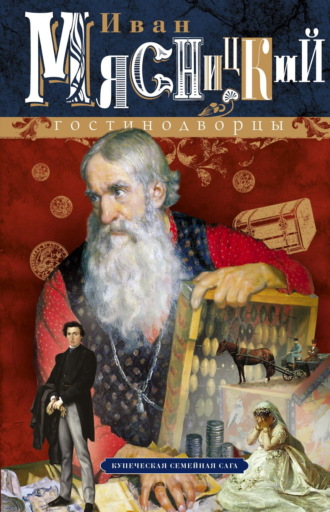
Полная версия
Гостинодворцы. Купеческая семейная сага
Сергей уставился на блестевшие в вышине звезды и погрузился в раздумье.
Очнулся он под утро. Торопливо умывшись, он быстро оделся и осторожно постучал к своему старому другу.
– Кто тут? – тихо спросил тот.
– Я, Аркадий Зиновьевич, Сергей.
– Скажите, – отворил тот дверь, – а я спросонья-то, во всех отношениях, и не разобрал вашего голоса.
Старик был в халате и ермолке, которую ему когда-то подарил на память приятель, казанский татарин, и которую он «худовласия ради» всегда надевал на ночь.
– Доброе утро, ангел мой, уезжаете?
– Уезжаю, Аркадий Зиновьевич.
– Давай бог путь скатертью, во всех отношениях, а мне, знаете, не поспалось.
– Я тоже плохо спал.
– То-то мне показалось, как будто окно отворилось. Нехорошо, ангел мой, едете, собираетесь в путь, а не спите…
– Не мог, вы знаете, что у меня на душе.
– Перемелется – мука будет, ангел мой, равнодушнее надо быть ко всему, во всех отношениях.
– Хорошо вам говорить, Аркадий Зиновьевич, вы дожили до таких лет, когда уже никакие душевные волнения человеку незнакомы…
– Трудно, знаете, это судить.
– И затем, любили ли вы когда-нибудь, как я?..
– Любил-с, во всех отношениях, любил-с! – усмехнулся старик и засунул руки в рукава халата.
Сергей сел и посмотрел с любопытством на Подворотнева.
– Простите, я не знаю почему, но этого никак не предполагал.
– Ничего-с. Наружность, знаете, бывает обманчива, во всех отношениях. Каюсь, любил, да еще как… чуть с ума не спятил-с.
– Вы, Аркадий Зиновьич?
– Я-с. Вон до чего дошел, три раза к проруби на Москве-реке подходил… Известно, глуп был, во всех отношениях, ну, и любил горячо, жарко, даже, можно сказать, и кого любил-то еще-с, – дуру-с.
– Как дуру?
– Дурищу, во всех отношениях, то есть я сам теперь, как вспомню, на себя удивляюсь, как я мог до такого самозабвения дойти, до проруби, то есть.
Старик тряхнул головой, отчего ермолка съехала на левое ухо и придала Подворотневу самый отчаянный вид.
– Жил я в ту пору у Серпуховских и втюрился в дочь соседа: может, слыхали фамилию Колошматина?
– Нет, не слыхал.
– Известная в то время фамилия была. Нужно вам сказать, что сады наши бок о бок сходились, во всех отношениях, ну, и познакомился я с ней через забор. Девка была лупоглазая и пухлая. Настей звали. Целый день, бывало, сидит в саду на скамейке и ест то лепешки, то яблоки, то орехи, во всех отношениях; говорить с ней о чем начнешь – молчит. «Вы, – говорит, – разговаривайте, а я буду слушать; сказочки нет ли у вас хорошей, так сказочку, а то песню спойте». Просто дура-с, а втюрился. Простой, что ли, она мне очень показалась, али русая коса за сердце хвостом зацепила, влюбился, во всех отношениях. Как утро настает, так в сад и тянет; нет Насти – тоска берет.
– Что ж, вы ей в любви-то объяснялись, Аркадий Зиновьич?
– Как же-с, без этого нельзя, какая же это любовь, ежели без объяснений, объяснился, во всех отношениях: познакомился-™ я с ней в мае-с, а в июне и признался, в заборе-то, знаете, между досками щели были, так я в щелочку, во всех отношениях: упал даже на колени в крапиву и все руки обстрекал.
Сергей рассмеялся.
– Смешная история, – расхохотался и сам Подворотнев. – Я ей говорю: «Настенька, я вас люблю, во всех отношениях, полюбите меня», а она мне в ответ: «И рада бы, – говорит, – я полюбить, да маменька твердит, что рано еще, просто дура, во всех отношениях», а мне в ту пору это бог знает, как понравилось. Только в июле вдруг подходит раз к забору и кричит: «Аркадий Зиновьич, бегите скорей, что я вам скажу-то!» Подбежал к забору и спрашиваю: «Что, Настенька?» – «А то, – говорит, – что я теперича вас полюбить могу, потому вчера тятенька за ужином слово настоящее сказал!» – «Какое слово, Настенька?» – «А такое: пора, говорит, тебе, дуре, замуж идти! Ну что ж, говорю, замуж так замуж: я, тятенька, за соседа, за Аркашку, пойду!»
Возликовал я тут, понимаете, во всех отношениях. «Настенька, – говорю, – для такого радостного приключения нам беспременно поцеловаться надо». – «Что ж, – говорит, – целуй через забор!» Так и поцеловались: она доску забора со своей стороны чмокнула, а я со своей, и верите ли, до чего глупость простиралась: до сентября мы таким манером целовались, и в голову даже не приходило, чтоб через забор махнуть, во всех отношениях, да-с! Счастливее себя человека не находил, а растолстел за лето так, что покойный тятенька
сколько раз ругаться принимался, потому то и дело одежу перешивать приходилось, во всех отношениях.
– Да с чего же вы толстели-то, Аркадий Зиновьевич? – со смехом спросил Сергей.
– Как с чего? Во-первых, от счастья-с, а во-вторых, от лепешек, во всех отношениях… Ведь мы с Настей за лето-то, я так полагаю, не одну тысячу оных уничтожили-с. В одном месте забора щель была весьма порядочная, так она, моя зазноба-то, в эту щель мне лепешки все и пропихивала… Стоим возле забора, истребляем лепешки и в доску чмокаем. Блаженство, во всех отношениях! К осени запросился я у родителей вступить в законный брак с Настенькой. Родители и руками и ногами. «Это на дурище-то вздумал? Ни за что. Нет тебе нашего благословения!»
Начал я, ангел мой, в ногах у них валяться. И чем больше я валяюсь, тем пуще родители ожесточаются; даже таску родитель к отказу стал присовокуплять. Целый сентябрь в ногах провалялся, а в октябре слышу вдруг – Настеньку замуж выдали. Что со мной в ту пору было, ангел мой, я и рассказать вам не сумею, просто спятил, во всех отношениях, и к проруби стал ходить… уж и сам не знаю, как очувствовался. И все прошло, ангел мой… Встретил я как-то, год спустя, свою любовь: едет на гитаре и подсолнухи грызет. Я ей поклон, а она на меня с таким изумлением смотрит, словно в первый раз в жизни меня увидала. Хороша любовь, во всех отношениях? А я чуть-чуть было из-за нее в прорубь не нырнул.
– Это вы для моего утешения, Аркадий Зиновьевич, все говорите?
– Правду говорю. А вам ехать пора.
– Пора, пора, – заторопился Сергей, вставая. – А вы не забудете моей просьбы?
– Да разве это можно, во всех отношениях? Напьюсь чайку и отправлюсь исполнять вашу комиссию. Ах, молодость, молодость!.. Прощайте, ангел мой, Сергей Афанасьевич!
Сергей уехал. Подворотнев оделся и сошел вниз, в столовую, где молча сидела за самоваром вся аршиновская семья.
Подворотнев поклонился молча Афанасию Ивановичу и присел к столу.
– Что, нонче опять побежишь Москву-то мерить? – справился у него Афанасий Иванович, дуя на блюдечко.
– Побегу-с… Погода приятная и тепло, во всех отношениях…
– Не всю еще, значит, столицу измерил? – пошутил Аршинов, видимо, находившийся в хорошем расположении духа.
– Трудно, Афанасий Иванович, такую дистанцию измерить-с… Еще Грибоедов, царство ему небесное, изволил заметить, что Москва – дистанция огромного размера.
– Это что за Грибоедов такой?
– Писатель-с известный… Величайшую комедию «Горе от ума» написали-с.
– Писатель! – поморщился Аршинов. – И ты от Сережки, я вижу, ученостью заразился. Смотри, Зиновьич, попадешь ты на старости лет в нигилисты.
– Не попаду, Афанасий Иванович… У нигилистов Бога нет, а я Его, Создателя, в сердце ношу, во всех отношениях…
Сыновья Аршиновы поднялись со своих мест, простились с матерью и отправились в город.
– Иван, на минуту! – остановил Афанасий Иванович в дверях среднего сына. – У меня чтоб к семи часам быть готовым, слышишь?
– Хорошо-с! – ответил тот и, помявшись несколько секунд на месте, вышел.
Подворотнев заторопился. Обжигаясь горячим чаем, он кое-как допил стакан и юркнул в дверь.
Аршинов посмотрел ему неодобрительно вслед, покачал головой и, громко звякнув чашкой по блюдцу, ушел в свой кабинет, посредине которого стоял письменный стол красного дерева и табуретка, обтянутая кожей. На стенах висели фамильные портреты и вид фабрики, рисованный художником, несомненно отъявленным врагом перспективы. Из труб этой фабрики валил дым толстым, черным столбом и упирался прямо в облако бледно-розового цвета, а по двору фабрики бежали, подняв три ноги, запряженные в телеги лошади, заезжавшие своими ушами в окна третьего этажа.
Остальное «убранство» кабинета заключалось в старом шкафе со стеклянною дверью и нескольких стульях, обтянутых зеленым сафьяном.
Афанасий Иванович сел к столу, вынул из него разграфленную тетрадку и, надев круглые очки, стал заносить в нее какие-то цифры.
Скрипнула дверь.
Афанасий Иванович оторвался от тетрадки и увидал Арину Петровну.
– Занят ты, Афанасий Иванович? – робко справилась она, потупляя глаза.
– Так, кое-что записываю, – ответил тот. – Что случилось?
Арина Петровна редко заходила в кабинет мужа, и то только по какому-нибудь экстренному случаю.
– Ничего не случилось, а так это, думаю, уехал он в город или нет.
Афанасий Иванович посмотрел на жену сверх очков и положил перо.
– Несешь ты какую-то околесную. Садись, коли дело есть.
– Дела, Афанасий Иванович, никакого, – заторопилась Арина Петровна.
– Денег, что ль, надо? – недоумевал Афанасий Иванович.
– Зачем? Нет, не надо, я сяду.
Арина Петровна подвинула стул к письменному столу и утерлась платочком.
– Афанасий Иванович, я к тебе вот зачем! – начала она прерывистым голосом. – По делу я, по семейному, только ты не сердись, Афанасий Иванович.
– Да говори, что такое?
– Видишь ли, Афанасий Иванович, ты, пожалуйста, не подумай, что я тут… я ни при чем, Афанасий Иванович.
– Заладила: Афанасий Иванович да Афанасий Иванович! Я давно Афанасий Иванович! – насмешливо проговорил Аршинов, облокачиваясь на стол. – В чем дело?
– Дело такое, Афанасий Иванович, что его надо обдумать хорошенько.
– Да ты говори, что за дело такое, а я уж его обдумаю, – добродушно ответил тот.
– Видишь ли, я, как мать, это должна, ты пойми, как мать, дети для меня все равны, что Андрюша, что Ваня, что Сережа, все больны моему сердцу, Афанасий Иванович.
– Да не мямли ты, пожалуйста, ну равны, ну а дальше что?
– Ты сегодня едешь смотреть невесту для Вани?
– Еду. Об этом я тебе вчера говорил, и ты мое намерение одобрила.
– Не езди, Афанасий Иваныч, нельзя ехать.
– Это почему? – сдвинул тот брови. – Аль за невестой изъяны водятся?
– Что ты, что ты, Господь с тобой, из такой семьи, и вдруг… Нельзя ехать, Афанасий Иваныч, ее… эту… понимаешь… Сережа любит.
Аршинов посмотрел сперва с удивлением на жену, а затем раскатился хохотом.
– Ха-ха-ха! Уморила! Ой, уморила!
– Афанасий Иваныч, не такое это дело, чтобы смеяться.
– Постой, глупая! Наш Сергей ее любит?
– Наш, кому же еще?
– Однако у него губа не дура. То-то я гляжу, что это он бесперечь к Алеевым таскается, а он, изволите видеть, вон для какого развлечения! И крепко любит? По-книжному, поди, а?
– Не знаю как, но только любит.
– Ночи не спит, звезды считает, песенки сочиняет, а? Так, что ли?
– Афанасий Иваныч!
– А ты, старая, нюни и распустила. Мальчишка, молокосос, начитался глупых книжонок и забрал себе в голову, что Алеев ему пара… Э-эх, старая! Говорил тебе раньше, дери Сережку, дери, а то пути не будет, вот тебе на мое и вышло. Любовь материнская тоже: как это можно драть ребенка, деликатного он сложения, и вдруг ему горячих всыпать. Слепота куриная, а не любовь! Лозы не попробовал – ума не запас, а ты вот что скажи Сергею, сам я с ним и разговаривать не желаю.
– Не сын он рази тебе?
– Не умею я с ним разговаривать, ни я его не пойму, ни он меня. Сергей для меня немой, а я для него глухой, так ты скажи ему: выкинь дурь из головы и займись делом. Алеева тебе не пара, и ты ей не жених.
– Почему не пара? Почему?
– А потому, что, во-первых, по-моему, ему рано жениться, а во-вторых, еще потому, что Алеев не отдаст за него дочь.
– За Сережу не отдаст? За Сережу? – удивленно всплеснула руками Арина Петровна.
– Да, за Сережку. Им нужен зять-купец, а не какой-то нигилист.
– Афанасий Иваныч, Богу ты ответишь за такие слова.
– И отвечу, а на Алеевой женю все-таки Ивана.
– Господи! Да ведь они любят друг друга.
– Глупости! Книжки все это и больше ничего, выйдет замуж и Сергея забудет.
– Афанасий Иваныч! Я тебя во всю жизнь мою не просила ни о чем, рабой твоей была покорной и творила волю твою. Ужли ты моей первой и последней просьбы не исполнишь? Сделай счастливым Сережу навек.
– Арина Петровна, достаточно мы, кажется, с вами поговорили об этом предмете, пора и кончить. Я тебе сказал, что Алеев не отдаст дочь за Сергея, и кончено…
– Понимаю тебя… Ты не хочешь за Сережу сватать… к чему эти притворства, Афанасий Иванович?
– И не хочу. Сватал за Ивана и вдруг подставлю Сергея. За кого меня Алеев сочтет, а?
– Объяснись. Скажи, что не знал, что они любят друг друга…
– Довольно! Яйца курицу начинают учить! Я сказал, значит, сделал…
– Это твое последнее слово, Афанасий Иванович? – проговорила, бледнея, Арина Петровна и поднялась со стула.
– Распоследнее, Арина Петровна-с… Я дураком ни перед кем не был и не буду, а наипаче того чрез такого сына, как твой Сергей…
– Бог с тобой. Ты отец и властен делать что хочешь, но помни, Афанасий Иваныч, что ты этой свадьбой троих несчастными сделаешь…
– Бабьи сказки.
– Не сказки, а правда, Афанасий Иваныч… и Ивану счастья не будет, и Сергея с Липой загубишь…
– Пустой разговор… а уж ежели Сережке оченно захотелось жениться, так я его после Ивана же женю на Серовой…
– На Серовой? На хромой и косой?
– Самая настоящая пара будет. Она в пенционе обучалась, у трех профессоров опосля в уроках упражнялась – для Сережки клад, а не жена. Оба дураки и оба ученые! Ха-ха-ха.
– Сердца у тебя нет, Афанасий Иванович, вот что!.. Ни сердца, ни стыда, ни совести. Самодуром ты весь век свой прожил, самодуром и умрешь… только помни, дашь ты ответ на Страшном суде за свое самодурство…
– Это что еще за новости? – стукнул кулаком по столу Афанасий Иванович.
– Изверг ты, а не отец… да! Изверг… Слышишь, Афанасий Иванович? Всю жизнь я молчала и тебе не перечила, а теперь все скажу… Не трогай мою плоть и кровь!..
– Вон! – поднялся с табуретки, трясясь всем телом, Аршинов.
– Не на то я породила тебе сына, чтоб ты издевался над ним да зверствовал… И на тебя власть и суд есть… там… слышишь… там… в небесах…
– Вон, говорят тебе, – побагровел весь Аршинов, делая шаг к жене, – или я тебя…
– Убей! Убей!.. Слова не скажу… молиться за тебя стану… пожалей только Сережу… Афанасий Иванович!.. Есть Бог на небе! Есть!
Арина Петровна упала в кресло и зарыдала истерически.
– Баба и… дура! – прошипел Аршинов и, выйдя из кабинета, так хлопнул дверью, что все стекла задрожали. – Эй! Лошадь! – крикнул он испуганной горничной, метавшейся в страхе по комнатам.
VАлеевы в это время тоже собирались уезжать из дома в город. Старик, за очень редкими исключениями, всегда выезжал вместе с сыном, для которого это совместное путешествие от Таганки до Ильинки просто было пыткой. Старик, развлечения ради, пилил всю дорогу Александра и читал ему родительские наставления, не шедшие, разумеется, далее набившей оскомину азбучной морали.
Обыкновенно Александр ехал молча, уставясь в широкую, наваченную спину кучера; слушая брюзжание отца, он думал только об одном: скоро ли они доедут до цели путешествия?
Лавка Алеева находилась в Гостином же дворе, только ближе к Ильинке. Подъехав к Гостиному двору, старик слезал с дрожек и, как ни в чем не бывало, ласково обращался к сыну с одним и тем же вопросом: «Сашенька, я думаю, отпустить Пимена домой?»
Кучера Пимена отпускали, и старик, взяв под руку сына, шел с ним в лавку и разговаривал уже совершенно о других предметах.
Такова уж была привычка у старика. Кучер Пимен рассказывал, что Алеев читал нотации сыну даже тогда, когда тот по какому-нибудь случаю выезжал в город раньше или позже отца. Едет старик один и все-таки, по заведенному порядку, шпигует отсутствующего сына. Шпигованьем этим он увлекался до того, что, подъехав к Гостиному двору, задавал все тот же стереотипный вопрос: «Сашенька, отпустить Пимена домой?..» Затем, спохватившись, он строго смотрел на улыбавшегося Пимена и кричал: «Пошел домой, болван!..»
– Ну, Александр, ты готов?! – крикнул старик, расчесывая бороду перед зеркалом в гостиной.
– Совсем, папаша, – ответил тот, застегивая на ходу серенькую куртку.
– Поедем в город… выходи, я сейчас… матери только несколько слов скажу…
Александр вышел на подъезд.
Старик хлопнул по боковому карману, вынул оттуда бумажник, напоминавший своими размерами целый саквояж, развернул его и вытащил несколько кредиток. Бережно свернув их вчетверо, он застегнул сюртук на все пуговицы и развалистою походкой направился в столовую, где за самоваром сидела сама Алеева и допивала чай.
– Аль что забыл, вернулся? – спросила она мужа.
– И то забыл… Вот тебе деньги… вина хорошего купи, закуски… ужо к нам гости приедут…
– Ну вот! Завсегда ты этак-то… на травлю ехать – собак кормить.
– Не одно у меня в голове дело… просто из ума вон…
– Какие гости-то будут?
– Аршиновы, отец с сыном…
– С Сереженькой?
– С Иваном… средним…
– Ну что ж, я очень рада… Я и то Сереженьке-то сколько раз пеняла: отчего-де все один да один к Саше ездишь… прихватил бы брата, который неженатый…
– Ну, вот он самый этот неженатый нонче и приедет с Афанасьем Иванычем. Чтоб все было хорошо, слышишь?
– Да уж это известно… Чай пить приедут?
– Чай… в беседке, в саду вели сервировать… а на другом столе вино с закуской…
– Можно и так сделать. Пирожки я нонче с визигой заказала, так пирожки подам…
– Ну, пирожки-то ты убери подальше. Не идут они к этому. Какое это угощение!
– Да так, отчего же… промежду прочим-то?
– И промежду прочим убери. Да, вот еще что, – побарабанил Алеев себя по лбу пальцами. – Липа чтоб поприоделась как следует…
– Да она и так у нас, слава богу, раздетая не ходит.
– Ну, что ты мне там поешь? – сдвинул он брови. – Вобче говорю, чтоб почище… ленточку там, где следует, бантик приколи… Кажная чтоб бабья глупость на своем месте была… слышишь?
Алеева с удивлением посмотрела на мужа. В первый раз в жизни услыхала она от него такие распоряжения насчет туалета Липочки. Обыкновенно он никогда не замечал, во что одеты жена и дочь, а только ругался самым откровенным образом, когда ему приходилось платить по счетам модных магазинов и портних.
– Хорошо, скажу ей, – ответила Алеева мужу, смотревшему на нее в упор, – только она ведь у нас своендравная… захочет – оденется, а не захочет – ни за что не станет…
– Ну, это своенравие, сударыня моя, я не признаю и слышать о нем не хочу. Я сказал, значит, так и будет. Придет мне желание в рогоже ее гостям показать – собственноручно в рогожу зашью и покажу… девчонка, да чтоб родительских приказов не исполняла, – это чтоб я больше не слыхал. Поняла?
– Поняла, Спиридоныч… Как не понять! Я так это, а то она рази может твоих приказаний не исполнить?
– Да скажи еще ей, чтоб она поласковей да поумней себя вела с молодым Аршиновым…
– Она и то, Спиридоныч, ласкова с ним да приветлива…
– Ты про кого говоришь?
– Про Сережу Аршинова…
– Мне до этого дурака дела нет. Я говорю тебе про Ивана, который нынче с отцом у нас будет.
– Ну какой же Сережа дурак, Спиридоныч? Совсем зря ты его обижаешь… да я от него, окромя учтивых слов, ничего глупого не слыхала.
– А ты слушай, что я тебе говорю. Пустой парень, и больше ничего. Сам отец его мне таким аттестовал… слышишь?
– Слушаю, только совсем это он занапрасну…
– Ну, мне твоих мнениев не надо. Иван Афанасьич – дело совсем другое… и парень деловой, и к отцу уважителен…
– Не знаю я его…
– Вот и узнаешь, может, даже и зятем назовешь…
– Так они смотреть Липу приедут?
– Да. Ну, теперь я в город поехал…
– Спиридоныч, постой… а как же мне Липе-то… сказать об этом али нет?
Алеев задумался.
– Да отчего ж не сказать? Секрету в этом для нее никакого быть не может. Рано ли, поздно ли, а должна же замуж выходить. Девки что птицы: как пооперятся, так сичас и из гнезда вон.
Проговорив эту сентенцию, Алеев круто повернулся, нахлобучил на самые уши цилиндр и вышел на двор, где у крыльца в дрожках уже сидел Александр и, в ожидании отца, разговаривал с кучером.
Выезжая из ворот, они раскланялись с Подворотневым, встретившимся с ними почти у самого их дома.
– Александр, ведь это Подворотнев, кажется? – спросил Алеев у сына.
– Кажется, он, папаша…
– Да, вот она, судьба-то, – проговорил тот в раздумье, – первые в Москве рысаки у него были, а теперь вон пешком Москву-то вымеривает… а все от гордыни, Александр. Кабы слушался во младости родителей, никогда бы до таких степеней не дошел.
Алеев сел на своего любимого конька и поехал.
Подворотнев между тем подошел к воротам алеевского дома и заглянул в калитку.
Дворник, проводив хозяина, затворил ворота и исчез. На дворе никого не было, кроме старой собаки Кудлашки, глодавшей кость под навесом каретного сарая.
Подворотнев направился к крыльцу. Кудлашка бросила кость и побежала с глухим лаем к незваному гостю.
– Шарик… Жучка, как тебя, во всех отношениях? Что ты, господь с тобой! – кричал Подворотнев собаке, отмахиваясь от нее книгой, которую он держал в руках.
Однако гостю, несмотря на такую защиту, пришлось бы плохо, если бы в одно из открытых окон бельэтажа не высунулась русая головка Липы и не закричала на собаку.
Подворотнева впустила в переднюю какая-то старушка в люстриновом темном платочке и посмотрела на него из-под Руки.
– Да тебе, батюшка, кого надоть-то? – спросила она у Аркадия Зиновьича, утиравшего платком вспотевшее от ходьбы лицо.
– Мне бы Александра Сергеича повидать, – ответил тот, ставя решительно свою шляпу на подзеркальник.
– Да они, батюшка, сию минутую с самим в город уехали.
– Так-с. Очень это прискорбно, во всех отношениях, но, во всяком случае, многоуважаемая хозяйка Анна Ивановна дома обретается?
– Дома, дома, батюшка… так ты к хозяйке желаешь?
– Жажду-с, старушка божия…
– Пойдем кверху, коли так… Кудлашка-то тебя не попортила, батюшка?
– Чуть-чуть, но сердиться на Кудлашку вашу оснований не имею, ибо собачья должность в том и заключается, чтобы гостей портить, во всех отношениях…
Старушка ввела Подворотнева по широкой лестнице с железными вызолоченными перилами в большую светлую залу с громадною люстрой, завешенной от мух кисеей.
– Как, батюшка, о тебе доложить-то? – спросила старушка.
– Скажи, старушка божия, так: старый, мол, знакомец ваш, Подворотнев, лицезреть желает хозяйку дома сего.
– Приворотнев, сказываешь?
– Подворотнев, ангел мой, а не Приворотнев… По-дво-ротнев. Самая, можно сказать, низменная фамилия, во всех отношениях. Подворотнев. Запомнишь?
– Как, батюшка, не запомнить! Фамилия не бознать какая мудрящая.
Старушка скрылась во внутренних комнатах. Подворотнев прошелся по зале, посмотрел в открытое окно на двор и сел на кончик стула, захватив книгу под левую руку и прижав ее к сердцу.
Прошло минут с пять. Где-то кто-то кашлянул. Аркадий Зиновьич вскочил со стула и одернул сюртук.
Вошла та же старуха, что впустила Подворотнева, и так же, глядя из-под руки на гостя, улыбалась беззубым ртом.
– А ведь я, батюшка, твою фамилию-то, кажись, перепутала, – проговорила она, подходя к нему. – Криворотов, что ль?
– Подворотнев, матушка! – с сожалением покачал тот головой. – По-дво-ротнев… подворотню-то упомнишь?
– Ну, как не упомнить… уж очень фамилия-то несуразная… идешь, идешь и забудешь… Подворотнев, Подворотнев, Подворотнев, – твердила старуха, скрываясь.
Подворотнев улыбнулся и зашагал по зале, задавая себе вопрос: перепутает опять его фамилию старуха или не перепутает?
Ожидать ему на сей раз пришлось недолго. Явилась молодая горничная и, проговорив: «Пожалуйте-с», повела Аркадия Зиновьича в столовую, в дверях которой стояла хозяйка и с любопытством смотрела на шедшего к ней гостя.
– Многоуважаемой Анне Ивановне бью челом и низко кланяюсь! – поклонился Подворотнев хозяйке в пояс.
– Батюшки! Аркадий Зиновьич! – всплеснула та руками. – Ужли это вы?
– Я-с, многоуважаемая, я-с, во всех отношениях! – крепко пожал он протянутую руку хозяйки. – Сколько лет, сколько зим не имел счастия лицезреть вашу персону…
– Давно, ох давно, Аркадий Зиновьич! Грешно, батюшка, старых знакомых забывать, сколько лет-то хлеб-соль водили… пожалуйте за стол-то…
– Было время, Анна Ивановна, было-с! – вздохнул глубоко Подворотнев, усаживаясь за самовар. – Жил я в достатке, и люди мной не гнушались, а теперь мал бех и ничтожен, во всех отношениях.


