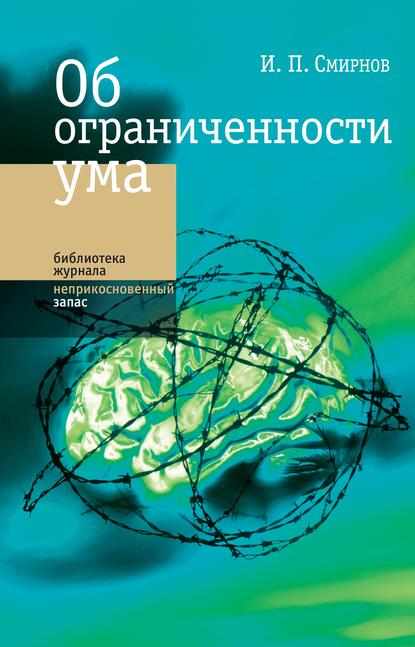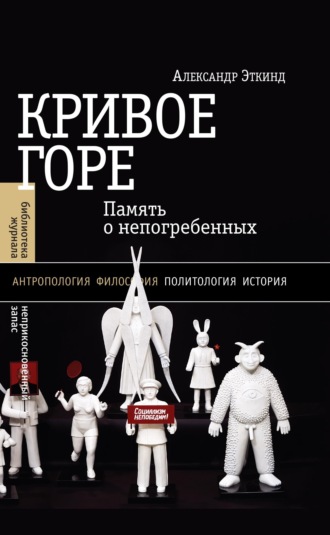
Полная версия
Кривое горе. Память о непогребенных
Неузнавание вернувшимся
Героя повести Василия Гроссмана «Все течет» (1955—1963) Ивана Григорьевича арестовали, когда он был студентом. Двадцать девять лет он провел в лагере. Невеста и друзья долго помнили его, но у всякой памяти есть предел. Гроссман анализирует забывание близкого человека с помощью советского понятия прописки, обогащая его фрейдовской психологической теорией и сказочной жутью: «Человек сперва выписался из жизни, перекочевал в память к людям, потом и в памяти потерял прописку, ушел в подсознание и теперь возникал редко, как ванька-встанька, пугал неожиданностью своего внезапного, секундного появления»115. Вина выживших проявляется в страхе или даже враждебности к жертве, пока ее еще помнят.
Самого Ивана Григорьевича постоянно беспокоит проблема узнавания. После освобождения из лагеря в 1955 году он увидел во сне покойную мать. Она шла вдоль лагерной дороги, забитой тракторами и грузовиками. «Мама, мама», – звал Иван, но она не слышала его за гулом моторов. «Он не сомневался, что она в сутолоке дороги узнает в седом лагернике своего сына, только бы услышала, только бы оглянулась, но она не слышала его, не оглянулась». Страх измениться до неузнаваемости, измениться так, что его не узнает даже мать, скоро осуществится в реальности его возвращения. Двоюродный брат Ивана, успешный ученый Николай Андреевич, узнает его как физического индивида, но не признает его как моральную личность. Тридцать лет назад братья были близки, но при встрече в Москве оба ощущают дискомфорт. Николай хочет спросить Ивана о его жизни в лагере и повиниться в тех компромиссах, на которые ему, типичному советскому интеллигенту, пришлось идти ради выживания «на свободе». Но он не может заставить себя ни спрашивать, ни признаваться. Оба брата выжили, оба чувствуют вину за это, но чувства их столь же различны, как и способы выживания. Теперь они не готовы обсуждать катастрофический разрыв в их опыте. Чтобы передать этот разрыв, Гроссман прибегает к поразительной метафоре: теперь эти братья друг для друга как иностранцы. Лицо Ивана кажется Николаю «чужим, недобрым, враждебным», и «такое чувство возникало у него во время заграничных поездок. За границей ему казалось немыслимым, невозможным говорить с холеными иностранцами о своих сомнениях, делиться с ними горечью пережитого». Где, однако, холеные иностранцы и где старый зэк? Но и Иван Григорьевич тоже не хочет делиться с двоюродным братом своими болью и горем: «Иван Григорьевич представил себе, как… он стал бы рассказывать о людях, ушедших в вечную тьму. Судьба многих из них казалась так пронзительно печальна, и даже самое нежное, самое тихое и доброе слово о них было бы как прикосновение шершавой, тупой руки к обнажившемуся растерзанному сердцу. Нельзя было касаться их». Чтобы не вдаться в обсуждение своего горя по лагерным друзьям – единственной темы, которая теперь для него важна, – он выбирает для лагерного опыта экзотизирующие метафоры: говорить о нем – все равно что рассказывать «сказки тысячи и одной полярной ночи».
Иван Григорьевич и Николай Андреевич внешне узнают друг друга. Они не отрицают, что остались родственниками, сохранившими взаимную память с того времени, когда знали и любили друг друга. Однако они не признают друг друга как собеседников, способных разделить совместные чувства. Оба переживают перемены, произошедшие с другим, не просто как дальнейшее развитие и старение того же самого человека, но как радикальную трансформацию идентичности: как будто человека, которого помнишь, подменил собой незнакомец, иностранец или даже самозванец. «Где же он, Коля?..» – спрашивает себя Иван Григорьевич; кто из них настоящий – тот Коля, которого он помнит, или тот, что стоит сейчас перед ним? Гроссман несколько раз подчеркивает, что оба брата в конце концов сказали друг другу «прямо противоположное» тому, что намеревались сказать. От некогда любимого двоюродного брата бедствие неузнавания переносится на некогда любимый, но тоже не вполне родной город. Иван Григорьевич едет в Ленинград, где жил до ареста, и чувствует, что одновременно «узнавал и не узнавал город»116. Он видит на его улицах мертвых товарищей по лагерю, ему кажется, что они приветствуют его из-за угла, и он чувствует «дух лагерной казармы», который, как ему кажется, распространился отсюда на всю страну.
Отныне Иван Григорьевич будет бороться с навязчивым желанием вернуться в свой лагерь или то, что от него осталось. По ходу повести он, впрочем, обретает работу, комнату и женщину. Она вскоре умирает, но он продолжает говорить с ней о любви, истории и лагерях. Повесть заканчивается поездкой Ивана Григорьевича на Кавказ, туда, где стоял родительский дом (см. главу 2). Дома на этом месте уже нет, но Иван вознагражден: ему показалось, что руки покойной матери коснулись его головы. Подобно таинственным пилигримам, описанным в одном из первых стихотворений Бродского (см. главу 5), в конце своего паломничества Иван Григорьевич находит утешение в неизменности своего жизненного мира. Несмотря на все усилия государства переделать людей, вещи и страну до неузнаваемости, «мир останется прежним, да, останется прежним», – писал Бродский в 1958 году117. «Все же тот же, неизменный» – такими словами Гроссман заканчивает повесть об Иване Григорьевиче. Все течет, но он остался узнаваем, и в этом его победа.
Многообразие неузнаваний
Узнаваниe, как и идентичность, развертывается на многих уровнях. Модест Платонович, один из героев «Пушкинского дома» Андрея Битова (завершен в 1971 году, опубликован в 1978-м), достиг славы как литературовед в 1920-х годах, потом в 1929-м попал в ГУЛАГ и был освобожден только в 1950-х. Проведя в лагерях двадцать семь лет, он выжил, но оставил науку. Вернувшись в Ленинград, он проводил теперь время, выпивая с бывшим начальником своего лагеря118. Все, чего он хотел теперь, – вернуться назад в лагерь или по крайней мере на место, где он стоял. Его внук, молодой литературовед Лева, очень хотел встретиться со знаменитым дедом, которого видел только на фотографиях, снятых до ареста. Зато Лева читал работы деда и восхищался ими. Он хотел стать последователем и преемником Модеста Платоновича: «Лева гордо чувствовал в своем – лицо деда»119. Но когда Лева наконец пришел к нему в гости и Модест Платонович открыл ему дверь, Лева не мог понять, кто этот бритый человек в ватнике. У него было обветренное и задубевшее лицо, красная шея и неподвижное выражение лица. Таким его дед быть не мог. Даже его собутыльник – бывший начлаг – выглядел более интеллигентным. «Я стал другим человеком», – говорит дед внуку. Лагерная травма превратила глубокого ученого и знаменитого эрудита в хамоватого алкоголика. Модест Платонович стремится воспроизвести свою травму, он одержим саморазрушением и скоро добьется своего. Как признавался сам Битов, он создал этого героя на основе судеб реальных ученых, которые провели много лет в ссылке или заключении (см. главу 4)120. В конце концов старик исчез, и семья решила, что он поехал умирать туда, где стоял его лагерь. Теперь, когда его не стало, Институт русской литературы создает культ вокруг его имени. В этом деле находит себя и Лева.
Подвиг воображения Битова поразителен. Создавая роман без автобиографической основы, он пользуется свободой художника с силой и яркостью, которые недоступны настоящим воспоминаниям. Восхищенный внук не узнает деда, а тому противен внук, восторги которого отрицают то, что сделала с дедом история. На этот раз добровольно, дед уезжает обратно, чтобы умереть там, где лежат его непогребенные друзья. Внук пользуется надежным теперь отсутствием деда, чтобы создать лживое место его памяти.
В 1952 году еще один будущий лидер «оттепели», Андрей Синявский, встречал своего отца Доната после девятимесячного тюремного заключения. Прямо от ворот тюрьмы, располагавшейся на окраине городка, отец повел сына в лес – поговорить. Он рассказал Андрею, что в тюрьме стал жертвой научного эксперимента. Его подсоединили к электрическому аппарату, и поэтому «они» теперь могут контролировать его слова и даже мысли: это что-то вроде «радарной установки с двусторонней связью». Поскольку отец верил, что благодаря этой установке «они» могут слышать и этот разговор в лесу, он оборвал его. От страданий отца и его безумия, от недоговоренности сын пришел в отчаяние. Вспоминая этот разговор с отцом через несколько десятилетий в автобиографической книге «Спокойной ночи», Синявский неоднозначно объяснял состояние отца. Может быть, это была галлюцинация, вызванная психологической травмой; а возможно, отец и вправду был под наблюдением какого-нибудь изобретенного «ими» секретного прибора. Из рассказа Синявского ясно, что отцовское откровение вызвало болезненное отчуждение между ним и сыном. Страдая от непреодоленной дистанции между собой и отцом, Синявский заканчивает этот эпизод признанием сыновней вины: «Радость общения с отцом смешивалась у меня с такой неутолимой тоской, словно, встретившись с ним, я что-то навсегда потерял… Мы упивались видом и запахом друг друга. И вместе с тем… мы были разъединены. Мне нужно было торопиться в Москву, бросив отца, с его вещими голосами, одного, без помощи, в этом жутком запустении. Моему одиночеству он тоже был бессилен помочь. И никогда уже не узнал, о чем я думаю и куда иду. У меня не было права его обременять. Но моя вина перед ним от этого не уменьшается»121.
Шок от встречи с отцом, которого до неузнавания преобразил тюремный опыт, определил писательскую судьбу Синявского (см. главу 6). Он представляет этот разговор с отцом как собственную инициацию в писатели и особенно в тот тип письма, который будет ему отныне, после этой встречи, свойствен. Называя его «гротескным» или «фантастическим», Синявский верил, что получил от сломленного отца таинственную способность общаться с иными, невероятными мирами. Сетуя на дистанцию между собой и отцом, он смог заново идентифицировать себя с ним. Так, в воссоединении с отцом, родился странный литературный стиль будущего Абрама Терца. «Духи работали, и я не мог от них оторваться, тоже поднятый на воздух чувством какого-то, скажем так, пиетического ужаса… И тот ужас, как это бывает в сильные минуты, боролся и граничил с восторгом по поводу того, что я вижу и испытываю. Должно быть, состояние отца мне сообщилось. И я понял и перенес на себя и рокочущую его отдаленность от всего света, и строгую сосредоточенность на мыслях и картинах, доступных ему одному».
Тоскуя по заключенным в лагерях родителям, советские сироты воображали их экзотическими героями или романтическими мучениками. Их было трудно узнать в пожилых и истощенных жертвах бессмысленного террора, которые возвращались из лагерей. Пытаясь представить невообразимое, друзья и родственники изображали тело и опыт заключенного как нечто странное, чужое и жуткое. Для некоторых, как для Синявского, сына выжившего, но обезумевшего зэка, или его ученика Высоцкого, чьей лучшей ролью станет Гамлет, то были моменты творческого прозрения.
Пережив ситуацию неопределенной потери, Надежда Мандельштам рассказывала о квазимеланхолическом характере незавершенной работы горя. «Ничего нет страшнее медленной смерти», – писала она, имея в виду не собственное умирание, а медленное признание чужой смерти. Повторявшийся кошмар, в котором она спрашивала Осипа, что с ним «там» делают, преследовал Надежду, пока она после многих стараний не получила официальное уведомление о смерти мужа. Все равно в нем не сообщалось, когда наступила смерть. Листок бумаги развеял мечту, но не надежду. Надежда Яковлевна закончила первую книгу «Воспоминаний» сомнением в дате, если не в факте, смерти мужа, а вторую – письмом, написанным Осипу на случай, если она умрет первой.
Как фрейдовская меланхолия, горе Надежды не признает потери. В отличие от меланхолии этот психологический процесс реалистичен: он не отрицает потери, не скрывает ее за фантазиями на грани бреда, а отражает реальную неопределенность доступной информации. Пытаясь узнать судьбу мужа, Надежда активно искала свидетелей, строила гипотезы и проверяла полученную информацию. Она нашла нескольких бывших заключенных, которые говорили, что встречали Осипа в лагерях; но их рассказы казались недостоверными. Одним из этих свидетелей был выживший доходяга, поэт Юрий Казарновский (1904—1956?)122. Передавая его рассказ о смерти Осипа, Надежда Мандельштам критически заметила: «Память его превратилась в огромный прокисший блин, в котором реалии и факты каторжного быта спеклись с небылицами, фантазиями, легендами и выдумками». Ей нужны были именно факты – на самом деле всего один факт, который ответил бы на вопрос: что они «там» сделали с Осипом? Но Казарновский вместо этого рассказывал ей о собственном чудесном спасении. Надежда писала, что этот род памяти, похожей на прокисший блин, был характерен для многих переживших лагеря и вышедших на свободу в начале 1950-х. Потом бывшие заключенные начали заимствовать чужие истории. Для голой, мучимой жизни единственно значимыми событиями были чужая смерть или, наоборот, собственное чудесное выживание. «Для них [лагерников] не существовало дат и течения времени, они не проводили строгих границ между фактами, свидетелями которых они были, и лагерными легендами. Места, названия и течение событий спутывались в памяти этих потрясенных людей в клубок, и распутать его я не могла. Большинство лагерных рассказов, какими они мне представились сначала, – это несвязный перечень ярких минут, когда рассказчик находился на краю гибели и все-таки чудом сохранился в живых»123.
Донат Синявский не верил в свое освобождение, а Андрей – в воссоединение с отцом. Мандельштам проверяла реальность потери мужа, а Казарновский – реальность своего выживания. Сосредоточенные на своих фантазмах, они не могли найти почвы для общения. В ГУЛАГе и вокруг него мучительная неуверенность в собственной жизни отражала меланхолическую неопределенность смерти или выживания Другого.
Узнавание и перераспределение
Изображая трудную ситуацию, в которой оказались и вернувшиеся из лагеря, и остававшиеся «на свободе», разные авторы прибегали к одному и тому же средству. Они документировали момент неузнавания или его ожидание, воображение и кошмар. Кратковременная неспособность узнать вернувшегося отца или приехавшего сына, воображаемое неузнавание сыном матери или неузнавание ею сына, кошмар быть не узнанной мужем – все это разрывает глубинную ткань субъективности. Такой разрыв нужно заполнить нарративной конструкцией, на которую может уйти вся оставшаяся жизнь. Произошло ли неузнавание в реальности или только в воображении, значение его остается тем же: неузнавание выступает как притча о терроре, всеохватывающая аллегория субъективного опыта «репрессий».
В отличие от признания, за которое борются политические и культурные группы, узнавание внутри семьи принимается как данность. Семейная жизнь покоится на признании личных идентичностей, которые длятся всю жизнь. Поэтому неузнавание людей, с которыми человек связан семейными отношениями и общим опытом, производит сильнейшее действие на всех, кто не узнал или не был узнан. Если эти люди любят друг друга, неузнавание вызывает страх и чувство вины. Такие жуткие мгновения свидетельствуют о потере сострадания, доверия и солидарности. Люди связывают эти короткие моменты неузнавания с более масштабными факторами – длительным и несправедливым заключением, историческими сдвигами или движением необратимого, враждебного человеку времени. Эти дыры в субъективном опыте нужно заполнять общением, воображением и письмом. В личном нарративе выжившего неузнавание близкого человека становится тропом высшей силы – сильным литературным приемом, который показывает масштаб и степень трансформации человека под воздействием государства. Этот троп раскрывает боль жертвы и чувство вины выжившего. История человека, которого государство изменило настолько, что его перестали узнавать самые близкие, работает как средство выявления и осуждения трансформативной силы самого государства. Такова моя гипотеза, объясняющая суть рассказа о неузнавании после возвращения из ГУЛАГа. Этот троп признает непредвиденное отчуждение «репрессированных» от тех, кто оставался «на свободе», – безмерное расстояние между ахматовскими «Россией, которая сидела», и «Россией, которая сажала». Именно тогда, когда они наконец взглянули друг другу в глаза, они не узнали друг друга.
На следующем уровне интерпретации сюжет неузнавания становится притчей о советском социализме, его идеалистических порывах и трагической неудаче. Согласно идеологическим принципам и правовым основаниям советской системы, она пожертвовала признанием индивидуальных и групповых различий ради перераспределения материальных благ – пищи, крова, основных услуг и в идеале – всех форм капитала. Несмотря на массовые нарушения этого нормативного принципа, идеал перераспределения не подвергался сомнению за весь период существования СССР124. Но чтобы уничтожить то, что система называла «классами», она разделилась на два очень разных мира, которые различались сильнее, чем можно было себе вообразить до, после или снаружи этого процесса. В одном мире жили «свободные граждане», во втором – заключенные ГУЛАГа. Вместо всех человеческих различий было сконструировано одно, биполярное измерение неравенства между людьми. Государство вложило всю свою мощь в то, чтобы углубить и расширить эту пропасть, сделать жизни людей в двух мирах максимально различными, воспрепятствовать их общению. Этот проект оказался успешным. Когда обитатели двух миров встречались, они не могли вступить в контакт, рассказать друг другу о своем опыте или совместно жить в одном пространстве. Они не узнавали друг друга.
Не существует единого нарратива, который охватил бы советский террор, но у него есть своя особенная аллегория – рассказ о неузнавании. Сцены неузнавания отца сыном, сына матерью, брата братом жутким образом демонстрируют, насколько радикальным было вторжение Советского государства в самые глубокие, самые частные аспекты семьи и родства. Ближайшие родственники не узнавали друг друга, потому что государство «переделало» их обоих, каждого по-своему. Когда рухнул ГУЛАГ, а за ним СССР, история о неузнавании вернувшихся стала риторическим тропом, означавшим ужас «репрессий» и бесполезность «реабилитации».
4. ИСТОРИЯ ПОСЛЕ ТЮРЬМЫ
Профессия историка в Советском Союзе несла с собой высокую степень риска. Многие историки провели месяцы, годы или даже десятилетия в различных местах советской пенитенциарной системы. Одни погибли там, другие выжили и продолжили свою профессиональную деятельность. Их труды, написанные после ГУЛАГа, являются итогом редкого испытания для истории как профессии. Это уникальные источники, и они заслуживают, чтобы мы прочли их медленно и с уважением к деталям.
Большинство репрессированных историков сформировались как ученые в традиционных областях историографии, ориентированных на архивную работу, или в рамках классической филологии. Некоторые добавили к этим традициям новейшие философские интересы, от неокантианства до феноменологии и марксизма. Одни не могли избавиться от гулаговского опыта и испытывали навязчивое желание репрезентировать его в исторических параллелях и аналогиях этому опыту. Других это стремление затронуло меньше. Постмодернистское представление об историческом письме как нарративном жанре, который передает жизненный опыт авторов и читателей, делая это за счет потерянного прошлого, показалось бы чуждым большинству этих ученых. Но они охотно согласились бы с тем, что их понимание современной им жизни связано с их профессиональными знаниями. Верным было и обратное: исторические взгляды этих ученых сформировались под влиянием их советского опыта, и особенно опыта ГУЛАГа.
Во многих воспоминаниях говорится о том, что история была частым предметом лагерных разговоров среди неисториков. Когда два офицера Красной армии, Лев Копелев и Александр Солженицын, после окончания войны встретились в лагерном бараке, они сразу стали обсуждать российскую и европейскую историю. Солженицын был математиком и поэтом, но лагерный опыт превратил его в историка-любителя. История была для него тем, что вызвало к жизни советские лагеря и принесло страдания их жертвам. ГУЛАГ был симптомом огромного масштаба; у него должны были быть подлинные, неочевидные причины, и их искали в истории. Как пациент раскапывает свое прошлое, чтобы избавиться от болезненных симптомов, так и узники ГУЛАГа углублялись в общее прошлое, чтобы поставить диагноз нации, империи и всему миру. После коллапса ГУЛАГа в 1953—1956 годах его бывшие заключенные передали свой интерес к исторической терапии более широким кругам. В постсталинский период центральным элементом публичной сферы стало историческое письмо. И поразительно часто ведущими и самыми популярными историками становились бывшие заключенные.
«Дело историков»
В 1929 году ГПУ арестовало ведущих историков Ленинграда. Их обвинили в заговоре и попытке создания теневого правительства. Всего было арестовано более 150 человек, и почти все были университетскими преподавателями истории или сотрудниками архивов. Массовый процесс над ними, один из первых в своем роде, остался в памяти как Академическое дело или «дело историков». Вместе с крупнейшими специалистами в тюрьме оказались их жены, дети и аспиранты. Большинство получило относительно мягкие сроки – от трех до пяти лет – и было отправлено на строительство печально известного Беломорско-Балтийского канала. Их судьбы и последующие карьеры сложились, однако, по-разному.
Матвей Любавский, историк старшего поколения и ректор Московского университета в 1911—1917 годах, был сослан в Башкирию. Там, в одной из внутренних колоний России, он написал большой труд о российской колонизации и скончался в 1936-м. Его книга была опубликована почти шестьдесят лет спустя. Один из учеников Любавского, Евгений Тарле, тоже был арестован по делу историков, но ему повезло больше. Тарле провел всего год в тюрьме и два в казахстанской ссылке, а потом его карьера пошла резко вверх: он стал академиком и лауреатом Сталинской премии. Сталину особенно нравилась написанная Тарле биография Наполеона (1936); и действительно, читателю кажется, что она списана с самого Сталина. Самым важным трудом Тарле стала история колониальной политики западноевропейских государств (1965). Интересно, что и Тарле, и Любавский написали свои основные труды именно о колониализме – прямом и неограниченном проявлении чужой власти. Однако нет ничего более отличного друг от друга, чем эти две книги, написанные на сходные темы, – самая авторитетная советская книга об империализме и подрывное сочинение о внутренней колонизации, которое нельзя было опубликовать, пока не закончилась сама советская власть. Тарле создал стандартный марксистский нарратив о колониализме как высшей стадии капиталистического развития, когда Британия, Франция и другие империи вступают в борьбу за передел мира. История колонизации по Любавскому – процесс, проходивший внутри России, в котором Москва захватывала Новгород, Сибирь и другие земли, включая саму Башкирию, где и была написана эта книга125.
Еще один историк, переживший Академическое дело, – более молодой Николай Дружинин. К тому времени он уже успел принять участие в революции, Первой мировой и Гражданской войнах. В 1930-м он провел десять недель в камере, где сидело пятьдесят заключенных. На полу не хватало места, чтобы все могли улечься одновременно, поэтому заключенные ложились спать по придуманному ими графику126. Днем в камере они организовали лекции о науке и технике, истории и Пушкине. На допросах Дружинин подтвердил, что арестованные историки, в том числе его учителя, были «враждебно настроены» к Советскому государству, но отрицал собственное участие в заговоре. Женщина-следователь приказала его освободить, что было довольно необычно. Последовавшая за этим карьера Дружинина была долгой и плодотворной: он стал ведущим историком российского крестьянства. Через много лет после освобождения Дружинин узнал, что его следователь сама была арестована в 1938-м, провела в ГУЛАГе восемь лет и умерла вскоре после окончания срока. Дружинин дожил почти до ста лет и умер в 1986-м. Незадолго до смерти он написал воспоминания, в которых признался, что дал показания против учителей, и рассказал о том, как его следователь спасла его, а потом сама пала жертвой репрессий. Это был сухой отчет о фактах. Дружинин не предложил объяснений или оправданий своим действиям, но очевидно, что для него важно было оставить эту историю потомкам127.
После освобождения из тюрьмы в 1930 году Дружинин начал работу над монументальным двухтомным трудом о «государственных крестьянах» и графе Павле Киселеве. Реформы Киселева ставили целью улучшить работу и жизнь государственных крестьян – крепостных, принадлежавших не помещикам, а государству. Эту книгу можно прочесть как оптимистичную попытку найти респектабельного предшественника коллективизации, которая как раз разворачивалась в это время. Опубликованная в 1946-м, книга получила Сталинскую премию, и даже бдительные сталинские критики не нашли в ней признаков инакомыслия. Они были неправы; я вижу в этой книге элементы социального протеста. Дружинин писал о попытках имперской власти «достичь полного контроля над жизнью государственных крестьян» и о «личной свободе, которая была основой для экономической инициативы»128. Навязывая миллионам крестьян, от Арктики до Средней Азии и от Карпат до Тихого океана, единый режим работы и жизни, коллективизация не имела прецедентов в российской истории129. Изумленные свидетели революции, советские историки не могли не размышлять о связи советского коллективистского режима со специфически российскими традициями. Некоторые из этих традиций (например, крепостное право) были отвергнуты предыдущими поколениями интеллектуалов как основанные на несправедливости и угнетении; другие (например, крестьянская община) считались прогрессивными и даже пророческими. С коллективизацией оживился интерес к русскому крестьянству и к истории тех движений, которые были идеологически сосредоточены на крестьянстве (народничество и толстовство). Получая все новые академические регалии в 1950-х и 1960-х, Дружинин смог консолидировать под своим началом самую продуктивную ветвь истории крестьянства. Интересно, что это произошло примерно за десять лет до того, как параллельное явление сформировалось в литературе – «деревенская проза»130.