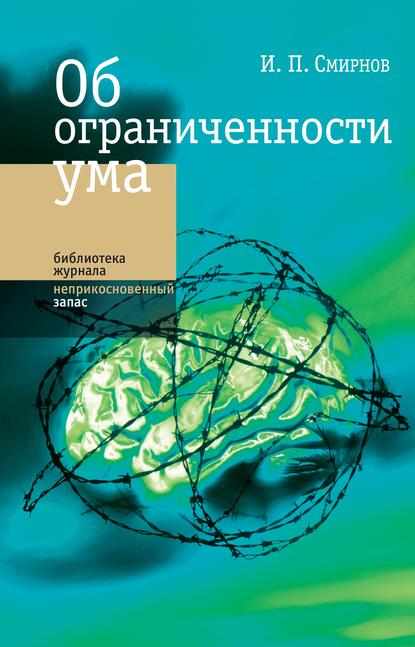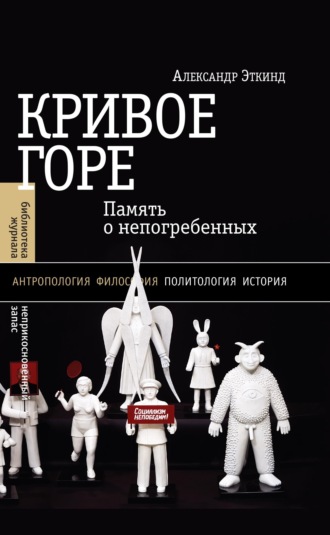
Полная версия
Кривое горе. Память о непогребенных
Население СССР было не просто объектом идеологических манипуляций и насильственного принуждения со стороны институтов власти; оно же было и их субъектом. Институты насилия создавали и ими управляли люди той же природы – классовой, этнической и человеческой, – как и у тех, кого они убивали, пытали, переделывали. Это подлинный парадокс советской власти, который всегда ускользал от тех историков, чьи взгляды формировались в противостоянии колониальному, расовому и классовому насилию. В историографии сталинизма существует давний спор между так называемой «тоталитарной школой» и «ревизионистами». В западных университетах в 1990-х годах победа осталась за ревизионистами, но в постсоветской России возобладала «тоталитарная модель». На деле эти модели дополняют друг друга: сторонники тоталитарной теории раскрывают механизмы вертикального контроля и идущего сверху вниз принуждения, в то время как ревизионисты обращают внимание на самодеятельность населения и активность низовых структур государства. Модифицируя ревизионистскую традицию после распада СССР, новое поколение историков перенесло свое внимание на практики самодисциплины, которые сформировались в умах и сердцах советских граждан, – практики, которые эти историки рассматривают как конструирование особой субъективности66. Одним из последствий этого направления исследований стала маргинализация массового насилия, которое перестало фигурировать в этих работах как определяющая черта сталинизма. Ханна Арендт и вслед за ней Цветан Тодоров считали террор сущностью тоталитарного государства67. Историография новой волны, напротив, сосредотачивает внимание на таких проявлениях субъективности, в которых свобода сохраняется даже во время террора, – дневниках, автобиографиях и снах.
Сосредотачиваясь на насилии и дискурсе, эти подходы ждут творческой интеграции. Массовое и все увеличивавшееся, государственное насилие сталинского периода (1928—1953) приучало граждан к практикам самодисциплины, таким как дневники. На советской «воле» эти практики распространялись только потому, что их фоном была лагерная зона, где дисциплина навязывалась извне, дневники были запрещены, а человеческая жизнь возвращалась к животным истокам. В этот период любой член советской элиты мог быть уволен, арестован, подвергнут пыткам и убит в любой момент и по множеству причин, в том числе из-за недостаточной лояльности. Для анализа идеологии, культуры и дискурсивных практик советской эпохи нужно понять господствовавшую в ней среду принуждения, насилия и неопределенности. Эта среда порождала комплекс таких эмоций, как страх, замешательство, возмущение, сострадание и горе, которые сопровождали жизнь в СССР. С теоретической точки зрения игнорировать насилие в СССР так же необоснованно, как и с исторической. Мишель Фуко, чьи труды вдохновляют историков советской субъективности, не игнорировал насилие как исторический феномен, а, напротив, подчеркивал его роль68.
Тем не менее недостаток внимания к советскому насилию стал заметной тенденцией, которую можно найти даже в лучших работах о советской жизни. Поучительные примеры этой тенденции дает книга антрополога Алексея Юрчака, посвященная «последнему советскому поколению», но неизбежно начинающаяся с предыдущего периода. Юрчак разработал оригинальную методологию, которая рассматривает идеологические действия как речевые акты, и сталинизм описан им исключительно в дискурсивных терминах, как господство «официальной речи». Юрчак называет Сталина «господствующей фигурой» идеологического дискурса, его «редактором», «имеющим уникальный доступ к внешней объективной истине»69. Но Юрчак не объясняет, как на практике работал этот парадоксальный механизм контроля над идеологическими спорами с помощью неидеологических средств.
С «внешней позиции», только насилие – угрозы, чистки, аресты, пытки, показательные процессы, казни и лагеря – могло сдвинуть в нужном направлении идеологические споры. Сталин мог контролировать или, в терминах Юрчака, «редактировать» высказывания других участников политического процесса потому, что в его руках были не только инструменты дискурсивной власти, но и физическая сила. Один из интересных примеров, к которым обращается Юрчак, – судьба книги «История Гражданской войны в СССР»70. Само название этой работы поразительно: в ней рассказывается история гражданской войны совсем не в СССР, а в России и на прилегающих к ней территориях в 1918—1922 годах, то есть до создания СССР. Конечно, в ней нет ни слова о последовавшем потом советском терроре, который и был, собственно говоря, «Гражданской войной в СССР». Ссылаясь на свои источники, Юрчак пишет, что Сталин «тщательно редактировал текст книги», предложив более 700 правок, принятых редакторами; в итоге первый том запланированного многотомника вышел в 1936 году тиражом в полмиллиона. Но Юрчак умалчивает о том, что произошло дальше. В течение года после выхода этого тома двое из восьми членов редколлегии и восемь из восемнадцати членов авторского коллектива были репрессированы: восемь из них были арестованы или убиты, один покончил самоубийством, боясь ареста, и еще один бежал за границу. Последующие тома так и не вышли в свет. Эта типичная для эпохи история раскрывает механизмы сталинского «метадискурса». В недалеком прошлом многие из авторов и редакторов этой книги были героическими полководцами и известными политиками; физическое насилие превратило их в стадо овец, которые рабски принимали сотни «поправок», менявших их собственную историю и память. Типичным был и итог этой истории: люди погибли, книги остались ненаписанными или неопубликованными, гражданская война в СССР продолжалась. Как писала Арендт, насилие не создает власть, а разрушает ее71. Символизированное ГУЛАГом и реализованное в нем насилие стало и катализатором советского дискурса, и механизмом его распада.
Бумеранги насилия
«Все течет», – писал Василий Гроссман. В советской России этот поток истории был искривлен и завихрен, как в водовороте. Политические модели, основанные на постоянном и массовом насилии, распространялись из центра к культурной и географической периферии, а потом вновь возвращались в центр, легитимированные и обогащенные свежим опытом. Сравнивая нацизм со сталинизмом и оба этих режима с колониализмом, Ханна Арендт описала «эффект бумеранга», который состоял в переносе практик колониального правления обратно в имперскую метрополию72. Со своим экзотическим названием, «эффект бумеранга» воплощал старый, присущий еще Канту, страх того, что европейскими народами будут управлять так, как если бы они были дикарями, неспособными к самоуправлению. Вслед за Арендт антропологи подчеркивают роль колоний как «лабораторий модерности», где европейские империи испытывали новые технологии власти, чтобы потом применить их дома73. Напротив, волны и циклы советского террора обычно представляются центробежными, идущими из центра на периферию. Исполнители террора, посланные из Москвы во все уголки огромной страны, разрабатывали локальные способы убийств и пыток на основе цифровых «квот». За исполнением предписаний следила Москва, а местные власти выполняли их, часто прося при этом увеличить цифры массовых убийств.
Я постараюсь показать, что примерно в те же годы, что и Арендт, Гроссман предложил собственное и более сложное понимание террора. Главный герой его повести «Все течет» (1955—1963), Иван Григорьевич, возвращается из северных лагерей, где он провел двадцать девять лет. Посетив города своей юности – Москву и Ленинград, он поселяется в южном провинциальном городке. Хотя действие повести не выходит за пределы СССР, повествование удивительно космополитично. В лагерных сценах показано многонациональное население лагерей; здесь русские и евреи, поляки и крымские татары. Основные, детально описанные сцены происходят с главным героем не в лагере, а за тысячи километров от него, во время голода в Украине, который показан в этих главах лучше, чем в любом другом произведении, написанном на русском языке. Но работа горя ведет Ивана Григорьевича и нас, читателей, еще дальше. Герой родился на Кавказе, где была еще свежа память о его колонизации Российской империей. В снах, рассказанных Гроссманом, герой часто возвращается в детство. Там, где стоял родительский дом Ивана Григорьевича, жили черкесы – один из кавказских народов, противостоявших Российской империи. Тысячи черкесов погибли во время колонизации Кавказа; в середине XIX века многие из выживших были высланы в Турцию. Выросший среди руин погибшей цивилизации, юный Иван часто набредал на остатки черкесских садов и кладбищ посреди российских полей и дорог. Придя однажды домой с такой прогулки, Иван заплакал: «Ему казалось, в лесном сумраке кто-то жалуется, ищет исчезнувших людей, заглядывает за деревья, прислушивается к голосам черкесских пастухов, плачу младенцев…»74 Иван попросил отца объяснить, что здесь произошло, и отец ответил ему поговоркой, которой часто объясняли сталинский террор: «Лес рубят – щепки летят». Здесь она применена к черкесам, гибель которых стала платой за имперскую славу России, а позже – СССР.
Размышляя о проведенном в колониальных землях детстве, Иван Григорьевич рассказывает о стыде за прошлое и предчувствии будущих бедствий. Это сочетание политической вины, сентиментальной ностальгии и апокалиптических настроений типично для детских воспоминаний тех, кто вырос в имперских колониях. Сам Гроссман родился и рос в Бердичеве, одном из центров еврейской черты оседлости – колониального института Российской империи, которая установила и поддерживала в течение двухсот лет режим апартеида. Опыт Гроссмана был противоположен опыту Ивана Григорьевича: первый родился как дискриминируемая жертва апартеида на одном краю империи, второй был потомком колонистов, господствовавших на другом ее краю.
Придумав такое происхождение своему герою, этническому русскому и жертве сталинизма, Гроссман создал живую версию арендтовского бумеранга. В своем возвратном действии полет этого имперского орудия превратил потомка колонизаторов в жертву внутреннего насилия. Эту конструкцию усиливает финал повести, в котором Иван Григорьевич совершает паломничество на свою кавказскую родину и испытывает там что-то вроде озарения (см. главу 3). Его семейного дома больше нет, и действие заканчивается на этом месте памяти, описав полный круг, подобный бумерангу.
Этому финалу предшествуют долгие рассуждения о характерной для России несвободе. Согласно Гроссману, прогресс и рабство в России скованы одной цепью. Он понимает ужасы коллективизации, массового голода и ГУЛАГа как возрождение крепостного права75. В XX веке, рассуждает писатель, Советское государство распространило крепостное право на те социальные и этнические группы, которые в прошлом его не знали, – например, на донских казаков или крымских татар. Оба крепостных права, старое царское и новое советское, Гроссман объясняет «трагической огромностью» российского пространства. Как и Арендт, Гроссман видит сходство между советским и нацистским тоталитаризмом в «соединенном скрежете колючей проволоки, что натягивали в сибирской тайге и вокруг Освенцима». Ощущение этого сходства и, более того, единства очень важно для великого романа Гроссмана «Жизнь и судьба».
В философском мире Гроссмана крепостное рабство – проявление российской несвободы, которая продолжается столетиями. В его поэтическом мире имперское детство Ивана Григорьевича предвосхищает гулаговский опыт героя. Один бумеранг летит обратно в ГУЛАГ из мест внешней колонизации, в данном случае с Кавказа. Другой возвращается туда из российской внутренней колонии, крепостных поместий. В этой исторической панораме соединяются два центростремительных движения, которые направлены с географической и социальной периферии России в ее единый центр, каким и был ГУЛАГ.
Первый коллапс
Можно только предполагать, что бы произошло, если бы нацистская Германия выиграла Вторую мировую войну: осудил ли бы преемник Гитлера Холокост? В Советском Союзе те же люди и институты, которые организовали массовое насилие, позже разоблачили его. Ирония советской истории была в том, что основное достижение Сталина – военная мощь СССР – создало уникальную ситуацию, в которой преступному режиму пришлось развенчивать самого себя, заниматься самоанализом и, в конечном счете, саморазрушением. Потому что больше сделать это было некому.
В 1956 году Хрущев начал процесс десталинизации. Нет сомнений, что он сам был виновен в том, что назвал «репрессиями». Он руководил ими в течение десятилетий, будучи партийным главой «кровавых земель» Украины и Москвы76. Ничто не побуждало Хрущева признать свою вину, кроме памяти о терроре и страха перед его повторением77. Этот автономный, добровольный характер хрущевских откровений делает их уникальными, даже беспрецедентными для истории насилия в XX веке.
В 1953 году в СССР было 166 трудовых лагерей плюс множество пенитенциарных институтов других типов, от тюрем до спецпоселений. В них на тот момент отбывали срок около 10 миллионов заключенных, и почти все были выпущены на свободу между 1954 и 1956 годами78. Огромная система ГУЛАГа рухнула с поразительной легкостью, предвосхищая распад Советского Союза, произошедший спустя несколько десятилетий. К моменту своего знаменитого доклада на ХХ съезде КПСС в 1956 году Хрущев был в зените власти. Но, как вспоминал его сын, «к Сталину отец возвращался постоянно, он, казалось, был отравлен Сталиным, старался вытравить его из себя и не мог»79. Что двигало частичным разоблачением Сталина – личное покаяние или политический расчет? Сам Хрущев объяснял свой поступок с помощью гегелевской и отчасти фрейдовской идеи: преступление надо признать, чтобы оно не произошло снова. В его докладе на ХХ съезде и в более поздних мемуарах звучит один и тот же лейтмотив: «Это не должно повториться!» Горе и предостережение взаимосвязаны в этой риторике: первое предоставляет факты и аргументы, второе – мотивировки и оправдания. Хрущев предупреждал коллег по партийной элите: вы можете не каяться, от вас не требуется признаваться в преступлениях, но если вы не будете скорбеть по их жертвам, то унаследуете ту же судьбу. И действительно, Хрущеву удалось настолько трансформировать партийную верхушку, что он избежал худшего. Смещенный в 1964 году, бывший советский лидер прожил еще почти десять лет, успел продиктовать мемуары и был похоронен своей семьей. В Советском Союзе существовало популярное выражение: «Его судьба была счастливой – он умер в своей постели». В случае Хрущева эта роскошь была вполне заслуженной.
Нуждаясь в концептуальном аппарате, который ему не могли дать ни марксистская теория, ни наследие сталинизма, Хрущев придумал два собственных и довольно действенных понятия: «необоснованные репрессии» (что означало массовые аресты, пытки, убийства и лагеря) и «культ личности» (это понятие описывало идеологические практики, сопровождающие насилие). Оба понятия превращали Сталина в козла отпущения. «Необоснованные репрессии» предполагали, что предыдущий вождь стал причиной бессмысленной и немотивированной катастрофы. Квазирелигиозная идея «культа личности» обвиняла Сталина в том, что он нарушил марксистские нормы атеизма, рациональности и равенства. Хрущевский язык продолжает использоваться и в современной России.
Если нацистскому Холокосту положили конец посторонние ему люди и институты, то разоблачение советского террора было делом рук его бывших творцов и потенциальных жертв. Для говорящего, как и для исследователя, самоприменимые понятия таят серьезные эпистемологические проблемы. Я подозреваю, что многие из политических затруднений Хрущева связаны именно с парадоксальной логикой самоописания, которую когда-то, за 600 лет до нашей эры, раскрыл критский мудрец Эпименид. Этому критянину принадлежит знаменитый парадокс: «Все критяне – лжецы». Если это так, то и само утверждение ложно. Если все коммунисты верили в ложь, кто мог ее разоблачить? Хрущев опирался скорее на диалектику, чем на логику; и все же хрущевский метод самоприменения до сих пор мешает нам понять, представить и помнить советский террор. В ретроспективе его палачи и жертвы оказываются смешаны между собой, действие размазано, цели непонятны, а причины развивались по кругу. В итоге отказ от террора был и остается неполным.
Хрущевское и фрейдовское значения термина «репрессии» связаны между собой в их жуткой семантике. После смерти Сталина выжившие встречали тех, кто возвращался из лагерей, со смешанными чувствами – от ужаса до сострадания, от безразличия до враждебности. Возвращаясь, они приносили с собой опыт насилия, унижения и боли, который намного превосходил масштабы того, что испытывали их семьи, друзья и соседи «на воле». Знакомые и чужие, возвращенцы казались жуткими. Согласно знаменитому фрейдовскому определению, жуткое – это возвращение репрессированного, «скрытное-родное, подвергшееся вытеснению и вернувшееся из него»80. Палачи видели в уцелевших жертвах страшных мертвецов, вернувшихся, чтобы отомстить. Остальные воображали себе судьбу репрессированных в ужасных деталях, где смешивались устная история, собственные страхи и литературные образцы (см. главу 3). Вся страна превратилась в «зону контакта» между невинными жертвами ГУЛАГа и теми, кто был виновен хотя бы в том, что не попал туда81. В 1956 году Анна Ахматова сказала: «Теперь… две России взглянут друг другу в глаза – та, что сажала, и та, которую посадили»82. Обе России знали, что существует и третья – Россия погибших. Эта трехсторонняя связь, создав зону неразличения между голой жизнью и государственным правом, между репрессией и реабилитацией и, наконец, между горем и забвением, сформировала культурную динамику позднесоветского периода.
Следы неизбывного горя и навязчивого воспоминания запечатлелись во многих образцах позднесоветской (а потом и постсоветской) культуры. Ее невозможно нормализовать; пытаясь понять ее, ученые должны научиться чувствительности к жуткому, исковерканному, призрачному. Заслуживающий доверия свидетель – профессиональный историк, диссидент и впоследствии ведущая правозащитница Людмила Алексеева вспоминает, что в 1953 году московская публика была привычна к таким историям:
У моего двоюродного брата на работе одна женщина замужем за генералом МГБ. Она рассказывала, что как-то ночью проснулась от крика. Ее муж, весь в холодном поту, кричал во сне: «Простите меня, Дмитрий Иванович!» Она стала его трясти, разбудила и спрашивает, кто такой Дмитрий Иванович. Но генерал ничего не ответил. С тех пор каждую ночь генерал метался во сне и кричал, так что даже стал бояться ложиться спать. Через несколько недель он начал уже наяву разговаривать с невидимым Дмитрием Ивановичем. В конце концов его поместили в психушку. Жена у всех спрашивала, кто такой Дмитрий Иванович. Оказалось, это тот человек, которого в тридцать седьмом году генерал расстрелял из собственного револьвера83.
Более слабые, но сходные ощущения, свойственные запоздалому раскаянию, ощущали в это время те, кто раньше приветствовал советский социализм. Выйдя из Коммунистической партии Франции в 1956 году, писатель и политик, родившийся на Мартинике, Эме Сезар писал:
Хрущевские разоблачения Сталина достаточны для того, чтобы каждый, кто в какой-либо степени участвовал в коммунистической деятельности, погрузился в бездну шока, боли и стыда… Мертвые, запытанные, казненные – нет… это не те призраки, которых можно отогнать механической фразой. Теперь они будут водяными знаками… навязчивой идеей… болезнью… раной в самом сердце нашего сознания84.
Несмотря на всю разницу между преступным советским генералом и постколониальным интеллектуалом, оба видят призраки прошлого, боятся их и пользуются сходными способами для выражения своего опыта. Разница в том, что интеллектуал вполне осознает метафорический характер своего языка, а генерал кричит во сне и наяву о своих видениях.
Призвавшему к покаянию Хрущеву не удалось собрать достаточную поддержку в партии. Среди его сторонников из интеллигенции, многочисленной в технократическом и амбициозном Советском Союзе, были тысячи выживших в ГУЛАГе. Но это удивительное время закончилось в 1964-м, когда протест КПСС против непредсказуемых реформ привел к отставке Хрущева85. Илья Эренбург назвал этот период «оттепелью» – метафорой, выражавшей не только тепло и весеннюю радость, но и трагическую скоротечность этого времени года. В долгие годы застоя (1964—1985) власти вновь пытались ускользнуть от памяти о сталинизме. Полагаясь на оба значения слова «репрессия», психоаналитическое и советское, я называю этот период «репрессией репрессий». И все же эти непоследовательные шаги демонстрировали больше, чем скрывали. Изгнанная из политики и нашедшая прибежище в культуре, работа горя стала самой чувствительной из идеологических проблем позднесоветского периода. Трагически незавершенная, хрущевская «оттепель» оказалась самым успешным из российских проектов десталинизации. Коллективная скорбь выдвинула своих лидеров, которыми закономерно оказались поэты и писатели; их популярность в годы «оттепели» и после нее была беспрецедентной. Менее чем через десять лет после смерти Сталина Хрущев осуществил перформативное действие огромной важности – вынос его тела из мавзолея на Красной площади (1961). Новость воспринималась как чудо и утешение; я помню, как родители обсуждали эту новость с друзьями. Возможно, в этом состоял мой первый политический опыт.
Космополитичная память?
Периоды, которые в СССР назывались «оттепелью» и «застоем», совпали с тем, что в памяти всего мира останется как центральная фаза холодной войны. В это время память о ГУЛАГе сохраняли американские и европейские историки, активисты, писатели и политики, а в СССР – диссиденты и мемуаристы. Как ясно из наследия Ханны Арендт, Исайи Берлина и многих других, борьба против советской экспансии в период холодной войны была также борьбой за память о жертвах советских репрессий. Интеллектуальные бойцы холодной войны нелегально вывозили из СССР, переводили и публиковали рукописи Солженицына, Гроссмана, Осипа и Надежды Мандельштам и многих других. Они создавали научные труды – такие как «Истоки тоталитаризма» Ханны Арендт (1951) и «Большой террор» Роберта Конквеста (1968), или собирали коллекции советского искусства, как это делал, например, Нортон Додж (см. главу 5).
После завершения социальных катастроф глобальная память дополняет национальную, служит для нее катализатором или заменяет ее. Известный историк Холокоста Дэн Динер недавно вновь исследовал эту проблему. Отталкиваясь от классической теории Мориса Хальбвакса, согласно которой коллективная память нуждается во вспоминающем коллективе, Динер пришел к выводу, что память могут сохранять только этнические общности, но не другие социальные группы (например, классы). Динер утверждает, что преступления нацистов «вошли в этнизированную память» немцев потому, что режим уничтожал «членов другого исторического и культурного коллектива» – евреев. Напротив, советский режим считал и жертв, и палачей «частью одного исторического мнемонического коллектива»86. Поэтому, заключает Динер, немецкая вина и еврейское горе передались следующим поколениям, а советские преступления исчезли из памяти.
Натурализуя этнические различия, Динер отрицает способность неэтнических групп структурировать «мнемонические коллективы» и совместно помнить свои потери; на это способны, по его мнению, только этнические группы. Я полагаю, этот аргумент сомнителен даже в отношении немцев и евреев. Евреи не были «фундаментально отличны» от немцев до того, как нацисты приложили огромные усилия, чтобы сделать их своим национальным «Другим». Тезис Динера о «фундаментальном различии» между этническими и другими группами недооценивает те типы солидарности, которые выходят за рамки национальных границ. Если верить Динеру, репрессии против «кулаков» или «нэпманов» не могли остаться и не остались в коллективной памяти либо потому, что эти группы были идеологической фикцией, созданной большевиками с их теорией классовой борьбы, либо потому, что они были полностью уничтожены и не оставили потомков. Динер считает такие преступления подлежащими историческому описанию, но недоступными культурной памяти. При этом Динер делает исключение для тех групп в советском обществе, что были репрессированы по этническому принципу. Среди них он называет лишь украинцев, хотя мог бы привести и множество других примеров – чеченцев, крымских татар или тех же евреев после Второй мировой войны. Однако мой основной вопрос к Динеру не об этих случаях этнических репрессий, а о том, является ли осуществленная им национализация памяти – идентификация мнемонического коллектива с этнической группой – исторически верной и морально оправданной? Я считаю, что нет. Задуманная с целью утвердить уникальность Холокоста в сравнении с другими примерами массовых убийств, эта концепция коллективной памяти делает невозможными сами эти сравнения. Динер упрощает различия между двумя типами коллективов – нацией и классом. Попытки марксистов придать социальным группам функцию самосознания («класс для себя») не кажутся Динеру убедительными, но национальную идентичность он воспринимает как данность.