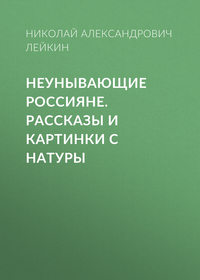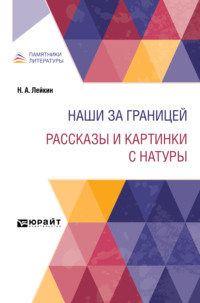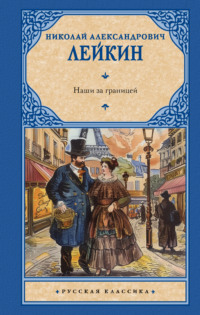Полная версия
Саврасы без узды. Истории из купеческой жизни
– Как отца-то твоего звали? – спросил он.
– Господи! Опять оскорбление нашему чувствительному сердцу! – всплеснула руками сибирка. – В жизнь не поверю, чтобы вы тятенькино богоспасаемое имя запамятовали. Человек вам четыреста пятьдесят рублей по векселю должен остался, а вы имя его спрашиваете.
– Не хорохорься! Не хорохорься! Печенка с сердцов-то лопнет! Ты думаешь, что у меня только и долгов, что за твоим отцом! Делов-то страсть! Помню, что был Запайкин по фамилии, а имя забыл.
– Зиновий Тиханов их праведное имя состояло, и вы им на именины даже крендель раз прислали.
– Ну, вот и довольно, коли Зиновий Тиханов. Упокой, Господи, раба твоего Зиновия.
Купец перекрестился большим староверческим крестом и выпил рюмку водки. Старуха совала ему кусок пирога на листочке газетной бумаги.
– Позвольте, маменька, по первой не закусывают, – остановил ее сын. – Вы лучше вот даму хереском удовлетворите. Для их женского согласия у нас и клюквенная пастила есть на закуску. Федор Аверьяныч, еще рюмочку! Нельзя других покойников обижать, хоть они и мелкие люди, а все-таки у них души. Теперь за невесток наших и младенцев… И я с вами за компанию, в знак примирения и прошу у вас за тятенькин вексель прощение земно.
Сибирка поклонилась в пояс и тронула пальцами землю, но, потеряв равновесие, упала на четверинки и еле поднялась.
– Ну давай, коли так, – сказал купец.
– Мамашенька, изобразите нам пару белых! – крикнула сибирка. – Только, Федор Аверьяныч, чтоб уж с сегодняшнего дня такой коленкор тянуть: кто старое вспомянет, тому глаз вон. А что насчет векселя, то я по силе возможности даже утробу мою вымотаю. Желаете сейчас пять целковых в уплату получить?
– Что ты! Нешто при загробном поминовении рассчитываются! Ты сам принеси. Уплати уж хоть пятиалтынный-то за рубль, и я отдам тебе вексель.
– Двугривенный сможем! Пожалуйте чокнуться за упокой младенцев! Невестки – Матрена и Пелагея, а младенцы – Петр и Акулина. Прикиньте еще новопреставленного инока Потапия. Это маменькин брат. Они хотя в Мышкинском уезде покоятся, но заодно уж.
– Я вот так, я огулом: упокой, Боже, рабов и рабынь твоих… – произнес купец.
– Нет, уж зачем же их обижать в селении праведных? Потрудитесь за мной повторить: Матрену, Пелагею, Петра, Акулину и инока Потапия, – упрашивала сибирка.
Купец повторил, перекрестился и выпил. Сибирка последовала его примеру и сказала:
– Только, Федор Аверьяныч, теперь уж мир навсегда. Вы моего тятеньку в свое поминанье, а я вашего – в свое и уж без надруганий.
– Ладно, ладно! – отвечал купец. – Настасья Марковна, ты чего расселась да языкочесальню с бабами начала? Пойдем! – крикнул он жене. – Рада уж, что до места добралась. Словно наседка.
– Дайте им свою словесность потешить.
– Нет, уж пора и домой, ко щам. Ну, прощай! Прощайте!
Купец и купчиха вышли из палисадника и побрели по мосткам.
– Федор Аверьяныч! Помните: кто старое вспомянет, тому глаз вон! – кричала ему вслед сибирка.
– Ладно, уговор лучше денег, только ты в воскресенье по векселю уплату-то принеси! – дал ответ купец и махнул рукой.
Быки Литейного моста
По новому, но в то время не совсем еще отстроенному Литейному мосту переходит через Неву народ. Некоторые останавливаются и смотрят вдоль по реке. На Выборгскую сторону перебираются купец, купчиха и их маленький сынишка. Они идут гуськом. Купчиха несет в руках чашку кутьи, завязанную в носовой платок.
– Иду и сама думаю: а вдруг как все это подломится и мы кверху тормашками? – говорит она.
– Так что ж из этого? Ведь книзу полетишь-то, а не кверху, – отвечает купец.
– Тебе хорошо шутить-то, ты плавать умеешь, а каково мне, коли я по-топорному?.. Окромя того, с нами дите бессмысленное.
– Ежели ты насчет Гаврюшки, то он смышленее тебя. Сейчас за быка ухватится. Им не шути.
– За какого быка?
– А вот что под нами-то. Ведь под нами теперича каменные быки, а поверх их мостики положены.
– С рогами?
– Вот дура! Ну поди, разговаривай с ней! А еще ребенка дитем бессмысленным называешь. Где ж это видано, чтоб мостовые каменные быки были с рогами.
– Так ведь медные же быки около скотопригонного двора стоят с рогами, отчего же и каменным с рогами не быть?
– Вот и толкуй с ней! – возвышает голос купец. – «Отчего»! «Отчего»! – передразнивает он жену. – Оттого, что по плану не выходит. Ну, взгляни вниз. Как тут рогатых быков поставить?
Купчиха останавливается около перил и заглядывает вниз.
– Да я и безрогих-то быков не вижу, – говорит она.
– Ах ты, полосатая, полосатая! Коли бы ты винным малодушеством занималась, сейчас бы порешил, что ты до радужного черта допилась. Неужто ты думала, что под мостами бывают быки с головой, на четырех ногах и машинным хвостом машут? Каменные устои здесь быками называются, а между них пролет. Вот эти глыбины-то – быки и есть.
– Зачем же они быками-то называются?
Купец вышел из терпения и начал:
– За глупость. Самая глупая вещь – баба, и ейным именем чугунная болвашка называется, чем сваи вбивают, потом идет бык – на нем мосты ставят и, наконец, кобыла деревянная, а на ней глупых баб стегать бы следовало, потому что глупое к глупому идет.
– Ах, как хорошо, ах, как чудесно такую ругательную словесность на свою родную жену при всем честном народе испускать! – обиделась купчиха.
– Да как же не испускать-то? Ты хоть каменного быка, так и того из терпения выведешь.
К разговору их прислушивался тоже остановившийся около перил мастеровой с мешком инструментов за плечами и с пилой в чехле.
– Не в тот бубен звонишь, купец, – вмешался он. – Тут совсем другое руководство; камни эти мостовые потому быками называются, что перед тем, как их на дно опускать, надо живого быка убить и потопить его, чтобы воденик не обозлился. Тогда он и будет милостив, а нет – какую хочешь крепость клади – все размоет и опрокинет. Когда дом на земле строят, то в фундамент домовому деньги золотые кладут, чтоб его ублаготворить, ну а воденику быка жертвуют.
– Мели, Емеля, твоя неделя! – возразил купец.
– Нет, уж ты мастеровому человеку поверь! Я мастеровой человек, я знаю! – стоял на своем столяр. – Так спокон века мосты строят. Отчего этому самому мосту спервоначалу такая незадача была, что, как только начнут кесонт на дно опускать, он сейчас возьмет да и опрокинется? Водяной портил, потому что быком удоблетворен не был. Мы туточные, с Выборгской, и это дело чудесно знаем. Строитель этого моста – анжинер Струве – пожалел водянику живого быка, а он ему назло два кесонта с живыми христианскими душами опрокинул. Нам здешние-то рабочие рассказывали, и десятник один мне говорил: «Мы, – говорит, – наперед ему насчет быка предуведомление делали, а он, как аккуратный немец, приценился у мясников на площадке, да те с него дорого запросили. „Ну, – говорит, – и так сойдет“». Поставили кесонт – кувырком, поставили другой – то же самое. Бился-бился, увидал, что супротив водяной силы ничего без удоблетворения не поделаешь, и купил быка. Как только его убили и бросили в воду, так и дело на лад пошло. И действительно, вот теперь в лучшем манере назло перевозчикам по мосту ходим, – заключил столяр.
– Сердятся, поди, перевозчики на строителя-то? – спросил купец.
– Страсть! Еще бы не сердиться, коли он у них выручку отбивает. «Мы, – говорят, – рано ли, поздно ли, а бока ему намнем». Сказывают, что спервоначала-то с удовлетворением к нему ходили, кузовок вина и кулек с чаем и сахаром носили, только запри, мол, мост и не пущай публику, да не принял он от них.
– Где ж на чай и сахар польститься, коли эдакий подряд держит! – согласился купец.
– Что чай и сахар! Перевозный арендатель готов бы и коляску с парой рысаков прожертвовать, да боится, чтоб по шее не попало. Это мне один перевозчик рассказывал.
– Что ж, это хорошо, коли человек твердый. Вот мы теперича на Охтинское кладбище идем, так помянем его за это. Как строителя-то звать?
– Струве, инженер Струве, – отвечал мастеровой.
– Это фамилия, а имя-то как?
– Имя-то! Да немец он, так, поди, наверное, Карл Иваныч.
– Ну, коли немец и Карл Иваныч, то в православное заздравное поминовенье записывать нельзя. А жаль, потому добра публике много делает. Вот у меня теперича жена ни в жизнь бы через перевоз не поехала, потому страх как воды боится, а тут идет.
– Потап Потапыч, да я его под видом Ивана могу помянуть, – откликнулась купчиха.
– Нет, уж это не модель. Действительности никакой не будет. Ну, чего ж стала? Трогайся в путь-то. Рада, что постоялый двор себе нашла.
Купеческое семейство снова тронулось гуськом в путь. Мастеровой шел сзади их.
– Купец, а купец, поди, ведь новопреставленного родственника на кладбище-то поминать идешь? – спрашивает он.
– Его самого, – дал тот ответ.
– Поди, такие мысли в голове содержишь, чтоб в трактир зайти перед кладбищем-то?
– Верно! Что верно, то верно. Угадал. Попродуло меня на мосту-то.
– А коли угадал, то пригласил бы и мастерового человека с собой за компанию на пятачок выпить.
– За угадку изволь.
– Ну уж… Что уж… Это до святой-то кутьи? Да где ж это видано! – застонала жена.
– Анна Мироновна, цыц! Молчать! Ты знаешь, что я этого скуления не люблю! – прикрикнул на нее купец.
В парикмахерской
Воскресный день. В церквах звонят к обедне. В парикмахерскую забегают купеческие сынки «подвиться», чиновники старого закала и военные побриться. Работа кипит. Шипят каленые щипцы в руках ловких подмастерьев, прикасаясь к жирно напомаженным волосам, звонко скребет хорошо отточенная английская бритва о взмыленные подбородки, мерно звякают ножницы. Некоторые из пришедших в парикмахерскую дожидаются своей очереди, курят и читают афиши.
Перед зеркалом в белой пудремантии сидит молодой человек с еле пробивающимися усиками. Его завивает франтоватый парикмахерский подмастерье с взбитыми кверху волосами, стоящими на голове, как копна.
– Смотри, Василий, на затылке покрепче, как бы шленским бараном, а на висках в колбаску припусти, – делает замечание парикмахеру молодой человек и пыхтит папироской.
– Господи! Да неужто впервой? Мы вашу завивательную политику-то знаем. Что вы нас конфузите! – отвечает парикмахер. – Сердца пронзать стремитесь?
– Да… думаю по церквам поездить. Рысак застоялся, ну и буду гонять из конца в конец и так норовить, чтоб церкви в четыре к шапочному разбору поспеть. Я больше для стояния на паперти, когда народ расходится, и для досмотрения на оные физиономии по женской гильдии. Интересные иногда букашки попадаются! Эдакие кошечки а-ля бутон амбре. Смерть люблю маленьких, кругленьких Макарьевского пригона бабенок!
– Губа-то у вас не дура, Сергей Игнатьич. И много, поди, вы этих самых сердец на своем веку пронзили, даром что в молодости приобретаетесь!
– Я-то? А вот как: ежели теперича все сердца на одну нитку нанизать, то можно два раза вокруг талии опоясаться. Да еще больше было бы, ежели бы папенька позволил юнкером в гусары поступить. А то он контру держит супротив этого занятия.
– Что вам гусары! Вы и так при вашей красоте и богатстве женской пол в лучшем виде путать можете. Шутка – эдакая у вас зонтичная фабрика! Играй в амуры, да и делу конец! Своих-то мастериц не трогаете?
– Неловко, забываться перед хозяйским глазом будут, а я по другим ведомствам хлещу. Свои сейчас головное мечтание о себе в ум возьмут. Бывали случаи, но я прежде с местов сгонял, а потом уж занимался. Ах, братец ты мой, вот перед постом была в цирке одна штучка так штучка! Живые картины в откровенном декольте она изображала. Ты знаешь, ведь я особенного малодушества, чтоб долго помнить, к ним не чувствую, а от этой и посейчас любовный засад в голове.
– Где вам чувствовать! Вы интриган известный и только одно коварство доказываете.
– А с этой, веришь ли, даже без коварства, и такие у меня мысли, что, мол, возьму я ее и куда-нибудь на берег моря, чтоб в уединении и под сенью струй… Ну просто… Ой! Ты мне ухо!..
– А вы сидите смирно. Долго ли до греха. Можно и волдырь щипцами нажечь, – говорит парикмахер и спрашивает: – Ну и что ж эта самая живокартинная девица?
– За границу уехала, – отвечает молодой человек. – Из Тирольских краев она, только на баварском языке разговаривала. Ежели по-немецки – туда-сюда, я слов двадцать знаю и амурный разговор вести могу, а тут она по-нашему в зуб толкнуть не смыслит, а я – по-ейному. Покажешь ей на шампанское – пьет, подашь вазу с персиками и дюшесом – ест, а сама все смеется, все смеется, и зубы как перламутр, а на щечках ямочки. Ну понимаешь ты!..
– Не вертитесь, Сергей Игнатьевич. Ей-ей, обожгу или клок волос отпалю.
– Ну, понимаешь ты, говорю… Ко всякой науке я заблуждение чувствую, а тут даже на баварском диалекте хотел из-за нее учиться, но только учителя найти не мог, потому здесь даже и в Академии наук этой грамоте не обучают. А тут уехала она, и вот я теперь сам с разрывом сердца. Так и не поняла моих чувств.
К разговору прислушивался отставной военный в высоком галстуке.
– А вы бы балетным языком, так она сейчас бы поняла, – сказал он. – Мы в сорок восьмом году в Венгрии в лучшем виде… А тоже по-венгерски-то слова «мама» не знали. Щелкнешь себя по галстуку – вина тащит, к сердцу руку приложишь – губы протягивает.
– Да ведь я при тех же движениях состоял, но не мог ласкательных слов объяснить и свое нутреннее чувство обозначить, – отозвался молодой человек.
– А зачем нутреннее? Вы наружное. Ведь они нутренние чувства все равно не ценят.
– Так-то так, но я хотел доказать, что без коварства со своей стороны ею поражен. Две радужные она мне, Вася, стоила, – обратился молодой человек к парикмахеру.
– Что вам, Сергей Игнатьич, две радужные! Десять простых дождевых да десять солнечных зонтиков продали – вот и сквитали убытки.
– Ну, это ты врешь! Со слоновой кости ручками двадцать зонтиков-то продать надо, чтоб убытки сквитать. Да это наплевать нам, а жаль, что за границу-то улизнула. А уж потешил бы я ее! Во все новомодности бы одел, рысака заводского бы подарил. Ты знаешь, ведь я нынче наследство от дяденьки получил. Дядя умер.
– Ой, что вы! – воскликнул парикмахер. – Честь имею вас поздравить. А хороший старик был. Все, бывало, к нам заходил затылок подбривать перед баней. От какой же болезни они прияли кончину праведную?
– А бог его ведает. Изворот ума начался, и все стал понимать шиворот-навыворот. Ведь он у нас был человек старого леса и суздальского письма, а тут вдруг умственная меланхолия началась насчет пищи. То вдруг мороженого крокодила из Азии себе выписал, чтоб заливное делать, то устричные почки какие-то у Елисеева ищет; купил пару попугаев и давай их в уксусе мариновать. Сам у наших родственников над дикой козой с золотыми рогами на свадебном обеде смеялся, а тут вдруг купил черепаху и стал в щах ее себе варить. Да что: достал у татар лошадиную печенку и с бламанжеем ее съесть покушался, да уж приказчики остановили и в полицию дали знать.
– С чего же это он так у вас повихнулся?
– Да с денежной пропажи, говорят. Были у него выигрышные займы в старой рваной шапке зашиты, а у него ее в бане и обменили. И что ж ты думаешь?.. Как увидал, что шапка-то не его оставлена, тут же, не выходя из бани, послал за полдюжиной шампанского и ананасами и давай парильщиков угощать. А допреж того так жаден был, что на кислые щи скупился. Скоро будет готово? Вон уж в церквах к «достойне» отзвонили.
– Готово-с, только фиксатуаром пробор притереть.
Раз, два… Пожалуйте!
– Вот тебе рубль целковый. Сдачу своей собственной мамзели на шоколадное удовольствие возьми!
Молодой человек надел пальто и, сопровождаемый поклонами парикмахера, вышел на улицу.
У ворот
Дворники только что получили бляхи.
У ворот на скамейке сидит дежурный дворник в тулупе и с бляхой на шапке. Время под вечер. Мимо него в ворота и из-за ворот то и дело шныряют прохожие. Проходит кухарка с молочником сливок в руках и улыбается ему.
– Кто идет? – шутливо спрашивает он ее, прищурившись и скашивая глаза.
– Человек, – отвечает она и останавливается. – Настоящий живой человек.
– Какой же ты человек? И какую такую ты имеешь праву облыжно человеком называться? Должна отвечать по пунктам.
– Я тебе и отвечаю. Кто я, по-твоему, пес, что ли?
– Не пес, а просто баба, значит, и должна свой чин произнести во всем составе. Баба, мол, из семнадцатого номера.
– Ошибаешься, я вовсе и не баба, а девушка. Так у меня в паспорте сказано.
– Мало ли что в паспорте! А мы тебя к бабам соприкасаем, потому очень чудесно все это чувствуем.
– Что написано пером, то не вырубишь топором. Мне паспорт-то волостное начальство дало. Пусть пропишут, что младенец, ну и буду считаться младенцем. Как же ты этого не знаешь? А еще дворник и бляху себе на шапку нацепил!
– Не рассуждать! А проходи своей дорогой. Ах ты, уксусница! – шутливо кричит на нее дворник и топает.
– Ан не пойду! Скажите пожалуйста, какое начальство вы искалось! Хочу стоять и буду стоять.
– Акулина, не раздражай меня! Рассержусь – сейчас под штраф подведу.
– А какой же ты штраф с меня возьмешь?
– Известно, какой с вашей сестры берут… Ну, чего зубы скалишь? Проходи, проходи!
– А может, я с тобой хочу рядышком на скамеечке посидеть!
– Ни в жизнь этого быть не может, потому я здесь сижу для подозрения улицы. И это не скамейка, а мой пост, значит, ты мне отвлечение делать будешь. Поняла?
– Да кто тебя ноне поймет! Вишь, ты какие слова-то говоришь… Послушайте, а эта самая бляха на шапке вам к лицу, и вы даже на военного предмета смахиваете.
– А любишь военных-то? У, шустрая! Была бы у меня бляха на груди, так больше бы к лицу было.
– А нешто у кого на груди, то чин больше? – спрашивает кухарка.
– Известно, больше. Тогда с почтальоном вровень.
Ну, с богом! Не проедайся! Сливки скиснутся.
– Постой, дай хоть с бляхой-то поздравить. Честь имею поздравить вас, Силантий Тихоныч!
– Спасибо. Только кабы ты путная-то была, так вот ужо, как я сойду с дежурства, кофейком попотчевала бы да рюмочку поднесла.
– А неужто я беспутная? Да приходи, сделай милость. У нас еще пирог от обеда остался. И пирога дам. Только ведь и с тебя литки надо. Ведь ты чин-то получил. Хоть бы орешков…
– А нешто твой солдат тебе орешков носит? Наш брат мужчина сам норовит взять с тех, которые при еде.
– Уж и солдат! Да где ж ты у меня солдата нашел? Вовсе у меня нет никакого солдата.
– Ну вот! Зачем же я у ворот сижу? Я, брат, все вижу. К кому же это кажинный день в вашу квартиру солдатский кум ходит?
– Это седьмого-то флотского экипажа? Да вовсе и не ко мне, а к нашей горничной. Да и какой кавалер-то! Он не только чтобы что-нибудь взять, а вчера еще сам пару апельсинов принес. Нет, брат, я сердцем совсем чиста, и никого у меня нет.
– Ой, врешь! Подозрительна ты мне, очень подозрительна! Ну, кайся! Перед дворником должна быть как на духу. Рано ли, поздно ли он все узнает.
– Ну вот, ей-ей, никого нет. Был солдат, только не настоящий, а из поштана, но теперь померши.
– А офицерский денщик из двадцать первого номера? Нешто я не знаю, что он тебе сахарное яйцо подарил?
– Ей-богу, из одного только блезира, как учливый кавалер.
– Чудесно. Ну, а барин из четырнадцатого номера зачем тебе улыбки на лестнице строит?
– Да что ж мне делать, коли он строит? У него уж рожа такая миндальная. Он на кошку, что на лестнице сидит, взглянет и перед той зубы скалит. Я уж и то язык ему показала.
– Ну, ступай и веди себя хорошенько! А к ужому кофей приготовь. Как сменюсь, так приду.
– Прощайте, новоиспеченный кавалер с бляхой! – приседает кухарка и идет на двор.
Дворник вынимает из-под себя газету, развертывает ее и начинает читать по складам. К дому подходит купец в высоких сапогах, картуз с большим дном и в широком пальто.
– Какая литература обозначена? Что насчет Туретчины? – спрашивает он, остановившись.
– Гаврилу Давыдычу! – раскланивается дворник и отвечает: – Да разное пишут. Даже и не разберешь.
– То-то. А все оттого, что народ очень мудрен стал. Сидишь?
– Сижу-с. Нельзя без этого. По временам сон клонит, но мы сейчас папироску из газеты свернем.
– Ладно. Ну, что смотришь? Бери меня. Видишь, я пьян?
Купец подбоченивается.
– Зачем же я вас брать буду, коли вы у нас купцы обстоятельные. Вы нам и на чай и по стаканчику подносите, а мы это чувствуем. На ваши деньги за квартиру у нас такое усмотрение как бы у себя в кармане. Вот шушеру разную, которая за квартиру затягивает, так мы еще дня за три до срока тревожим, чтоб напоминовение.
– Ну, то-то. Но все-таки, как же у тебя в голове нет такого мечтания, что я пьян? – допытывается купец.
– Вовсе даже и не пьяны, а просто выпимши, как бы для куражу. Вот ежели бы вы с падением…
– В пьянственном образе с падением я никогда не бываю, потому в ногах слону подобен. А что до слепоты, то иногда и на фонарный столб налетишь. Вот и теперь у меня в глазах такой вид, что у тебя две бороды и нос крючком.
– Полноте шутки шутить, Гаврила Давыдыч! Не может этого быть. Это только при зеленых змиях.
– А почем ты знаешь, может статься, уж у меня зеленые змии и показались, и я радугу вижу?
– Что вы! Да у вас и облик совсем свежий. А разговор хоть сейчас часы читать.
– Ой, не шали! Ой, не подпускай лукавства! Наскрозь вижу тебя, даром, что ты с бляхой!
– Какое же наше может быть лукавство супротив вас, обстоятельного купца? Я дворник, а вы купец, у меня только бляха, а у вас медаль. Ну и значит, что мы не смеем лукавство!..
– Врешь. Такое лукавство в глазах, что ты на выпивку получить хочешь, но из себя деликатный сюжет строишь. А ты сии чувства откинь и проси. На, получай двугривенный без спросу!
– Много вам благодарны, ваше степенство, – говорит дворник, принимая деньги и снимая шапку.
– Не за что. Ну, давай поменяемся шапками. Я тебе свой картуз дам, а ты мне свою шапку.
– Да нельзя-с, Гаврила Давыдыч, благовидности не будет, хотя оно нам и лестно с таким купцом… Извольте идти своей дорогой, держась по стенке, а наша такая обязанность, чтоб у ворот сидеть.
– Ну и сиди, а мы это будем чувствовать и знать, что нас караулят.
Купец махнул рукой и пошел во двор. К воротам подбежал пожилой мужчина в цилиндре.
– Дворник! Где здесь полковница Расхлябова квартирует?
– Это одноглазая-то барыня? В сорок третьем номере.
– А где сорок третий номер?
– По лестнице за прачечной.
– А где у вас прачечная?
– Да сейчас рядом с сапожниками.
– Тьфу ты, пропасть! Да ведь я не знаю, где и сапожники живут. Возьми и проводи меня.
– Нет, уж это подождешь! Нешто я могу с дежурства отлучаться?
Мужчина бежит на двор и вопит:
– Дворник! Дворник!
На Конной
Воскресенье. На Конной площади идет торговля лошадьми. Появились барышники в синих суконных чуйках, опоясанных красными кушаками с кнутами за поясом, и выставили лошадей, предварительно приготовив для них «видное местечко», то есть взрыв землю и насыпав нечто вроде бугорка. Кони привязаны к телегам и жуют корм. Бродят черноусые цыгане, подторговывающие лошадей и тем набивающие им цену среди покупщиков. Покупщики явились с кучерами, с коновалами, дабы не обмануться в покупке. Они смотрят лошадям в зубы, берут их под пах, чтоб узнать, молода ли лошадь и не лягается ли. Остановились мимо ехавшие извозчики прицениться к животинам. Есть и так, любители. Лошадей проводят, проезжают в барышнических тележках с мельхиоровым набором.
Вот купец с кучером и коновалом покупают «расхожую лошадь» и ищут непременно шведку.
– Да зачем вам непременно шведку? Шведка только для охоты, а ежели для хозяйской езды и не в парад – то вот вам конек чудесный. Жеребец был. Лошадка заводская, только, известно, аттестат утерян, потому она больше по бабьим рукам ходила. Где ж женщинам соблюдать коня! – говорит бородатый барышник. – Сень, Сень! Промни гнедого меринка-то! – кричит он сыну, молодому парню с серьгой в ухе. – Чего глаза-то выпучил, дерево стоеросовое!
Меринка проводят.
– Да заводский! – с усмешкой кивает кучер. – Видно, от двадцатипятирублевого и красненькой?
– Э, дура с печи! А еще кучер! Нешто таких коней за тридцать пять рублей покупают? Поди, наездником туда же считаешься! – огрызается барышник. – Две сотельные сам за него содержанке Адельфине Францевне дал, да два месяца стоял он у меня на навозе и даром корм травил, потому закован был. Ну а теперь ему хоть сейчас серебряные вазы брать.
– Конь-огонь; ты его кнутом, а он те хвостом, – продолжает кучер.
– Дубина! Вы его, наше степенство, не слушайте. Мало ли, что он мелет. Ему, надо статься, вон в том углу за опоенного синюху присудили, чтоб смаклерил вам.