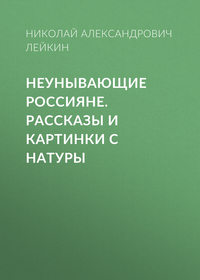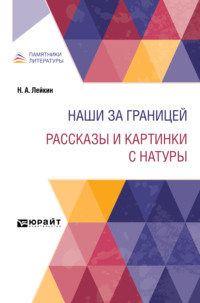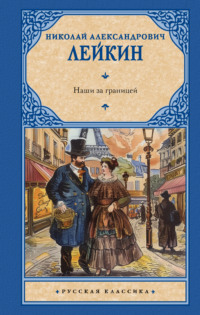Полная версия
Саврасы без узды. Истории из купеческой жизни

Николай Александрович Лейкин
Саврасы без узды. Истории из купеческой жизни
© «Центрполиграф», 2024
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2024

На невском пароходе
От пристани Крестовского сада отвалил пароход и повез публику в город. За полночь. Июньские сумерки слились с рассветом. На пароходе захмелевший купец с женой и весело болтает.
– Ау, Мавра Тарасьевна! Теперь уж мы на самой глубине, – говорит он жене. – Назад не выскочишь. Проси сейчас пардону или пиши письмо к родителям, что, мол, так и так, нахожусь в беспомощных когтях злодейства своего мужа во всем тиранстве.
– Зачем же я такую музыку буду заводить, коли вы смирные и в веселом хмеле? – отвечает жена.
– Теперь смирный, а могу чрез водяное качание в буйственный образ прийти и происшествие устроить. Ну, вдруг тебя бить начну? Куда ты побежишь? По морю яко посуху – нельзя, потому ты грехоподобная жена.
– А за что же вы меня бить-то будете, Калина Савиныч, коли я вам ни единым словом не перечу? Вы целый вечер были такой ловкий кавалер, что даже, окромя чаю, две порции мороженого мне стравили. У вас облик ясный и даже улыбка в бороде.
– Это только теперь. А вот до «Ливадии» доедем, и в моих речах может кораблекрушение случиться, а в душе бурный образ мыслей разыграться.
– А вы якорь в душу-то вашу киньте.
– И кинул бы, да боюсь, что потом не вытащу, когда мне гроза на тебя понадобится. Я вот сейчас хочу воспоминания собственной ревности делать. Теперь ты смирная и не перечишь мне, а давеча зачем левым оком акробату моргала, когда тот на канате ломался? Ага, испугалась! – шутит купец.
– Что вы, Калина Савиныч, да я не думала…
– Врешь! Врешь! Будто я и не видел. Прищурилась на его голоножие, губы облизнула, да и моргнула при коварстве чувств.
– Да когда же это?.. Что вы, Христос с вами!
– А когда этот самый акробат кверху тормашками на штанине повис – вот когда. А ты на чужого человека пронзительные-то улыбки не строй. Приедем домой, я тебе сам хоть на двух штанинах кверху тормашками повисну.
– Да нешто вы по-акробатски ломаться умеете?
– Я все умею. Для любимой жены я и паклю зажженную буду есть, и шпаги глотать. Хочешь, сейчас вот этот самый зонтик на китайский манер в свою утробу засуну?
– Ах, что вы, Калина Савиныч! Вы человек солидарный и должны себя в аккурате при всей публике держать.
– Ну, то-то. А механизм со мной всякий бывал. Я раз хмельной в трактире, когда на спор дело пошло, полтину серебра проглотил – и не в одном глазе… Садись, Мавра Тарасьевна, что на дыбах-то стоять? Садись вот около господина еврея, – указывает купец на почтенного человека в сером пальто.
– Да я вовсе не еврей, вы жестоко ошибаетесь, – отвечает серое пальто.
– Ну вот! Толкуй тут! А жидом-то отчего же пахнет? На ветру, при всем водяном путешествии, и то отдает. Ну да бог с тобой! Не еврей так не еврей. Тебе и книги в руки.
– Я славянин болгарского племени.
– С которой стороны? Спереди, сзади или с боков? А коли ты славянин болгарской крови, то покажи на себе турецкие зверства, – тогда уверую. Не стыдись, показывай, – увидим, ночь-то светлая. Нет, барин, видали мы настоящую болгарию-то. У той либо рука, либо нога булавками истыкана, на манер как бы буквенные словеса, и потом синим порохом затерта. Мне один монах с Афонской горы все это до подлинности объяснил. Ну что? Не хочешь разуваться?
В публике смех.
– Вы совсем полоумный! – говорит серое пальто.
– Так и запишем-с. Наше полоумство при нас останется, а ваше еврейство при вас. Мавра Тарасьевна, уйди от него, а то, чего доброго, брыкаться бы не начал. Вишь, он надулся как мышь на крупу. Садись вот тут, супротив машины. Господа для тебя раздвинутся, а я супротив твоих взоров встану. Ничего, не стыдись, заклинивай промежду двух. В середке-то будет потеплее.
– Измучили вы меня вашей командой, – говорит купчиха, пересаживаясь.
– Ничего, мученая-то спать лучше будешь. А что, господа, во сколько сил теперича эта самая машина будет, что нас везет? – говорит купец, ни к кому особенно не обращаясь.
– Сил в двадцать пять наверное будет, – отвечает какой-то полный господин в фуражке с красным околышком.
– Слышишь, Мавра Тарасьевна? Двадцать пять дьявольских сил нас с тобой домой везут, на двадцати пяти бесах мы с тобой едем, – обращается купец к жене.
– Тут лошадиные силы считаются, – поправляет его полный господин.
– Ой! А нешто может невидимая лошадь быть? Вы, барин, это махоньким ребятам лучше рассказывайте, а нам таких куплетов не надо. Мавра Тарасьевна, не пужаешься дьявольской-то силы? Ведь двадцать пять штук в этот пароход всажено.
– Какие вы, Калина Савиныч, удивительные! Чего ж мне пужаться, коли остальная публика не пужается? – дает ответ купчиха.
– Так ведь ты не публика, а баба.
– Все равно, я их жилу соблюдаю. Тут многие есть в женском мундире, которые тоже не пужаются, ну и я за ними.
– Умница! Погладил бы тебя по головке, да боюсь, что твой цветочный огород на шляпке сомну. Ну, все равно, считай как бы вексель от наших ласк и, окромя того, жди от меня завтрашний день фунт кедровых орехов и кусок клюквенной пастилы за ловкую поведенцию. Вот, господа, как мы своих жен ценим! – хвастается купец.
– Посмотрите, как тихо на воде, – замечает какой-то пассажир другому. – Нева как стекло.
Купец тотчас же ввязывается в разговор.
– Тихо, а все-таки покачивает, – говорит он. – Кому другому, а мне, на дыбах-то стоючи, очень заметно. Качка есть, да и в голове мутность; глаз тоже не в правильном порядке.
– Кто себе глаза налил, у того они в порядке и быть не могут, – огрызается пассажир.
– А будто я уж и налил? С чего налить-то? Постой, вот сочту. У Летнего сада на пристани в буфетном месте давеча одну фигурку опрокинул, да на Крестовском с Петром Сидоровичем три баночки. Потом пивным лаком тотчас же все это покрыли. Сливок от бешеной коровы к чаю, кажется, только две лампадочки требовал… Так, Мавра Тарасьевна?
– Нет, четыре.
– Вишь, какая глазастая! Заметила. Ну, четыре. Итого восемь, а с пивным лаком – девять. Засим письмом с Болдыревым на трех инструментах мадерную польку трамблян станцевал да с Савельевым под кадрель лимонадную сладость с коньяком пили.
– Вот видите, значит, тринадцать сосудов изволили охолостить. А еще спрашиваете, с чего глаза налить.
– Как тринадцать? – воскликнул купец. – Не может быть! Тринадцать и есть, – прибавил он, пересчитав по пальцам. – Ну, это не модель, чтоб чертова дюжина была! Ой-ой-ой, как я промахнулся! Мавра Тарасьевна, готовься! Сейчас около «Ливадии» команда: «Стоп машина!», так мы такое движение, чтоб на берег нам выйти и хоть четырнадцатую чашу в себя опрокинуть, что ли! Ну, шевелись!
Пароход причаливает к «Ливадии».
– Да полно тебе! Довольно! Домой пора. Ведь замотаешься здесь, – останавливает мужа купчиха.
– Лучше, матка, замотаться, нежели на чертовой дюжине сидеть. Себя вини, зачем меня на такой численности домой звать с Крестовского начала. Делать нечего, сама себя раба бьет за то, что худо жнет! Шпацирензи, мадам, наверх! Правое плечо вперед! Марш!
Купец и купчиха выходят на пристань.
Афган
У Гагаринской пристани давно уже покачивались в ялике пожилой торговый человек в теплой сибирке на овчинном меху и стриженая молодая девушка в клеенчатой шляпе, в очках и с саквояжем в руках. Торговый человек нахлобучивал себе на голову картуз с толстым дном, стараясь, чтобы его не сдунул ветер, и, видимо, сердился, что в ялик медленно набираются седоки. Вошел худой и жилистый отставной солдат с подстриженными щетинистыми усами и в рыжем пальто, опоясанном кушаком.
– Ну, трогай! – сказал торговый человек перевозчику. – Что не хватит до состава – я доплачу. Будто на чаю пропил… – прибавил он, махнув рукой.
Перевозчик поплевал на руки и взялся за весла. Ялик тронулся. Торговый человек мрачно смотрел на девушку.
– Поди, шкилетные кости в мешке-то везешь? – обратился он к ней с вопросом и кивнул на саквояж.
Девушка улыбнулась.
– Да, вы угадали. Здесь действительно есть несколько человеческих костей, – отвечала она.
– Несколько костей! А вы зачем человека разрозниваете? Нешто это модель? Ведь это хуже смертоубийства. И после смерти-то вы его терзаете. Ну как он теперь в день судный встанет? Может быть, ты у него такую кость отняла, что ему и не подняться.
Ответа не последовало, но откликнулся отставной солдат и сказал:
– Да, это штука важная! Мы в Крымскую кампанию после сражениев, которые бомбою товарищи разорваны были, и тех сбирали. Хуже нет для человека, коли его не в полном виде похоронить. Он потом себя искать будет и до тех пор не успокоится, пока последнего пальца не подберет.
– Это еще что, господа! – прибавил перевозчик. – А у нас тут как-то вот эта самая скубентка всего человека везла в костяном смертном виде. И все, значит, мясо обскоблено. Внесла холстинный мешок. Ну, мы думали – картофель либо репа. Мало ли, что перевозят. А распахнул ветер холстину-то, а там как есть адамова голова с руками и ногами. Да еще похваляются промеж себя: «Нам, – говорит, – фершел его в котлах варил».
На девушку начали все смотреть с презрением. Торговый человек плюнул и начал:
– А ты бы в те поры, милый человек, взял бы их за стриженые-то гривы да и оттряс бы, как белье полощут. Вы зачем стрижетесь, иродовы дочери? – крикнул он на девушку. – Вам длинноволосие, в отличие от мужеского пола, дано, а вы в мужчину лезете. И нам-то обидно. Ты зачем очки надела? Ты там у себя дома хошь папироски кури, хошь по постам скоромное лопай, а в народ в очках да стриженая не ходи. Только смутьянство одно!
Девушка совсем потерялась. Она заморгала глазами. На ресницах ее показались слезы. Солдату сделалось ее жалко.
– Ты уж не очень напирай, – остановил он торгового человека. – Ведь и их сестра тоже из-под неволи. Иной раз, может, и набольшие ихнюю сестру к этому подстрижению заставляют. «Продай, мол, косу, а нам на вино». Ведь это вера у них такая, чтоб стричься: ну, старший поп и в ответе, его и костыляй. Ох, и наш брат подчас в человечьих-то костях грешен бывает, – прибавил солдат после некоторого молчания. – Мы вот тринадцать годов с женой голландской сажей питаемся, так знаем.
– А что? – спросил торговый человек.
– Голландскую сажу, говорю, для москательщиков коптим, так знаем. Теперича ежели одна копоть – то сажа, а ежели из жженой кости черная краска – то мумия. Конечно, у тряпичников, что по дворам ходят, кости эти самые скупаем, а тоже всякие и окромя говяжьих попадаются на выжигу. У нас тут один заведомо у фельдшера из акабении скупал и жег.
– Ой?! – усомнился торговый человек.
– С места не сойти.
– А что это выгодна голландская сажа?
– Питаемся кой-как. Прежде мы с женой спички делали, когда они были под казенным запрещением, ну а как вышла на них свобода – бросили, потому невыгодно, да и на фабриках лучше нас стали делать. Вот теперь на табак упование есть, – прибавил солдат.
– А что? – спросил торговый человек.
– Как «что»? Нешто в газетах-то не видал? Ты, брат, верно, газет не покупаешь?
– Покупал, да бумага нониче стала очень плоха: больно рвется и на картузы совсем для лавки не годится. Теперича старые лавочные книги покупаем, так из них делаем.
– Так-то оно так, а не худо бы иногда и в газету заглядывать, – посоветовал солдат. – Табак на откуп жидам отдать хотят. Ну, известно, начнется у жидов шильничество насчет этих самых папирос; будут туда сенную труху да мочалу пихать, а нам выгода; мы у себя свои фабрики заведем и будем по-божески делать и дешевле продавать. Рукомесло-то это нам знакомо. И теперь у меня дочка этими самыми папиросами хозяйство наше подпирает, ну а тогда и подавно.
– Понял, понял, – закивал головой торговый человек. – Что ж, коли жиду в пику каверзу строить – это не грех. Что ныне в газетах-то пишут? – спросил он вдруг солдата. – Давно уже я не читал.
– Да что… Многое есть, – отвечал солдат. – Вот, например: афганская мурза поднимается и индейское царство усмирять идет. Это сто тридцать семь верст от Бухары… Афган-то то есть. Когда мы Бухару брали, то в те поры только его и заметили, а допрежь того, он нам, этот самый Афган, неизвестен был, – пояснил солдат.
– Черный народ в этой самой Афганской державе-то? Поди, эфиопской масти? – поинтересовался торговый человек.
– Нет, полубелый. Да Афган – не держава. Там просто мухоеданская мурза с неверным народом живет. И стал его неверный народ в индейское царство на богомолье ходить, а индейский-то хан подумал, что они измену хотят сделать, да и начал против их эмирские зверства творить. Приходят раз афганцы домой, и глаза у них выколоты. Ну, афганская мурза не стерпела и идет теперь индейцу усмирительный ультимат задать.
– Это пушка какая, что ли?
– Ультимат-то? Нет, все равно что оккупация, только еще хуже. Зададут они перцу этому индейцу! Афганский народ восемь пудов одной рукой поднимает, ну а индеец слаб, потому он только индейкой питается и кукурузой… Где ж ему супротив черного хлеба выстоять? Окромя того, говорят, к мурзе наша доброволия на подмогу пойдет, чтоб тоже супротив эмирских зверств воевать. У нас один на Выборгской уж шашку свою из заклада выкупил, и сродственники его поить уж начали.
– Это верно, – подтвердил перевозчик. – Сказывают, что вот тут, на лесном дворе, один купец даже двенадцать ведер водки купил, чтоб этой самой доброволии напутствие… Тише ты! Нос сломаешь! – закричал он на встречного яличника и, затабанив веслом воду, стал подъезжать к плоту.
Как ужаленная, выскочила из лодки девушка, бросила на лавку две копейки и бросилась бежать.
– Держи ее, стриженую! – крикнул ей вслед торговый человек.
В помещении клуба художников
Открытие помещения клуба художников. Вечер. Комнаты залиты огнями, отражающимися в гигантских зеркалах. Публика только еще сбирается. Являются, главным образом, посмотреть помещение, о котором много прокричали в газетах. Все бродят по комнатам и останавливаются перед предметами убранства. В особенности обращают на себя внимание двое мужчин: один маленький, с завитыми усиками, в вычурном фраке, с бриллиантовыми запонками на сорочке и со складкой шляпой на белом подбое в руках; другой – плечистый верзила в черном сюртуке, сидящем на нем, как на манекене, и в пестром бархатном жилете. На шее у него массивная золотая цепь от часов с бриллиантовой задвижкой; рыжая борода подстрижена, волосы жирно напомажены. Он в зеленых перчатках и то и дело растопыривает пальцы. Очевидно, ему неловко. И маленький мужчина, и верзила разговаривают полушепотом.
– Ну что, Ульян Трофимыч, есть ли у вас в Угличе такая роскошная антимония? – спрашивает маленький и тут же прибавляет: – Ни в жизнь! Да ты рот-то не очень открывай, а делай так, как бы равнодушию подобен и пустой интерес… А то нехорошо. Сейчас скажут: «Вон лаптехлебатели приперли». Ходи слободнее и держи себя наподобие аристократа. Вон Иван Федорович Горбунов как ходит: любо-дорого глядеть!
Верзила приободрился и зашагал, подбоченившись.
– А штуки важные есть! – сказал он, кивая на гобелены, висящие на стене.
– Эти вот и посмотреть можно, потому – картины. Тут для всякого интерес – какой они из себя сюжет составляют, – отвечает маленький и останавливается.
– Какие картины! Это пелены.
– Ну вот! Нешто на пеленах станут эфиопского царя изображать? А тут эфиоп с фараонами море переходит, – возражает маленький. – Чего уж не знаешь, так лучше молчи. Это картинные ковры. Надо полагать, их сама графская бабушка в старину вышивала. Прежде ведь рукодельницы-то были – страсть!
– А ежели это ковры, то зачем же они их на стены повесили?
– А кто ж их знает! Может статься, и от сырости, стена сыра. Ну, посмотрел и будет. Шагай дальше!
– Постой, дай канделябры-то посмотреть. Эка махина! На таком подсвечнике даже удавиться можно человеку – смело выдержит.
– Зачем давиться! От хорошей жизни не давятся. А это сделано так, чтоб во время картежной игры свечи на стол не ставить. Поддвинул, к примеру, под эдакий подсвечник игральный стол, словно под березку, и стучи себе с богом всемером по рублю аршин. Чудесно!
– Да, брат, под таким подсвечником, ежели тебе и на радужную полушубок вычистят – ничего, не обидно, – соглашается верзила и задирает голову кверху.
Маленький дергает его за рукав.
– Ульян Трофимыч, говорю тебе: не разевай рта, а содержи в себе равнодушие! В душе можешь, как хочешь, сочувствовать, а виду не подавай. Смотри, как аристократы действуют… Ему все равно. Ему скажут, к примеру: «Моншер, смотри какая картина…» А он сейчас тонким тоном: «Наплевать!» Действуй и ты так. Ну, трогай!
Вошли в китайскую комнату, убранную фарфором. Две дамы и офицер рассматривают китайской работы тарелки, прикрепленные к стене. Маленький и сам умиляется.
– Вот это изображение большого интереса! – говорит он. – Смотри, Ульян Трофимыч!
– Наплевать! – отчеканивает верзила и отворачивается.
Присутствующие обращают на него внимание. Маленький конфузится.
– Зачем же плевать в тарелки? Это посуда, – говорит он, стараясь поправить дело, берет товарища под руку и быстро уводит его в другую комнату. – Ну, брат, с ног срезал ты меня! – восклицает он. – Какой такой сюжет будут про нас иметь в голове эти самые аристократы! Нешто можно так неучтиво при дамах!..
– Да ведь ты сам же меня учил, – оправдывается верзила.
– И вовсе даже не так. Аристократический граф делает только вид, что ему как бы наплевать, а ты уж и все слово обозначил. Ты бы уж лучше на самом деле плюнул в тарелки. Нешто это делают? Настоящий аристократ сделает кислое лицо и отвернется. Нет, брат, ваш Углич – совсем деревня! Долго еще тебе тереться в Петербурге, чтоб человеком стать! Пожалуйста, будь в аккурате. Ты вот сейчас это слово вывез, а дамы подумали, что это про них. Нехорошо. Офицер мог вступиться. И опять же, коли ежели что тебе очень нравится, – сделай приятную улыбку и скажи: «Недурно». Вот и все. Понял?
– Еще бы не понять! Сеня, неужто это тарелки на стенах-то понатыканы? – интересуется верзила.
– А ты думал, как? Известно, тарелки. У господ завсегда такая мода. Купцы парадную посуду в стеклянную горку ставят, а графы на стену вешают.
Вошли в синюю гостиную.
– Видишь, на стенах-то парча вместо обой, – шепчет маленький мужчина и крутит ус.
– Кажись, парча-то не подходила бы на этот образец, – замечает верзила. – Ведь это священная материя. Она на ризы идет.
– Ну вот! В ваших же местах ее бабы на кокошниках носят. Эко зеркалище-то какое! Шесть человек на нем в ряд выспаться могут. Совсем для аристократа!
– Зачем же артистократам такие зеркала?
– А чтоб во всей натуре на себя смотреть. Из бани пришел, почесалось – ну, и смотрит, где у него прыщ вскочил.
– Махина! – восторженно шепчет верзила. – Я даве это зеркало за дверь принял и чуть было в него ногой не шагнул.
– А ты будь осторожнее. Из такого зеркала ежели каблуком смятку сделать, так десятка радужных недосчитаешься.
Товарищи отвернулись, но в это самое время за спинами их раздался женский возглас:
– Ах, боже мой! Это зеркало, а мы думали, что дверь.
Две какие-то дамы действительно натолкнулись на стекло и, упершись в него руками, стояли сконфуженные.
– Недурно! – отчеканил во все горло верзила и захохотал.
– Дядя Ульян! Ты у меня совсем голову снял! – воскликнул маленький и потащил верзилу вон из гостиной.
Они пробежали анфиладу комнат и остановились в буфете.
– А ей-богу, здесь вот в этом самом месте много чище! – заговорил верзила, начал снимать перчатки и, обратясь к буфетчику, сказал: – Позвольте-ка нам пару рюмочек горностаю!
В Павловске
Открытие музыкальных увеселений в Павловске. Народ кишмя кишит в вокзале. Плебс перемешался с аристократией. Белеется фуражка кавалергарда и блестит ярко наутюженный циммерман апраксинца. Паровозы все еще подвозят публику. Гремит музыка. Кругом толкотня.
– Ой, Семен Семеныч, легче! И то шлейф оторвали! – говорит разряженная купчиха.
– А ты терпи! На то открытие! – отвечает супруг. – Назвалась груздем, так полезай в кузов. Спиридон Мартыныч! Наше вам с огурчиком! – восклицает он при виде другого купца. – Какими судьбами?
– Где люди, там и мы. Не отставать же стать. А чудесно! Ей-богу, чудесно! Возьмите, сколько народу набралось. И какая все публика! Прелесть. У меня сейчас платок и перчатки украли.
– Публика чистоган, белая кость. Вот где благородному-то обращению поучиться. Я вот жене и говорю: приглядывайся, как модные дамы себя соблюдают. Доходи умом-то.
– Ну и что же, Анна Ивановна, доходите?
– Дохожу по малости, – конфузливо шепчет молодая супруга.
– То-то… не ударьте супруга-то вашего в грязь лицом. К примеру, ежели вас толкнут и скажут «пардон», а вы сейчас – «мерси». Капельдинера-то, что перед музыкантами палочкой помахивает, видели?
– Показывал я ей.
– Этот погрузнее супротив прошлогоднего-то будет. Десять тысяч, сказывают, на свой пай получит. Вот и смотри! Иной и топором машет, а стольких денег за всю свою жизнь не выгребет, а тут на-ткость – палочкой!
– Да ведь ему не за это такие деньги платят. Палочкой помахивать мудрости не составляет.
– А за что же?
– А за то, что когда он был в городе Италии, так папе римской служил.
– Теперь куда?
– Да думаем соловья в парке послушать. А то быть в Павловске на открытии и не слыхать соловья – как будто и неловко…
– А свистит уже разве?
– Так и заливается, говорят. Конечно, погода теперь – кислота, а все-таки… Ну да ведь здесь, надо статься, подсаженные соловьи-то.
– Погода – скипидар, что говорить! Я даве инда продрог весь. Вы в буфете-то толкались уж?..
– Нет еще.
– Так не хотите ли насчет горностаю дербалызнуть? По собачке опрокинули бы. Дамам мороженого.
– Ну вас, Семен Семеныч! И без того холодно, – говорит жена.
– А ты подуй! Да не вдруг ешь-то, вот и не будет холодно! Протискивайся, Спиридон Мартыныч. Что ее, дуру, слушать!
Купцы направляются в буфет. Там теснота и давка. Все столы заняты. Прислуга сбилась с ног, подавая требуемое. Кругом пьяно. Кто-то затягивает песню.
– Оставь, Вася! Безобразно, – останавливают его.
Купцы приснащаются к буфету.
– Вот вам по стулику… Садитесь и ешьте мороженое, а уж мы на дыбах свою порцию глотать будем, – говорят они дамам. – Насыпьте-ка нам, молодцы, парочку двухспальных да редисочку пополам! Сеня! Сеня! Слышишь, как соловей-то свистит!
– Что ты врешь? Это машина!
– А ты думай, что соловей, и благо тебе будет! Ну-ка, с открытием! Соси!
Купцы выпивают и крякают.
– По одной-то, так хромать будешь! Нужно повторить! Сыпьте, сыпьте, неверные! Теперь с букивротцом. Маланиной нас не накормишь? – обращается один из них к татарину-лакею.
– Несходно-с. Нынче лошади-то на конножелезку требуются.
– Сеня! Соловей-то как заливается! Ах ты господи! Самку кличет.
– Да это машина.
– Ну и пущай ее! А ты веруй, что соловей. Ведь тебе все равно… Позвольте! Анна Ивановна! Когда у нас дяденька Захар Игнатьич-то окочурился?
– Одиннадцатого мая два года будет.
– Так вот я этого самого соловья на Волновом слышал. Понимаешь ты, сначала это круглит вавилонами, а потом как затрещит, затрещит, защелкает! Что ж, уж все одно, саданем по четвертой за соловья-то! Ведь без четырех углов дом не строится! Опять, опять засвистел! Ах, бык те забодай!
– Да это, ей-ей, машина.
– А ты знай пей за его здоровье, да и шабаш!
У ледяного катка
Внизу, на льду Фонтанки, «радостный народ коньками режет лед»: мальчики, девочки, есть и взрослые. Вверху, у перил набережной, тоже столпился народ и смотрит на катающихся. Взрослые больше обращают на себя внимания, и в особенности длинноногий детина в жакетке, опушенной барашком, и в английской морской фуражке с большим козырем. Сложа руки на груди, он выделывает коньками самые хитрые вензеля, что вызывает в толпе, стоящей у перил, восторженные ругательства.
– Ах, бык те забодай! Вот хитрец-то, таракан те во щи! – восклицает нагольный полушубок в валенках. – Как хотите, братцы, а это беспременно акробат, что по дворам ломаются.
– Толкуй тут! Просто вихлянец из Вихляндии, – отвечает баранья чуйка. – У них завсегда такие куцые спинжаки носят, чтоб от долгов бегать.
– А может, и тиролец. Те тоже не из долгополых, – вставляет слово енотовая шуба.