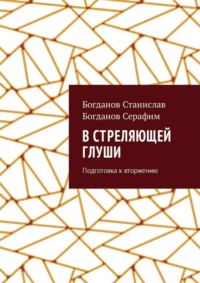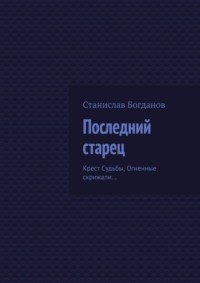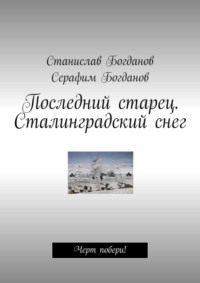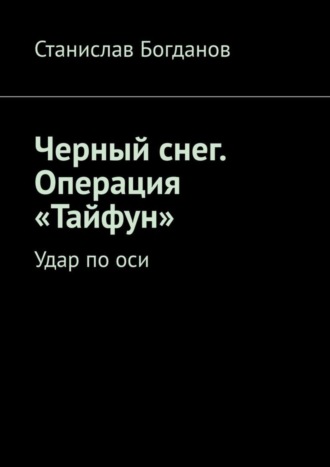
Полная версия
Черный снег. Операция «Тайфун». Удар по оси
– Не слышу, полковник? – рука Добрышев скользнула к клапану кобуры. – Или в молчанку будем играть?
– Товарищ полковой комиссар… – засопел себе под нос полковник. – У нас некомплект в матчасти. Заправка только на один бой! Двигатели сильно изношены при переходе. Предлагаю занять оборону – скрыто рассредоточиться и огнём из засады их…
– Что я слышу?!? – страшно округлил глаза Добрышев. – Командир доблестной Красной армии, коммунист сомневается в силе наступательного порыва! В решениях партии! В директиве за подписью товарища Сталина! Так?
– Так, разъэдак… – горько хмыкнул полковник. – Ты меня не стращай, Добрышев. И твою машинку я не боюсь. Ребят жаль, – он осмотрел мальчишек-танкистов, копошащихся у вытянутых, с «клювами», корпусов «бэтух». – Угробим все танки. У нас ни разведки, ни прикрытия с воздуха. Надо переходить к обороне – товарищ Сталин всё поймёт, всё простит…
Кобура раскрылась. Из неё в руке Добрышева выпорхнул иссиня-воронённый пистолет ТТ.
– Иуда! По чём продался врагу?!? Застрелю, если хоть минуту помедлишь! Ты слышал? Вперёд – до подхода главных сил захватить город. Удержать…
Полковой комиссар был неумолим. Он выполнял приказ другой «жертвы сталинских репрессий» – комиссара 1-го ранга, начальника политуправления КВО Вашугина. Именно этот субъект своими приказами дезорганизовал боевые действия 8-го и 22-го мехкорпусов, заставив их командование, под угрозой расстрела, идти в бой без должной разведки и по частям. Вскоре, «не вынеся груза ответственности», Вашугин застрелится…
В этом бою Катуков потерял все свои 33 танка. Столкнувшись в лобовой атаке с германскими панцерами, он тут же отметил всю слабость блицкрига. Скоростные БТ имели свободу манёвра. Они успешно поразили в борт даже Pz. IV, который считался в панцерваффе средним танком. Хотя обладал фактической бронёй в 17 мм (с башенной «бронеюбкой» она была 30 мм). Но тут же столкнулись с «ежом». Так в вермахте называли противотанковую оборону. Панцеры, выяснив, что противник сильнее, оставили на поле боя горевшие машины. Они немедленно рассыпались и ушли. Катуковцы столкнулись с 37-мм пушками. Исход такого поединка был предрешён. Снаряды «Бофорсов» дырявили тонкую броню «руссише панцерс». Залёгшая инфантерия расстреливала боевые машины из противотанковых ружей, ружейных гранат, забрасывала противотанковыми гранатами на длинных рукоятках. С флангов возобновили свой «дранг» маломощные танкетки с 20-мм пушками, со спаренными или курсовыми пулемётами.
Под прикрытием огня уцелевших бронемашин, катуковцы перебежками, скачками, а то и по-пластунски покидали проклятое место. Полковнику опало брови и ресницы – он вытаскивал сквозь нижний эвакуационный люк механика-водителя. А в небе уже повисли чёрные точки пикировщиков. Они принялись утюжить боевые порядки нашей пехоты, что спешивалась с полуторок. Положительно – войну надо было начинать не так…
Вечером, когда с полей сражений несло гарь подбитых машин с распущенными гусеницами и сорванными башнями, Катукову доложили, что взятый в плен панцер-офицер просит позвать «руссиш командир». Он сильно обожжён и умирает. Напоследок хочет сказать что-то важное.
Хмыкнув, полковник отправился к нему. На брезентовом чехле, рядом с трупами наших ребят в опалённых синих комбинезонах, с обгоревшими, как головешки лицами с красно-белым «фаршем», лежал германский офицер. Чёрный короткий мундир был распахнут на груди, что спеклась от крови. Руки и левая часть лица покрылась зловонной, желтовато-чёрной коркой.
«…Ви есть старший здесь, в этот часть? – неожиданно обратился он по русски. – Сядьте здесь. Не бойтесь, командир. Я есть немного говорить по русски… Учиться в ваш танковый школ в Казань. 1920-й год. Как плёхо, что мы есть воевать с вами! Воевать друг с другом! Отшень плёхо…»
«Вот именно, – не моргнув опаленными ресницами, вымолвил Катуков. – Такого же мнения, герр-хер хороший. Какого ж рожна надо было лезть? Вы о себе подумали? О своей Германии? О детях…»
«Не надо ругаться, – сморщенные, треснувшие губы панцер-офицера изобразили подобие улыбки. – Я не есть нацист. О, нихт! Я есть дружить с ваш командир с Казань. Знать комбриг Кривошеин. Знать Жуков. Он есть приезжать в Казань. Знать в Москва один русски монах. Он жить до сих пор в лавра… Сергиев посад… Передать ему от меня привет. Сказать: „мальчик“ не забывайт этот встречь. Он хотеть ещё по линий 401. Ви запомнить? Это важно для России…»
Катуков почувствовал, что перестаёт дышать. Он произвольно коснулся чудных серебристого басона петлиц на розовой подкладке этого гитлеровца:
«Ладно, не бойся. Передам… Я тоже в 20-м проходил в Казани стажировку. Ты в какой группе обретался?»
«Я быть в закрытый курс. Нас расположить в „Интурист“. Возить на занятий по ночам. Только ночь. Kaine shanse! Geheime…»
Я те дам, «гехайм-нехайм», чуть не сказал Катуков. Но вовремя спохватился: это слово по-немецки означало не только гестапо или тайную государственную полицию, но – «секретно». Уж что, что, а секретностью нас не удивишь. Кого хошь сами ею сразим.
«… Я совсем умирайт! Очень скоро, – продолжал уже как заведённый немец. Камрад! Руссише! Возми в мой карман внутри. Там мой документ. Мой письма жена и сын. Передать всё в ваш разведка генштаб. Staatspolizei nixt! Verstehen? Я давно работать на вас. Я верить тебе. Ты есть друг. Но у вас есть враг. Он есть у Хозяин. Совсем—совсем… Ты понимайт? – чёрные, обгорелые руки немца потянулись ко рту Катукова. Пальцы с белыми, с сочащейся сукровицей ногтями коснулись небритого подбородка.
Тот кивнул. Сердце сжалось. Как будто хоронил своего парня-танкиста в зыбучих песках на Халхин-Гол. Как будто это был он сам… А вокруг, правда на почтительной дистанции скапливались младшие командиры и бойцы. Возле уцелевших «бэтух» и «тешек» 9-го мехкорпуса. С помятой бронёй. С отверстиями от вражеских снарядов и дульных гранат.
«…Я видеть сороковой год во Франций – разве это война? – шептали губы немца. – Я быть в Польша – получить из рук Хайнц Гудериан Рыцарский крест! Это быть не война – короткий прогулка… Русски танкист давить мой горящий панцер. Как скорлупу орех! Я видеть русский пехот под Сокаль! Они идти на нас со штыком! Это – война! Это – гибель рейх! Это есть… конец…»
Раньше надо было кумекать мозгами, гнида фашистская. Эта мысль чуть было не вырвалась наружу, но Катуков вовремя прикусил язык. Вскоре на БА-20, покачивающимся на рессорах, с круглой пулемётной башенкой, прибыл делегат связи от 20-го мехкорпуса. Они спешили на выручку. Тоже не знали, что творится кругом. Питание у раций на исходе. До войны, сколько было запросов в штаб фронта – пополнить аккумуляторы. Без толку! Подошло 400 танков с пехотой и артиллерией, что тащились во вторых эшелонах. Половину личного состава и матчасти потеряли в двухдневном марше – не давали покоя вражеские пикировщики. Наши «ишаки» летают нерегулярно и плохо. Да и сражаются не лучше. На один немецкий самолёт приходится два, а то и три наших! А всё «не будем фигурять», лозунг товарища наркома ВВС, 30-летнего генерала Пашки Рычагова! Мать его за ногу… Доучились на парадах петли да скобы делать, а боевую подготовку свели до минимума. И самолёты крылом к крылу на аэродромах поставили. Вот теперь и пожимаем… Лишь АДД, ТБ-3, ТБ-7 да ДБ-3ф, грузно вращающие лопастями четырёх двигателей, вместо положенных пяти (!?!) барражируют часто за линию фронта. Бомбят переправы, дороги да скопления противника. Бомбовая нагрузка у них высокая – по сто осколочных «игрушек». Но без пятого двигателя им не набрать недосягаемой для «мессеров» и зениток высоты! Их же спаренные блиссеры под винтовочный патрон бессильны против металлической оболочки Bf. 109.
На рассвете тяжёлые, средние и лёгкие «руссише панцерс» волнами обрушились на позиции врага. Воздух снова наполнился воем сирен: пикировали Ju. 87 D. С хищно расставленных крыльев срывались бомбы. Расположенные возле кабин пушки обстреливали очередями БТ и Т-26. Сверху сыпались частым дождём латунные продолговатые гильзы. На излёте они пробивали голову танкистов, что высунулись из люков. КВ-1 с линкорными башнями старались огнём из своих 152-мм гаубиц подавлять противотанковые батареи в капонирах. Катуков, возглавивший остатки 2-го танкового батальона своей мехбригады, усиленного трёхбашенным Т-35 и двумя «тридцатьчетвёрками», пересел в пушечный бронеавтомобиль – только в нём было приёмо-передающее устройство ТПУ-7. Они сумели прорваться сквозь гибельный огонь с фронта и флангов. Потеряв почти все «бэтухи», расстреляли грузовики снабжения вражеских батарей.
Но в Раззивиловском их ждал неприятный сюрприз. Вдоль мощёной улочки, где особенно не развернёшься, «коллеги» установили длинноствольную зенитку. Та одним выстрелом пробивала 48-мм броню Т-34. С окон готических домов под черепицей с мансардными стёклами летели длиннорукие гранаты и бутылки с «молотовским коктейлем». В башенку БА-10, что, ломая заборчики и подминая клумбы, пытался объехать и поразить злосчастное орудие, угодил небольшой стальной цилиндрик. Группа немецких солдат, укрывшись за фонтаном, выпустили ещё одну ружейную гранату. Из винтовочного ствола, оставляя за собой кометный хвост, с шипеньем вылетела новая «петардочка». Шаровой механизм башни тут же заклинило, орудие и спаренный с ним ДП были искорежены. Отстреливаясь их ППД и пистолетов, экипаж машины боевой оставил броневичок. Вновь, передвигаясь ползком и перебежками, они стали пробиваться к своим. На перекрёстке Катуков увидел – стоящий гигант Т-35. Он отстреливался из 67-мм орудия головной башни. Башня с 45-мм пушкой была сплющена и провалена. Из корпуса дымило… На противоположном конце улицы, лязгая по булыжнику траками, катила немецкая «крестовая» самоходка. Длинноствольная пушка за широким стальным щитом выбросила треугольник пламени. Снаряд ударил в гусеницу гиганта. А из подъезда выбегали кое-какие недобитые местные. Недовысланные тоже. С топорами, дробовиками и бутылками, заполненными до краёв мутной жидкостью. Запаливали просмоленные «язычки»…
Отступая с границы, Катуков впервые задумался о тактике боя из засады. Во многом, благодаря кровавому уроку. Немцы сами подсказывали ему тактику. Сперва – «артисты» (так он называл отвлекающую группу) имитируют лобовую атаку. Подобно немецким «коллегам», в случае опасности, уходят назад, где сосредоточились танки и ПТС, скрытые в засаде. Причём, перед наступающим врагом, если позволяет время, отрываются «декорации»: ложные артиллерийские и пулемётные ячейки. Изготавливаются по ситуации макеты пушек и пулемётов. Увлёкшись погоней, панцеры, оторвавшись от инфантерии и противотанковых орудий, ввязываются в бой с чучелами. Затем… У Катукова, измотанного в боях, потерявшего многих товарищей и боевую машину даже спёрло в ушах! Можно применить систему «артиллерийских мешков». Создать систему перекрёстного огня из батарей, одиночных орудий, вкопанных и подвижных танков, что укрыты в засадах. Так, располагая меньшими силами, действуя по-суворовски «побеждай не числом, а уменьем!», можно уничтожить целое танковое соединение врага при минимальных потерях.
Пробираясь по лесам, болотам и долам до Смоленска, Катуков материл то, что накануне войны преподавалось в военной академии и на командных курсах. Упреждающим ударом, уничтожить, сокрушить… Это походило на тактику «перманентной революции» в исполнении «товарищей» Троцкого и Тухачевского, коих Катуков действительно считал врагами трудового народа. Это надо же, додуматься – вести войну за освобождение рабочего класса «на чужой территории и малой кровью»!?! В финскую, тамошние пролетарии к этому отнеслись крайне негативно – освобождению и присоединению к СССР. Не получилось воевать ни малой кровью, ни на чужой территории, хоть и была захвачена Карелия. (Ликвидирован опасный плацдарм для возможного вторжения в ленинградскую область, по причине которого «колыбель революции» долгое время оставался приграничным городом.) Упреждающим ударом авиации и артиллерии сокрушить врага в развёртывании… Хорошо! Если не получилось – как дальше? Вот он нас и сокрушил, а мы? Только наступлению научены, а он в обороне себя сносно чувствует. Нас же обороне учили лишь в тактическом смысле. Считалось, что глубокая, эшелонированная оборона и тем более отступление – пережиток буржуазной стратегии. За такие мысли можно было загреметь в «отдалённый курорт», что на севере.
РККА накануне войны располагала 14 200 танков. В первые месяцы боёв потери составили до 12, 2 тысяч. Причём большинство танков было не уничтожено в боях, но брошено из-за нехватки горючего и ремсредств. Склады развёрнутых близ границ соединений проутюжила в первые часы вражеская авиация и артиллерия. Но у действующей армии оставалось еще 2 тыс. Кроме это 8 000 боевых машин расположились во внутренних округах. Немцы тоже понесли серьезные потери. Так в наступательной операции «Тайфун» приняло участие лишь 1700 с небольшим «роликов» из 3 350. Для перевеса в силах пришлось оставить попытки взять штурмом город-крепость Ленинград. Часть «панцерс» из группы армий «Север» были в срочном порядке переброшены на центральное направление. Ими были усилены части 2-й, 3-й, 4-й панцерных групп. Вследствие этого они получили горделивое, но насквозь дутое название «танковые армии». Так был достигнут перевес – 1700 единиц бронетехники… Учитывая, что половину из них по прежнему составляли танкетки Pz. I с 7,62 мм «противотанковыми» пулемётами, а другая половина была представлена сотнями Pz II с 20-мм и 50-мм пушками, такое преимущество могло выйти боком. При умелом противодействии! Но его как враз-таки не было.
Кроме того, советская промышленность выпускала несколько сот танков в месяц. Поэтому даже после ужасающих потерь Красная Армия сохраняла превосходство в танках перед противником. Правда, на итогах боев это все равно не отразилось.
Против 9-го и 22-го мехкорпуса, выдвинутого в бой по частям, действовала 1-ая панцерная группа в составе группы армий «Юг». Против 800 советских танков – до 600 германских с более слабым вооружением, бронированием и запасом хода. Более того – колонны снабжения и обслуживания Гудериана и Клейста безнадёжно отставали. Частью машины низкой проходимости завязли в белорусской песчаной низменности. К тому же давали о себе знать отдельные очаги сопротивления, которые остались в тылах. На линии Луцк, Ровно и Каменец-Подольск произошло знаменитое, но малоизвестное танковое сражение. Оно на целых три недели сковало «дранг нах остен».
Впервые за историю блицкрига панцерваффе столкнулось с достойным противником. После того, как к русским подошло подкрепление (22-й мехкорпус), сражения завязалось с новой силой. На одну подбитую германскую единицу бронетехники приходилось до десяти советских танков. Всё потому, что части РККА вводились в бой по частям, без должной наземной и авиаразведки. Отсутствовала поддержка с воздуха. Советские танки, атаковавшие с ходу панцерваффе, попадали под убийственный огонь из засад. По ним работала противотанковая и самоходная артиллерия. С воздуха сыпали дождь из бомб и скорострельных пушек эскадрильи «штукас». Отсюда – столь ужасающие потери. Но отнюдь не из-за бесталанности или трусости (тем более, тупости!) советских младших и средних командиров, старшин, сержантов и рядовых. Они сражались как львы. Снискали себе славу в века. Как у товарищей, так и у врагов.
Как воевали танкисты на соседнем Юго-Западном фронте? Начальник автобронетанкового управления этого фронта генерал армии Вольский, направленный с инспекцией Ставкой верховного командования, провёл анализ боёв. Много критических замечаний досталось в адрес общевойсковых командиров. Учитывалась шаблонность в принятии решений на поле боя, когда всё решают «спасённые минуты». Эту болезнь командиры Красной армии подхватили во время финской компании. Командиров дивизий, наступавших на ладожском направлении, маршал РККА Шапошников в своём докладе назвал «толстовцами» – они двигались тесными боевыми порядками, не выставив бокового охранения, не наладив войсковой разведки. Уничтожив финскую 4-ую дивизию в открытом бою, четыре советских дивизии стали жертвой артиллерийских засад и диверсионных групп. Танки попадали на минные поля. Всё это поразительно напоминало тактику германских войск в ходе блицкрига, а также будущие операции Катукова против 2-ой панцерной группы. Но много было недочетов, допущенных непосредственно и командирами механизированных частей и соединений.
К ним прежде всего относились:
1. Штабы МК, ТД и ТП еще не овладели должным оперативно-тактическим кругозором. Они не смогли делать правильные выводы и полностью не понимали замысла командования армии и фронта.
2. Не было маневренности – была вялость, медлительность в решении задач.
3. Действия, как правило, носили характер лобовых ударов, что приводило к ненужной потере материальной части и личного состава…
4. Неумение организовать боевые порядки корпуса по направлениям, прикрывать пути движения противника, а последний главным образом двигался по дорогам.
5. Не было стремления лишить противника возможности подвоза горючего, боеприпасов. Засады на главных направлениях его действий не практиковались.
6. Не использовались крупные населенные пункты для уничтожения противника и неумение действовать в них.
7. Управление, начиная от командира взвода до больших командиров было плохое, радио использовалось плохо, скрытое управление войсками поставлено плохо…
8. Исключительно плохо поставлена подготовка экипажей в вопросах сохранения материальной части. Имели место случаи, когда экипажи оставляли машины, имеющие боеприпасы, были отдельные случаи, когда экипажи оставляли машины и сами уходили.
9. Во всех частях и соединениях отсутствовали эвакуационные средства, а имеющиеся в наличии могли бы обеспечить МК и ТД только в наступательных операциях.
10. Личный состав новой техники не освоил, особенно КВ и Т-34, и совершенно не научен производству ремонта в полевых условиях. Ремонтные средства танковых дивизий оказались неспособными обеспечить ремонт в таком виде боя, как отход.
11. …Отсутствие штатной организации эвакосредств приводило к тому, что эвакуация боевой материальной части… отсутствовала.
12. Штабы оказались малоподготовленными, укомплектованы, как правило, общевойсковыми командирами, не имеющими опыта работы в танковых частях.
13. В высших учебных заведениях (академии) таких видов боя, с которыми пришлось встретиться, никогда не прорабатывалось, а это явилось большим недостатком в оперативно-тактическом кругозоре большинства командного начсостава». (Этот материал опубликовал в 2000 году Игорь Дроговоз.)
В отчёте Вольского, что был представлен как генштабу, так и политбюро ЦК РКП (б), а значит лично Сталину, указывалось и другое. Немецкая тактика, с которой столкнулись советские танковые и механизированные соединения, была намного эффективнее. Во многом – по причине заимствований, которые были сделаны генералами панцерваффе, стажировавшимися в 20-х годах на советских танковых полигонах. Немецкая панцерная группа напоминала собой «ежа». Следуя принципам единого комплектования, что были разработаны советскими военными теоретиками Свечиным и Триандафиловым при участии бывшего офицера царского генштаба Шапошникова, советника Сталина, германские панцерные группы сочетали в себе все рода войск. Подчинялись единому управлению. При попытках атаковать их, группы немедленно ощетинивалась многочисленной артиллерией. В воздух подымались армады «штукос», мотопехота спешивалась с грузовиков и бронетранспортёров, открывала бешеный огонь, защищая драгоценные танки. Так выглядело полное взаимодействие всех родов войск, которого не хватало во французской, британской, а также польской армиях. Таким был инструмент блицкрига.
Вот такие кричащие факты… Цимес, как говорят и пишут евреи, был в том, что генерал армии Вольский являлся талантливым учеником и преемником создателей теории механизированных и танковых соединений. Триандафилов погиб в авиационной катастрофе, которую по имеющимся данным подстроил маршал РККА Тухачевский, «подметённый» во времена «великой чистки». Свечина арестовали первый раз в 1931 году. Он был уличён как активный участник ложи «Великого орла», состоявшей из бывших царских и белогвардейских офицеров, перешедших на сторону советской власти. Ложа имела целью реставрацию монархии в России. Но в 31-м году Свечина не тронули. Отпустили, восстановив в должности. До 37-го года он оставался в немалых «красных чинах» и преподавал в военной академии им. Фрунзе. Но «ежовые рукавицы» прибрали его окончательно. Но обратим внимание! Генерал Вольский – один из уцелевших в сталинской «чистке» толковых танковых командиров. В дальнейшем он командовал танковыми корпусами и армиями. Никто его не тронул. Судя по его докладу, что был написан в исчерпывающем, почти гудериановском стиле, он имел какое-то отношения к советско-германскому сотрудничеству.
Пройдя сквозь фильтрацию особого отдела, вновь приданному НКВД, Катуков получил новое назначение – командовать танковым полком при 1-ом гвардейском стрелковом корпусе. Хмыкнув, он почесал свой упрямый затылок. Слово гвардия… Чем-то старорежимно-торжественным дунуло от него! Ранее «гвардия» считалась пережитком царизма и белогвардейщины. Но нынче товарищ Сталин возродил его, как возродил другие явления: Отечество, казачество, генеральские звания.
А на фронтах бушевало. 2-я танковая группа после разгрома войск Западного фронта была повёрнута в тыл Юго-Западного фронта. Начался разгром киевской группы РККА, которая имела в своём составе до 800 танков, тысячи орудий и миномётов и многочисленные запасы. По началу Гудериан вёл себя странно: отчего-то повернул свои «ролики» в Крым. Там увяз в затяжных, кровопролитных боях за Керчь. Жуков, отстранённый Сталиным с поста начальника генштаба и разобидевшийся на того всерьёз, организовал мощный таранный удар под Ельней. Под предлогом ликвидации опасного, с его точки зрения, ельнинского выступа, могущего послужить трамплином для наступления вермахта на Москву. Потеряв до 80 000 человек убитыми и ранеными, половину танков сожженными, он сумел отбить город. Германские потери, понесённые наполовину от огня советской артиллерии, составили до 70 000 человек по советским данным и 45 000 по германским. Пикантности ради, следует уточнить, что назавершающей стадии Ельнинской операции кроме нескольких самоходных штурмовых установок настильного огня Stug 39, оборонявшие выступ пехотные дивизии вермахта не имели ни одного танка. Хотя, по воспоминаниям Гудериана, там некоторое время сражалась 10-я панцердивизия. Потеряв треть своих танков, она была отведена в тыл.
…Итак, видя бездействие русских на центральном направлении, войска Клейста и Гудериана, уничтожили киевскую группу войск. После этого, в «котельную битву» угодили пять советских армий брянского фронта. Началось наступление на московском направлении. Чего рьяно, но тщетно добивался на словах Гудериан после победы в Белоруссии. Хотел массированным ударом продвинуться в центре. «…Наша главная цель это – Москва! – считал он. – Если мы затеяли эту войну, то до первых холодов обязаны захватить русскую столицу». Тем более, что все сроки исполнения Директивы №1 имени Фридриха Барбаросса давно прошли. По этому поводу у «быстроходного Гейнца» случился нешуточный конфликт с командиром 4-й армией при группе армий «А» генерал —фельдмаршалом фон Клюге. Тот родился 30 октября 1882 в Позене (Познань) Его, как и Гудериана, связывала Польша. (Участник 1-й мировой войны. В 1935-м, в звании генерал-майора, был назначен командующим 6-м военным округом. В 1938, за поддержку генерала Вернера фон Фрича, уволен в отставку. В 1939-м фон Клюге вновь был призван на службу. Командовал 6-й армейской группой во время захвата Польского коридора. В 1940 переведен на Западный фронт.) Клюге, стараясь оправдать значение своей фамилии (Klug – умный), отослал в главное командование сухопутных сил (Oberkommando der Vermaht) свои соображения. Они полностью противоречили наступательному порыву «великого сына германского народа». Штабист фон Кейтель недвусмысленно намекнул «умному», что надо бы заткнуться. Тот продолжал гнуть свою линию. По мнению этого военного аристократа, вермахт понёс большие потери. Кроме того танковые группы не смогут форсировать успех. Даже, если осенью удастся захватить Москву и Петербург, впереди – необъятные территории. У русских – огромные людские и материальные резервы. Большая часть населения… После этого над полуседой головой фельдмаршала снова нависла тень Вернера фон Фрича.
Положение кое-как спас генерал-полковник Гудериан. Он… вызвал фон Клюге на дуэль. Без всякого серьезного повода, командующий 4-й армией был подвергнут упрёку. В вину фон Клюге ставились неверие в успех на востоке, а также медлительность действий на юге России, из-за чего полуостров Крым продолжал оставаться в руках большевиков. Их бомбардировочная стратегическая авиация наносила удары по базам снабжения и коммуникациям вермахта в Запорожье. Бомбы также сыпались на нефтепромыслы Плоешти в Румынии. Какой-то невиданный самолёт с подвешенными под крыльями истребителями, под крыльями которых были 600 грамовые бомбы, в считанные секунды разбомбил нефтепровод Констанца. Это снизило темп «роликов» и сопутствующей им техники.