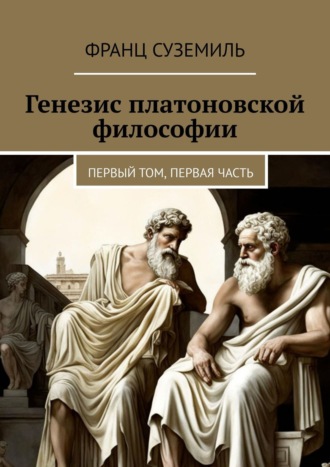
Полная версия
Генезис платоновской философии. Первый том, первая часть
В первом диалоге, p. 159A.-162C., как всегда, сразу же объявляется сократовское отнесение благоразумия к знанию, разумеется, в чисто популярной версии, что тот, кто обладает благоразумием, обязательно должен иметь и представление о его природе.43 Весь ряд приведенных в диалоге формулировок расположен в порядке возрастания. Первое из них, по этой самой причине, касается только внешнего облика, объявляя благоразумие спокойным и достойным поведением. Но оказывается, что это не является даже верным признаком, не говоря уже о сути этой добродетели, p. 159 B.-160 D.
Второе толкование, по крайней мере, уже вступает в область внутренней жизни души, но захватывает, так сказать, только естественную основу ее, инстинктивную нравственную застенчивость (αισως [айсос]), тогда как легко показать, что существует также ложная стыдливость и скромность, что это само по себе, следовательно, еще нечто нравственно безразличное, p. 160E.– 161B.
Наконец, Хармид предлагает третий, более простой взгляд. Благоразумие заключается в том, что каждый делает свое дело. Однако сразу же, даже после нескольких незначительных аргументов Сократа против него, основанных лишь на софистическом смешении этического делания, πραττειν, с техническим ποιειν, роль участника беседы переходит к Критию, который искусно вводит тот факт, что именно он является создателем этого понятия.44
Так начинается вторая часть. Очевидно, что Платон смешивает πραττειν с ποιειν только для того, чтобы призвать к разделению этих двух понятий. Но Критий, критикуя предыдущее, сам проводит последнее в такой софистической манере, что Сократ не может не вспомнить Продика, где в качестве правильного отмечается лишь то, что с совершением надлежащего мы переходим уже из общей психической в более узкую этическую сферу. Критий, однако, идет дальше, утверждая, что ποιειν постоянно распространяется только на морально добрых, p. 162 C.– 164A.
Таким образом, однако, переход к четвертой трактовке, согласно которой благоразумие – это совершение добра, оказывается надуманным. Но даже помимо этого, специфически сократовская ссылка на знание все еще отсутствует, и поэтому Сократ сразу же доказывает, что эта неясная по смыслу трактовка не обязательно включает в себя сознание благоразумного относительно своей деятельности, принятое им за необходимое в начале всей беседы, p. 159 A. В то же время он ставит ποιειν в более выгодное отношение к πραττειν: всякая форма работы основана на этическом поведении, p. 164 A. – C.
Но вместо того, чтобы развивать данное объяснение дальше, Критий без лишних слов выбрасывает его за борт и перескакивает к пятому пониманию благоразумия как самопознания, объявляя, не без глубокого смысла, хотя и с несколько неясными словами, среди надписей Дельфийского храма одну только, более древнюю, «познай самого себя делом бога, призывом к мудрости жизни, а не просто к мудрости жизни45, с. 164 С. – 165 B.
Однако теперь «Я», которое является предметом этого знания, требует точного определения. Для этого будут более подробно рассмотрены различные отношения знания к его предметам. Здесь проясняется существенный смысл предыдущих рассуждений о ποιειν и πραττειν. Ведь подобно тому, как в основе каждого ποιειν лежит πραττειν, в основе каждого πραττειν лежит знание. Соответственно, само знание либо таково, что оно каждый раз должно сначала создать свой предмет, либо этот предмет по меньшей мере внешний по отношению к нему, либо, наконец, знание имеет само себя в качестве своего предмета. А то, что это последнее относится к самопознанию, снова вводится в форму новой софистической путаницей Крития,46 в том смысле, что он превращает благоразумие из знания о себе в знание о себе, т. е. в знание знания, но на самом деле это шестое по счету определение является лишь желаемым более близким объяснением предыдущего, поскольку знание можно рассматривать только как истинное Я человека, p. 165 B. – 166 E.
О том, насколько это так, можно судить по следующим очевидным сомнениям в возможности такого самореферентного знания. Ведь утверждая, что нет ни желания, которое желает само себя, ни восприятия, которое воспринимает само себя, ни воображения, которое воображает само себя, мы тем самым обращаем внимание на существование специфического различия между знанием и всеми другими видами умственной деятельности, p. 167 A. – 168 A. Далее, однако, указывается также, по крайней мере в первых очертаниях, в чем состоит это различие. Ибо каждая деятельность имеет своим объектом лишь вполне определенную сторону вещей, например, зрение – цвет. Восприятие, чтобы воспринимать себя, должно было бы, следовательно, иметь в себе цвет и т. д., но это не так, и т. д. Если, следовательно, должно существовать знание о знании, то только знание должно нести в себе и из себя специфическую форму того, что известно, т. е., чтобы выразить это яснее, чем это удается самому Платону, оно само должно быть понятием, с. 168 D.E. Платон даже умеет противопоставить это знание, относящееся к себе как понятие, отношениям числа и величины, в которых такое отношение к себе невозможно, с. 168 В. C. Иными словами, идея знания о знании приводит его не только к психологическому отличию познающего самосознания от всех других видов умственной деятельности, но и к логическому различению абсолютных и относительных понятий.
Дальнейший вопрос Сократа, является ли такое знание, если оно возможно, хотя бы полезным, ведет теперь к точному отношению знания о знании к знанию обо всех других понятиях. Если все другие предметы, внешние по отношению к самому знанию, исключены из него, то оно не учит нас тому, что мы знаем, но из всего, что мы знаем, оно учит нас только тому, что мы это знаем; остается только голая форма и метод знания, p. 169E.– 170D. В действительности же знание всегда включает в себя свое реальное содержание, p. 170 E. – 172 B., и поэтому, делая вывод о том, что мы познаем все легче, яснее и глубже через познание знания, мы не должны не признать более глубокого смысла, что знание становится истинным знанием только благодаря тому, что оно способно дать отчет о себе, и что, с другой стороны, именно благодаря этому его предметы перестают быть внешними и чуждыми ему, p. 172 B.C.
Здесь уже заложены элементы для возвращения из формально-логической в реальную этическую область. Сократ при этом создает впечатление, что реальное содержание вышеуказанного знания еще не определено, и утверждает, что не всякое знание ведет к счастью, p. 172 D. – 174 B. Таким образом, Критий дает седьмое определение благоразумия как знания о благе.
Но сам Платон придает такое значение объяснению как знанию о знании, что называет его третьим даром или приношением в скорлупе, p. 167 A., при этом нам не нужно беспокоиться о том, что это не третье, а шестое определение; но как третий дар является приношением в скорлупе, так и здесь это шестое определение приводит к заключению и решению.47
Поэтому мы можем предположить, что и следующее объяснение находит в нем свое глубокое подтверждение, и что заключительное утверждение Крития о том, что «благоразумие – это когда знание блага направляется знанием знания, не отменяется сомнениями, выдвинутыми против него Сократом.48
На самом деле, однако, все ясно в соответствии с изложенным выше ходом развития. Если же благо является высшим предметом философии, то к его познанию можно прийти только с помощью правильного метода, а следовательно, придя к нему, человек сможет дать полный отчет и обо всех своих мыслях и поступках.49 Напротив, впоследствии становится совершенно ясно, что переход от мысли о себе к мысли о благе отнюдь не был скачком, поскольку благо – это именно собственное дело человека и что истинное самопознание состоит в самосознательном совершении блага.
Таким образом, обнаруживается, конечно, общая добродетель, а не особенность самообладания. Последняя лишь набросана в отдельных чертах, например, в том, что мы ограничиваем себя тем, что нам принадлежит, то есть тем, что мы признаем своей особой задачей в великом целом, что нам присуща та робость священного (αιδως), но теперь уже как хорошо осознанная, да и внешне она, как правило, может проявляться скорее в достойном и размеренном, чем в порывистом виде.50 Скорее, цель Платона состоит в том, чтобы стимулировать связь метода с содержанием в общем стремлении к добродетели через конкретную добродетель благоразумия.
Если бы он уже умел самостоятельно обращаться с логическим элементом, основная добродетель мудрости дала бы ему лучшую отправную точку. Однако, как и прежде, различие – это лишь путь к независимости, а для переплетения обеих сторон, которое проходит через различие, ему подошло благоразумие с его сдерживающим, регулирующим и авторитетным характером. В этом он следовал курсу Сократа, который особенно подчеркивал единство σωφρωσυνη с σοφια (Xen. Mem. III, 9, 4.) Только тенденция к определенному отличию отдельных добродетелей друг от друга и от общей добродетели присутствует максимально.
II. Значение персонажей
Критий не только иронически называет себя σοφος, с. 161 С., ср. 162 В. и 163 D., но и проявляет многие другие софистические черты, а именно: нетерпеливое тщеславие, с. 162 С. 169 С., которое даже заставляет его в свою очередь обвинять Сократа в эристической процедуре, с. 166 С., кроме того, искажение поэтических отрывков, с. 163 В., и немалое безрассудство в немедленной замене одного лишь частично опровергнутого утверждения на другое, с. 165 В.51
Но именно в этом последнем случае он проявляет хотя бы частичную склонность признать свои ошибки, хотя здесь он делает это необдуманно, и, наоборот, как раз там, где это было бы более уместно, его тщеславие не позволяет ему этого сделать. Тем не менее, определенное стремление к истине всегда налицо, его определения, замечания и возражения дышат логической проницательностью, и поэтому Сократ отнюдь не отрицает некоторые из своих взглядов прямо и бесспорно, а скорее дает им явное, хотя и сомнительное, а потому условное признание, p. 168 E. f. 170 A. 172 В. К. Таким образом, в целом он предстает здесь, как и в «Протагоре», в соответствии со своей исторической позицией, как софистический эклектик, но тот, кто часто наполняет софистику более глубокими сократическими отголосками, и его диалог с Сократом также должен рассматриваться, по крайней мере отчасти, как совместный поиск истины 51), с. 165 В. С., ср. с. 158, хотя, с другой стороны, он все же протекает без какого-либо видимого результата. Таким образом, и Критий в заключение охотно рекомендует Хармиду учение Сократа. Хотя благоразумие наивно и неразвито у Хармида, оно появляется и у него, сознательно, но почти погрязнув в странных излишествах, и только у Сократа оно реализуется полностью и всеобъемлюще.52
Наконец, Херефонт, который появляется с речью только во вступлении, кажется, введен только для того, чтобы наглядным образом показать, что подобающее достоинство и спокойствие хотя бы внешне не могут быть верным признаком благоразумия, за которое его принимает обычное мнение. Ведь эксцентричная стремительность этого человека, p. 153 B., лишь внешне подтверждает то возвышенное почитание, которое он питает к Сократу, а следовательно, и магическую силу его речей, поистине наделяющих благоразумием.
III. Связь с двумя предыдущими диалогами
Если в меньшем Гиппии добродетель раскрывается как знание блага, то в двух последующих произведениях два момента этого понятия, а именно в Лисиде – блага, в Хармиде – знания как такового, рассматриваются более пристально, там – содержание, здесь – форма знания, там – цель, здесь – средства. Ибо рассуждения здесь можно признать удовлетворительными только в том случае, если не ожидать, что тождество добродетели и знания должно быть сначала доказано, а заметить, что оно уже предполагается с самого начала, p. 159 A. – очевидно, из меньшего Гиппия – и если точно так же принять благо как высший предмет философии и, таким образом, как истинно должное и принадлежащее опять-таки из Лисида. Тогда речь идет не просто о единстве добродетели с сократовским самопознанием, единственным элементом, который Платон в этом диалоге все еще непосредственно перенимает у своего учителя; но, поскольку нет необходимости доказывать, что знание есть высшая рассудочная деятельность и самая внутренняя сущность человека, в самопознание непосредственно включается требование, чтобы знание также было способно дать отчет о себе, благодаря чему оно фактически возвышается до знания. Это теперь обязательно предполагает осознание различия между знанием и другими видами умственной деятельности, восприятием и представлением, которое состоит именно в этом самосознании знания.
Это также наделяет сократовское учение о добродетели более широкой основой: в тех, кто обладает благоразумием, не обязательно предполагается «знание», а только идея благоразумия, p. 159 A. Вырастить эти неразвитые зародыши – в» Charmides» – и, с другой стороны, подрезать пышные – в» Critias» – как раз и является задачей сократовского метода обучения.
Таким образом, все дело, по сути, сохраняет пропедевтическую, направляющую установку. Даже в своей пластической форме диалог уже более зрелый, чем «Лисий». Если в «Лисисе» среди сотрапезников Сократа находятся два юноши, едва вышедшие из подросткового возраста, и беседа обрывается в тот момент, когда Сократ хочет продолжить ее с одним из старших, то здесь он фактически продолжает начатый с юношей разговор со зрелым, прекрасно образованным человеком. Оба юноши, Лисий и Хармид, похожи друг на друга до волоска, но у Лисия в силу этой разницы в одежде более содержательная миссия; Сократ предпочитает обсуждать с ним не только элементарные, но и конкретные, внутренние аспекты искомого понятия; беседа имени него приобретает, таким образом, более богатую структуру.
Однако именно потому, что, с другой стороны, соответствующая роль отводится Менексеносу, здесь, у вашего более высокоразвитого Крития, эленктика также выходит на первый план гораздо резче, см. с. 165 B., так что дело не доходит до какого-то мнимого результата. И если Критий хотя бы дает некоторые подходы к такому результату, то тем более резко подчеркивается, что весь разговор имеет лишь формальную цель убедить Хармида в том, что только он один может научиться благоразумию у Сократа, p. 158, 175 E. ff.
Таким образом, практический облик Сократа остается неизменным, за исключением того, что он, по крайней мере, уже не ведет себя исключительно как простой вопрошатель, не просто критикует, но и критикуется Критием, p. 163, esp. p. 165 E., 174 D. E. Только из-за разницы в одежде Сократ в «Лисиде» дает двум неокрепшим мальчикам попробовать всевозможную чужую мудрость, тогда как здесь все вращается вокруг собственной мудрости Крития, когда, в соответствии с этим, Сократ там делает основные выводы, тогда как здесь используется измененная позиция собеседника, чтобы вложить в его уста результаты, которые не только выходят за рамки сократовской точки зрения, но и по форме слишком противоречат сократовскому невежеству,53 а именно знание знания, а поскольку он связывает себя с этим, то и конечный результат всего дознания. В остальном «невежество» выражено здесь, по возможности, менее резко; философствование представляется простым поиском истины, но относительное нахождение, несомненно, должно быть включено, если Хармид, несмотря на то, что ничего определенного о благоразумии еще не открыто, с такой уверенностью рекомендует учение Сократа, чтобы найти его в нем.
Лахет
I. Структура и содержание
Лахет построен точно так же, как и Хармид, и разделяет с ним непропорционально длинное вступление,54 p. 178 A. – 190 C. Лисимах и Мелесий, престарелые сыновья Аристеида и престарелого Фукидида, чувствуя свою ничтожность по сравнению со своими знаменитыми отцами, пытаются дать своим сыновьям лучшее образование и для этого советуются с двумя полководцами Никиом и Лахетом, а по наущению последнего еще и с Сократом, о ценности гопломахии55, то есть сражения в полном вооружении.
Поскольку суждения первых двух мужчин противоположны, Сократ советует им оставить решение за самым разумным и предлагает выяснить, кто из троих наиболее сведущ в искусстве воспитания и формирования добродетели, то есть прежде всего о природе добродетели, и прежде всего о храбрости, к которой предмет обсуждения имеет самое близкое отношение. Таким образом, не два юноши, а два мужчины являются предметом обсуждения.
Сократ впервые обращается к Лахету, p. 190 D.-194 C. Первое определение, которое он дает, как и в «Хармиде», связано с внешним обликом. Храбрость – это стоять на своем в бою. Но Сократ напоминает ему, что храбрым можно показать себя и с помощью замаскированного бегства, и, несомненно, это тоже относится сюда, когда сам Лахет уже напомнил нам выше о храбрости, с которой Сократ и он отступали в Делионе, сражаясь бок о бок, p. 181 A. В. В целом, однако, упоминается только частность, а не целое. Есть не только доблесть в бою, но и в других случаях, например, в умении управлять своими желаниями.
Второе объяснение, что это стойкость (φρονησις) души, снова, как и у Хармида, переводит ее от чисто внешнего к психическому поведению. Но если предыдущая трактовка была слишком узкой, то эта – слишком широкой. Необдуманное упорство достойно порицания; поэтому доблестью является только то, что связано с размышлением. Таким образом, по крайней мере, сократовский элемент знания уже привнесен и заложен фундамент исследования. Но все же слишком расплывчато. Очень многое зависит от того, на чем основано это размышление. Например, тот, кто при любых обстоятельствах решается напасть на врага только там, где вдумчивое рассмотрение убеждает его, что все внешние обстоятельства благоприятствуют ему, скорее труслив, чем храбр.56
Во второй части Никий дает определение, которое он явно отличает, p. 194 C. D., первоначально заимствованное у Сократа, что доблесть – это знание того, что страшно и чего не следует бояться. Только то, что вызывает страх, является надвигающимся злом, а то, что не вызывает страха, – надвигающимся благом. Теперь нет знания, которое учило бы только будущему в отношении своего предмета, но всякое знание учит о будущем без всяких временных различий. Соответственно, стойкость также должна быть знанием всех благ и зол, но тогда она совпадает с общей добродетелью, так что обнаруживается понятие этого, но не конкретное представление о стойкости.
II. Основная идея
Таким образом, разговор снова заканчивается, по-видимому, довольно скептически, и можно удивиться, что Платон, похоже, отвергает собственное определение храбрости своего учителя. На самом деле он лишь хочет защитить ее от последствий, которым подвергает ее относительность сократовской точки зрения. Ведь таким образом в ней можно было бы найти и учет внешних преимуществ, отвергнутый выше как недостаточный. Именно на это нацелен аргумент Никия о том, что важны не физические блага и пороки, а только истинное лучшее в человеке, p. 195—196 A. Таким образом, сократовское определение восходит к абсолютному образцу высшего блага, полученному в «Лисиде».
И если, с другой стороны, таким образом обнаруживается только общая добродетель, возникает вопрос, не является ли целью диалога на самом деле именно приведение понятия храбрости к общему понятию добродетели посредством анализа понятия храбрости, т. е. различий между отдельными добродетелями в целом, однако если храбрость можно назвать добродетелью в ее отношении к будущему, представить ее несущественной, но в особенности опровергнуть обычное представление о отдельно существующих добродетелях, то, скорее, тот, кто обладает одной из них в самом высоком смысле, тем самым непосредственно несет в себе и все остальные.
Ошибка Никия состоит лишь в том, что он не осознает всей полноты применяемого им образца и что добродетель, тем не менее, распадается для него на множество отдельных добродетелей, что он, таким образом, снова отступает на точку зрения простого рассудочного расчета конкретных благ и зол и упускает из виду, что их познание уже непосредственно связано с познанием высшего блага, поскольку только это делает их тем, чем они являются.
Теперь, если различие добродетелей, которое все же проявляется, не лежит в природе предмета добродетели, оно может быть обусловлено только различием субъективностей, несовершенством способа присвоения, непобедимым различием природных склонностей и недостатком воспитательного процесса. В этом случае, однако, легко показать, что даже конкретная добродетель, зафиксированная как таковая, проявляется таким образом лишь односторонне и несовершенно.
Таким образом, это даже вторая односторонность Никия, благодаря которой получается тот неудовлетворительный результат, что он сам лишил почвы отличительные особенности доблести, поскольку он со своей стороны полностью отбрасывает практический элемент мужества и энергии, который χαρτερια у Лахета – опять-таки односторонне – возник. Как бы Сократ ни соглашался с ним, когда он отрицает храбрость животных и наделяет их грубой храбростью (θρασυτης), p. 196 f., это согласие, p. 197 1), все же содержит ироническую примесь, поскольку это различие между понятиями восходит к софисту Дамону, другу Никия, а от него – к его собрату по уму Продику. Хармид, p. 163 D., также предлагает параллель с этим. Этот элемент действительно является общим для человека и животных, но, направляемый правильным знанием, он приобретает более высокое значение.
Соответственно, в двух полководцах, по сути, проявляется лишь противоположная односторонность: в Лахете – бешеная энергия, в Никии – обдуманное благоразумие, пусть и пронизанное предчувствиями чего-то высшего, и лишь в Сократе – высшая мудрость, которая несет в себе эти две противоположные склонности как отстраненные и подчиненные моменты,57 которая готова рискнуть всем ради высших благ жизни с решимостью Лахета, не теряя благоразумного спокойствия Никия, словом, ту всестороннюю гармонию жизни и учения, которую восхваляет в нем Лахет, с. 188 C.– 189 C.
И если из заключительных слов диалога может показаться, что Сократу также не хватало этого высшего знания, поскольку он замечает, в соответствии со столь неудовлетворительным результатом поиска, что все они оказались невежественными в отношении природы храбрости и сами нуждаются в учителях, p.200 E. f., то здесь кроется лишь характерная черта сократовского обучения, совместный поиск истины со своими учениками. И Сократ объявляет себя готовым к этому учению не только для молодых, но и для стариков и мужчин, и при обстоятельствах, очень похожих на обстоятельства Крития в» Хармиде», Лахеде рекомендует здесь это учение, как бы безуспешно оно ни было, с. 200 С.
Если, таким образом, беседа имеет уклон в сторону общей добродетели, то из этого следует, что речь идет о правильном знании в целом, которое здесь выводится на первый план по контрасту со всеми другими, односторонне теоретическими или практическими уклонами. Таким образом, прежде всего в противовес софистическому иллюзорному знанию, которое не держится, когда наступает реальный момент действия. Реальным представителем этого является гопломахия Стесилея, которая только что произвела свои достижения, так что нелепая история, которую Лахес рассказывает о его неудачном поединке с серповидным копьем, p. 183 C.-184 A., отнюдь не лишена смысла,58 а скорее удивительно контрастирует с описанием храбрости Сократа в «Делионе» того же Лахета; но есть и более общий намек на софистику как самонадеянного учителя добродетели, p. 186 C.
Таким образом, в противовес бессодержательному практицизму и чисто эмпирическому образованию, к которому Лахет относится с большой похвалой, но недостаток которого достаточно ярко проявляется в том, что Аристеид и старший Фукидид не позаботились даже о следующем, а именно о воспитании своих сыновей, а также в том, что само это направление несет в себе ощущение его недостатка, что видно не только по Лахету, многократно ставящему себя в этом отношении позади Сократа и не гнушающемуся учиться у него, p. 200 C., 189 А. В., но даже в двух скупых стариках, которые, по крайней мере, хотят восполнить то, что они упустили в своих сыновьях, хотя, однако, сама их скудость подвергает их опасности быть обманутыми напыщенной мнимой мудростью и прибегнуть ко всякого рода современным воспитательным хитростям,59 в то время как они упускают из виду истинную помощь, которая так близка к ним, в то время как они знают Сократа только понаслышке, хотя он сосед Лисимаха и сын его самого близкого друга; тогда как образованная молодежь – в своих сыновьях – уже гораздо больше знает о том, как правильно поступить, p. 180 E.f. И, в-третьих, в противовес современному неполному образованию, которое без тщательного изучения своего собственного питается в равной степени как софистическими, так и сократовскими воспоминаниями, не будучи в состоянии их систематически обработать по этой самой причине. Это направление представляет Никий (см. с. 194 D. 197 D. cf.200 B.,60 который, таким образом, также принимает сторону более здравых взглядов Лахета в пользу гопломахии, хотя бы потому, что она является продуктом современного образования. Как мы видели, Никий и Лахет, как персонажи диалога, изначально относятся к непосредственному предмету обсуждения, храбрости, и поэтому являются здесь фактическими собеседниками Сократа.

