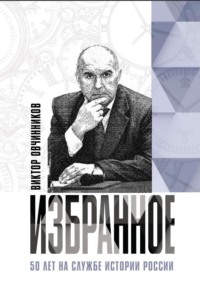Полная версия
Риза Господня
Палач посылал сподручного, глухонемого монаха Иосифа за Патриархом только тогда, когда узник, утратив волю и силы, сам изъявлял желание говорить пыточные речи, когда их уже не нужно было больше доискиваться.
Филарет без труда определил, что пытчику пришлось долго повозиться с казаком Иваном Кривцовым, так как только к утру ему стражник доложил, что монах Иосиф просит пожаловать в застенки.
– Владыка, – он все вам расскажет, – кивнув в сторону Ивана Кривцова и поднимая с пола железный щуп, шепотом, чтобы слышал его только Филарет, произнес палач. Казак весь обмяк и почти без признаков жизни висел на кованой цепи, свисающей с высокого свода подвала. Алфимов подхватил его под руки, а монах Иосиф в один миг расстегнул широкие бронзовые браслеты на запястьях Кривцова. Словно не человека в центнер веса, а обычную дубовую плаху, похожую на ту, что одиноко лежала возле стены в ожидании очередной жертвы, пытчик прижал казака к правому бедру и потащил к громоздкому квадратному дубовому столу с вкопанными в пол ножками. Подвинув ловко ногой скамью, палач усадил на нее Кривцова, поправил туловище и ноги. Голова казака медленно опустилась на стол. Дождавшись момента, Иосиф проворно вставил обе руки Ивана Кривцова в специально устроенную на столе колоду и защелкнул ее на запястьях. После чего палач зачерпнул ведром из деревянного корыта воду и со всего маху вылил на измученное тело казака. Чуть поодаль стола он поставил точеный табурет и постелил на него белый рушник. Патриарх не ждал от Алфимова ни знаков уважения, ни какого-то подобострастия. Тот, зная нрав Филарета, и понимая спешность и важность дела, толкнул Иосифа, давая понять, что следует покинуть пыточную. Оба они направились в соседнюю комнату. Дверь закрылась. Патриарх остался с казаком с глазу на глаз. Владыка не чувствовал усталости в ногах и начал допрос не присаживаясь.

– Тьма в твоей душе, раб Божий, свет ей нужен, избавление от преступного знания, – Филарет внимательно посмотрел на измученного казака и, убедившись, что тот уже почти оправился от нестерпимой боли во время недавних пыток и черные как уголь глаза его ожили и с заинтересованностью скользят по нему с головы до пят, решил сразу же перейти к главной теме, которая имела для Патриарха важное значение.
– Был ли ты, Ивашка, вместе с послом иранским у воеводы белгородского Абросима Лодыженского? – Этот вопрос здесь, в подземелье, Кривцов услышал в первый раз. Пытчик все добивался, по доброй ли воле он казак в плен к татарам сдался и зачем служить персу согласился? Доискивался, что слышал он дурного в разговорах Урусамбека о молодом царе и Патриархе, и главное, с чего вдруг он, отпущенный послом в Москве на все четыре стороны, опять тому понадобился?
Кривцову нечего было скрывать и отвечал он честно, не лукавя, что сражался храбро с татарами, что даже думает золотого достоин, а в плен попал потому, что пятеро врагов на него раненого накинулись, не смог их осилить, да и отряд белгородских казаков не вовремя отступил. Об Урусамбеке Кривцов говорил только хорошие слова в том роде, что он хоть и не нашей веры, но больше скорей христианин, чем магометанин, что о царе и Патриархе перс отзывался уважительно. А вот зачем он понадобился послу Шах-Аббаса, не ведает. Многократно его пытчик истязал, последний раз раскаленным щупом по спине и груди катал. Но он, Кривцов, стоял на своем.
Казак чувствовал в душе смятенье. Он обещал пытчику всю правду сказать, но в чем эта правда состоит он себе до последней минуты не представлял. Ивана интересовало, почему этот старик, то ли воевода, то ли боярин совсем о другом пытает. В какой-то миг к Кривцову пришло осознание того, что обмануть или провести ему этого сурового, с тяжелым, неприветливым взглядом вельможу не удастся. И тогда Иван решил – будь что будет. Освобождение свое из плена он оплатил персу сполна, даже многократно, и если этот старик сейчас из расспроса не выудит то, что ему надо, то не прожить ему, Ивану Кривцову, до следующего утра.
Филарет зорко наблюдал за пленником, ясно видел, как мучительно размышляет над его вопросом и над дальнейшей своей судьбой этот крепкий, сильный русский мужик. Ему было очевидно, что казак стал невольным заложником событий и готов любой ценой выбраться из этой переделки. Патриарх заметил, что Ивашка Алфимов поработал хорошо. У казачка появился и страх, и осознанье, что ему самому надо себя спасать. Владыка спокойно и терпеливо изучал этого человека, которому смолоду выпала доля воевать в самой страшной и изнурительной, не прекращающейся ни на день войне, без линий фронта, армий, наступлений и отступлений, передышек, без каких-то правил в отношении мирных жителей, раненых, пленных и убитых. Патриарх был хорошо осведомлен о том, как медленно, шаг за шагом продвигались служилые люди на юг, как раз за разом надо было казне выделять огромные средства на строительство новых крепостей, на восстановление разрушенных и сожженных татарами, поляками и литовцами городов, на пополнение гарнизонов окраинных застав. Совсем недавно вместе с государем он обсуждал программу строительства новых крепостей на юге, которые с валами должны будут составить новую оборонительную черту. Они еще не решили, какой город станет главным, сколько и каких крепостей нужно. Но было понятно, что без трех-четырех десятков вновь построенных городов-воинов Белгороду, Валуйкам и Осколу не справиться. Тот же Белгород в прошлом 1624 году не устоял, сожгли поляки и литовцы большой острог, разграбили уезд и всю округу. Тут же Патриарх с удовлетворением отметил про себя, что его заботами белгородский воевода Абросим Иванович Лодыженский восстанавливает Николаевский мужской монастырь – форпост русской веры на юге, верного помощника в делах государственных, глаза и уши в беспокойном крае.
Филарет высоко ценил служилых людей в этих крепостях. Они умели воевать, когда враг был и перед лицом, и в тылу, и с флангов. Злой, лютый, коварный враг непрерывно жег крепости, разорял села, грабил, убивал, насиловал, захватывал в плен. Русский человек, противостоящий этому противнику, был на вес золота. Владыка не сомневался, что и этот детина, чем-то похожий на летописного богатыря, был из такой породы людей. Именно для того, чтобы вот таким людям воевать было легче и задумали они с царем Михаилом большой полк в тех землях образовать, да только денег в казне на его создание пока не имеется. Размышления Филарета прервал приглушенный, с легкой хрипотцой голос измученного пленника:
– Мне, мил человек, скрывать нечего. Вины за мной никакой нет. Перса этого к воеводе Лодыженскому я сопровождал, это правда, – Кривцов перевел дыхание, откашлялся. Попытался хоть как-то поменять положение отекших рук в намертво обхватывающих запястья колодках. Усилия были напрасны. Для убедительности своего ответа добавил: – Да, я не только с ним у воеводы был. Он всю крепость осматривал, в торговых рядах прохаживался не раз, в храмах был. Как-никак целую неделю посольство его отдыхало, к последнему переходу в Москву готовилось, провиант по всей округе скупали. В Белгороде и магометан немало, торгуют, разными ремеслами владеют. Так он и с ними беседы вел.
Казак заметил, что незнакомого старца его ответ удовлетворил
– И о чем же, как ты говоришь, вел беседу Абросим Иванович с этим Урусамбеком? – поинтересовался Филарет. Он хорошо знал этого храброго воеводу, которого в прошлом году они с царем назначили в Белгород. В то же время Владыка понимал, что Лодыженский, хоть и был человек честный и верный, мало, что смыслил в делах посольских и, по простоте своей, не мог правильно оценить поведение иранского посла. Филарет не видел ничего плохого в том, что воевода с участием отнесся к трудностям, с которыми в Белгороде столкнулось персидское посольство. Он не корил Лодыженского за скупые сообщения об отбытии иранского посла из Белгорода в Москву. Воевода больше был человек военный, нежели муж государственный. Однако нельзя было сбрасывать со счетов то обстоятельство, что перед самым прибытием персидского посла в Белгород его покинули картлийские и кахетинские посланники. Их воевода принимал, а значит, от них узнал, что он, Филарет и государь не поддержали их призывы к войне с Шах-Аббасом, отклонили просьбы о присоединении грузинских царств и княжеств к Московскому государству. Сумел Лодыженский умолчать об этом при разговоре с персом или по неопытности сболтнул чего лишнего? Именно это больше всего и интересовало Филарета. Но допрос вдруг принял совсем другой оборот.
– Да о разном, – после некоторой паузы ответил казак. – Вот, например, посол одну историю рассказал, она мне очень понравилась, потому как я человек русский, христианин. Люблю я всякие сказания о чудесах слушать, а особенно люблю церковное песнопение. Сам пою знатно, могу спеть, – Кривцов вопрошающе взглянул на Патриарха. Заметив, что грозному пытчику его предложение не понравилось, спросил:
– Ну, так что, эту историю пересказывать или нет? Память у меня, слава Богу, отменная.
Филарет кивнул головой, мол, давай, рассказывай. Медленно отошел в глубь комнаты, сел на табурет. Затем потянулся чуть в сторону, взял кафтан Алфимова и накинул его на плечи.
В помещении было прохладно, но совсем голый Иван, Федоров сын из служилого рода Кривцовых, этого не замечал. Ему приходилось даже в лютые морозы легко одетым совершать многодневные переходы. Сейчас он чувствовал, что ухватил удачу за хвост, что теперь ему главное не сплоховать. Старик Кривцову казался человеком основательным, благородным, знающим в людях толк и умеющим отблагодарить.
– Может из-за этой истории меня мучаете, – подбадривая себя начал рассказ Кривцов. –В ту встречу Абросим Иванович все расспрашивал Урусамбека о татарах. Особо воеводу интересовало, много ли у татар живого русского товара. Уж очень он был озабочен тем, что за последний год обезлюдела округа, что повсюду под видом торговцев снуют татарские лазутчики, все выведывают, выискивают. А затем собираются в обозначенных местах, вооружаются и как голодные волки нападают на белгородские селения, чинят разорения, несут смерть, грабят. Тогда-то иранский посол и говорит, что не нужны, мол, Московскому государству новые друзья. Что так и так, старый друг лучше новых двух. Что Московскому государю и Патриарху надо дружить с Шах-Аббасом, и что везет он в Москву такой подарок, который даст силу Московскому государству, защитит его от многочисленных врагов. И поведал он Абросиму Ивановичу, что ковчег золотой у него в сундуке есть, а в ковчеге Риза Господа нашего Иисуса Христа. Воевода Лодыженский согласился с послом, что подарок ценный, да только вот интересно, в чем его сила может быть в военном отношении? Урусамбек тогда и рассказал, как много веков назад, за век до того, как вся Русь крещена была в христианскую веру, собралась огромная армия руссов, аваров и сарацин во главе с князьями, киевскими царями-христианами Аскольдом и Диром у Царьграда-Константинополя, – Кривцов, сделал паузу и перевел дыхание. В горле пересохло. Он взглянул на старика. Но тот не шелохнулся. Иван безошибочно определил, что знатный боярин этой истории никогда не слышал. Старца выдали вспыхнувшие зрачки глаз и заострившийся нос. Где-то в глубине гортани казак отыскал капельку слюны, бережно ее потянул на язык и приложил его к нёбу. На какое-то время ощущение жажды и сухости во рту исчезло. Он вновь заговорил:
– В то время правил тем государством император, которого звали как нашего государя Михаилом. И надо же было случиться – такая удача князьям нашим. Михаил с большим войском и флотом в походе оказался. Думают тем временем Аскольд и Дир сколько они добра возьмут, решают, как делить добычу будут. А правда-то не на их стороне. Против христианской страны идти войной, христиан убивать, да храмы жечь! Это же значит, брат идет на брата. Ясно, дело противное Богу, так ведь? – Кривцов все еще надеялся вызвать хоть какую-то реакцию старца. Но тот только очередным кивком головы призвал того продолжать.
Иван с минуту поразмышлял, как получше-то о главном чуде рассказать. Затем тяжело вздохнул и с твердой решимостью заговорил:
– Когда в осаде Царьград оказался, и, казалось, еще чуть-чуть и падет светоч христианский, пробрался император Михаил в Константинополь и прямо к Патриарху Фотию за советом. А Фотий этот мудрец был знатный, не сказал царю что задумал. Собрал Патриарх богомольцев и стал просить Спасителя вразумить его. Господь и надоумил его взять из древнего Влахернского храма Ризу Пресвятой Богородицы и с нею крестным ходом обойти весь город. Так Фотий и сделал. Господь наш Иисус Христос и Пресвятая Богородица хранили Фотия и его братию от тьмы стрел и копий. Свершив крестный ход, Фотий опустил край Ризы Пресвятой Богородицы в воды морского залива, и случилось чудо. Пришло Царьграду спасение. В природе все силы разбушевались, озлобились они на христиан Аскольда и Дира за то, что заповеди христианские нарушили. Буря разметала войска руссов, потопила корабли, а оставшиеся руссы, авары и сарацины ума лишились, друг друга стали убивать. Немногие спаслись с Аскольдом и Диром. Вот такая история. – Переведя дух, Иван добавил: – Закончив этот рассказ, Урусамбек поинтересовался, что думает обо всем этом воевода, оценит ли государь и Патриарх то, что Шах-Аббас в дар им шлет Ризу Господню, в которой Иисус был одет перед распятием.
Кривцов замолчал. Он наблюдал за тем, как Филарет, не сказав ни слова, встал, подошел к двери, позвал пытчика и тихо о чем-то распорядился. Алфимов с чувством полного безразличия взглянул на казака, взял с пола черпак, зачерпнул им воды из ведра, которое стояло чуть поодаль плахи, и поднес ко рту Кривцова. Тот сделал несколько жадных глотков, про себя заметив, что видать слишком уж важный вельможа его пытает, если даже воды ему дать напиться посчитал для себя зазорным.
– Ну хватит, – властно сказал пытчик и поставил черпак с остатками воды рядом на стол. – Бог даст, еще напьешься своей белоколодезной водицы. Случалось и мне ее пить в Белгороде. – Последние несколько слов пытчик произнес уже на пороге. Дверь закрылась, и Кривцов вновь оказался один на один со старцем. За то время, как казак пил воду, тот уселся снова на табурет и на этот раз укрыв кафтаном ноги.
Филарет, заметив, что казак собрался с силами, спросил:
–Ну и что на вопрос посла ответил Абросим Иванович?
Кривцов, не раздумывая, ответил:
– Воевода? А что ему! Человек он, мне кажется, хотя и богобоязненный, другими делами озабоченный в тот момент был. Он только и сказал, что Государь и Патриарх трудятся не покладая рук, чтобы Москву вторым Царьградом устроить. В нее святыни христианские собирают, народ уму разуму учат. Абросим Иванович еще сказал, что Московскому государству ой как надо заступничество Спасителя и Пресвятой Богородицы, что нечисть всякая к нам лезет из всех щелей, со всех сторон, с разных концов. И подытожил, в Москве, мол, по достоинству оценят подарок Шах-Аббаса – Ризу Господню.
– Историю ты мне знатную рассказал, – заметил с такой же твердостью в голосе, как и в начале допроса Филарет. – Ну а о чем они еще разговаривали, может что еще воевода Лодыженский послу рассказывал?
Кривцов чувствовал каждой клеточкой своего обнаженного тела, что задел боярина за живое. Он мучительно вспоминал, что же еще говорили друг другу посол и воевода. И вдруг его осенило. Урусамбека, его спасителя и одновременно виновника ивановых страданий, Грузинцем еще телохранители между собой называли. А Абросим Иванович спросил тогда, откуда у него такое прозвище. Посол же объяснил, что он родом из Картлийского царства, грузин, только вот веру другую принял и служит Шах-Аббасу. Вспомнив этот факт, казак воскресил в памяти и то, что после этого сказал послу воевода. Как только в сознании Кривцова возникла эта картина прошлого, он тут же с опаской обратился к пытчику:
– Вспомнил я, боярин или как там тебя еще величают, вспомнил! Может именно это тебе и нужно. Этого посла Урусамбека еще Грузинцем называют. Так вот, когда он Лодыженскому рассказал о своих грузинских корнях, Абросим Иванович ему между прочим сообщил, что совсем недавно несколько дней в Белгороде провели картлийские и кахетинские князья. А были они у самих Государя и Патриарха. Искали покровительства, хотели к Московскому государству присоединиться. Да только отказано им в этой просьбе было.
Казак умолк. Силы его покидали быстро. Голова Ивана сначала качнулась назад, потом медленно опустилась на стол. В следующий миг Кривцов потерял сознание. Упасть на пол не позволяли накрепко удерживаемые в колоде обе руки.
Филарету от казака не нужно было больше ничего. Все, что хотел разузнать Святейший, он выведал. Владыка позвал Алфимова. Тот зашел в помещение. Ему было достаточно одного взгляда на Кривцова, чтобы определить, что тот полностью обессилел. Пытчик аккуратно взял из рук Филарета свой кафтан. Патриарх с трудом встал с табурета, задумчиво посмотрел на Кривцова и заметил:
– Оклемается, казачок, обязательно оклемается. Богатырь, одной с тобой породы, –Патриарх похлопал пытчика по железным плечам. Алфимов почувствовал, что Святейший доволен его работой. Сделав паузу, Владыка добавил: – Казака оденьте и накормите. Да оденьте по чину человека служилого! До моего особого распоряжения его содержать в застенках Ивана Васильевича Чернышева, с должным вниманием.
Резкий стук в дверь оторвал Патриарха от размышлений над тем, что с ним произошло в ранние утренние часы. Дверь открылась, и на пороге появился Государь – сын Михаил. За ним, в полумраке были едва различимы силуэты князя Ивана Васильевича Чернышева и монаха Иллариона.
Глава четвертая
Чем был озабочен князь Василий Васильевич Голицын в морозное мартовское утро? Почему он разгневался на конюшего Семена Кольцова? Какие события заставили князя побеспокоиться о безопасности своей семьи и зачем он отправил сестру Наталью к князю Ивану Васильевичу Чернышеву, а сам устремился искать встречи с патриархом Филаретом? Об этом и многом другом читатель узнает, прочитав эту главу.
В легком, без овчинной подкладки сером кафтане Семен Кольцов, конюший князя Василия Васильевича Голицына, выглядел таким же молодым и стройным, как и хозяин. Коренастый, проворный, Семен, недавно перешагнув двадцатипятилетний возраст, ежесекундно совершал какое-то движение – либо растирал одну ладонь о другую, либо пританцовывал, не давая покоя ногам, либо беспрерывно искал какое-то место на затылке или лбу, чтобы его почесать. Но физические движения не шли ни в какое сравнение с изменениями зрачков глаз, гримасами лица и другими только ему присущими жестами.
Главный конюх Голицыных всеми качествами своего характера был похож на беспокойную пчелу, занятую от восхода солнца и до заката полезным делом, мучающуюся, если в непогоду надо было отсиживаться в улье, и с восторгом воспринимающую заботливые руки пасечника, бережно осматривающего творения пчелиной семьи.
Многочисленные телодвижения с детства вошли в привычку, и Семен их уже не замечал и не придавал им какого-то особого значения. Но в общении с людьми такая внешняя беспокойность приносила ему скорее вред, чем пользу. Вступая с ним в разговор, кто бы он ни был, так и не мог понять до конца, когда конюх говорит да, а когда нет, когда он с чем-то согласен, а когда категорически возражает. В отдельные моменты он больше походил на выходца из каких-то далеких земель, с непонятными и странными обычаями общения, нежели на простого тульского мужика, взятого на службу из крестьян.
Кольцов был из того круга крепостных, которые еще совсем недавно числились вольными людьми и не утратили желания и рвения служить. Из своего незамысловатого ремесла он, хотя был молод и недостаточно опытен, немало извлек пользы благодаря прилежности и старательности. Вороные и гнедые жеребцы, любимцы князя, были окружены такой заботой, которую дородная нянька только и проявляет о своих воспитанниках. Кареты, повозки, сани, телеги выглядели как добросовестно вычищенные хозяйкой чугуны и кувшины. В конюшнях он и дворовые поддерживали чистоту и порядок. За такое радение о порученном деле Семен не раз слышал похвалу князя Василия Васильевича, и в душе этот ухватистый трудолюбивый мужик ценил благосклонность и внимание к нему хозяина.
Семен уже несколько минут стоял перед князем с опущенной головой и раздумывал, как ему объяснить происшествие, которое случилось вчера на Китайгородском мосту.
Красавец князь годом был его моложе. Последние шесть лет, после смерти отца, он вел замкнутый образ жизни. Сын знатного боярина стал невольной жертвой заговоров и интриг своего отца – Василия Васильевича Голицына, прославившегося активным участием во всех самых ярких и трагических событиях времен смуты. Этот влиятельный вельможа отрекся от царя Бориса Годунова и присягнул царю Дмитрию Первому (Лжедмитрию I). Позже, распознав обман, Василий Васильевич участвовал в заговоре против Лжедмитрия I, а затем и в заговоре против Василия Шуйского. События тех времен не стерлись из памяти царского окружения и московского боярства. Молодому Голицыну не могли простить того, что отца в смутные времена многие бояре побаивались и по его вине пострадали, завидовали, что старший Голицын был одним из упорных и настойчивых претендентов на русский трон в 1606 и 1610 годах. Особый грех отца усматривался в том, что он стал активным участником «семибоярщины». Московский люд так и не простил его, даже после того, как князь оказался сначала в составе Великого посольства к польскому королю Сигизмунду III, а затем вместе с Филаретом, митрополитом Ростовским невольным пленником у поляков. Ни мучения, ни страдания, ни тяготы во имя сохранения Московского государства москвичами не принимались в оплату старых измен и политических ошибок. С тем князь, боярин и воевода Василий Васильевич Голицын, имевший реальную возможность зачать новую династию – Голицыных в Московском государстве, и умер в 1619 году в польском плену, завещая сыну Василию верой и правдой служить царю и главное, искупить его, немалую вину перед русским народом.
Младшему Голицыну от отца передалась крупная кость, красивое мужское лицо и густые русые волосы. Он, так же как и отец, был открыт в общении, не отводил взгляда от собеседника, очень редко прищуривался, и от этого большие карие глаза превращались в самое драгоценное украшение его лица. Аккуратно подстриженные волосы, борода и усы хотя и делали его лет на пять-семь старше, придавали всему его облику основательность и благородство. В темно-коричневом кафтане, с отделкой из зеленого бархата на воротнике и рукавах, в черных, с синеватым отливом кожаных сапогах, он напоминал вековой дуб в расцвете лет, глубоко вросший в землю и устремленный распустившейся кроной к небесам.
Князь стоял, прижавшись к стене у слегка запотевшего окна, отодвинув правой рукой в сторону вышитую занавеску. Он с любовью и интересом наблюдал, как резвятся его младшие братья и сестры. В свободные от занятий с учителями и воспитателями часы детвору невозможно было удержать в палатах. И в этот раз, девятнадцатилетняя сестра Наталья вместе с многочисленными дворовыми тетками и во главе с властной и строгой матерью- княгиней немало сил потратила, чтобы собрать детей. Теперь они, тепло одетые и укутанные шарфами, не обращая внимания на крепкий мороз и непрекращающуюся метель, без устали карабкались на вершину ледяной горки, и кто стоя, кто сидя, кто лежа неслись по накатанной дорожке вниз, прямо до главных ворот, которые были единственным выходом в город из голицынских палат, чем-то похожих на деревянную крепостцу, состоящую из шести больших двухэтажных теремов, соединенных в периметре закрытыми верандами, опирающимися на мощные дубовые столбы-колонны, с внешней части срубленные один к другому так, что образовывали неприступную стену.
Еще в декабре князь распорядился построить для ребятни из снега крепость и горку. Время от времени эти незатейливые строения подправлялись, и выпавший многократно в январе и феврале снег дал возможность эти сооружения укрепить и увеличить в размерах. Наталья вместе с братьями и сестрами немало воды наносила во двор и вылила на рукотворные крепость и горку, что те, обледенев, в солнечный день выглядели как искусно вырубленные мастером из огромных кусков льда. Солнце и ветер довершили работу мастеров, придав ледяному городку сказочный вид.
Княжна Наталья, несмотря на свое совершеннолетие, не отставала от младших, забавлялась как ребенок, и брат не мог на нее нарадоваться. Хорошее настроение князя не омрачило вчерашнее известие о пропаже его тройки лошадей с коренным жеребцом Хмурым и зимней кареты. Недобрую весть ему принесли сестра Наталья и конюший Семен. Из короткого рассказа сестры Василий узнал, что с утра она вместе со служанкой и в сопровождении конюшего отправилась в торговые ряды, чтобы купить детям сладости да выведать, не привезли ли купцы оскольского вырезуба, которого запеченным с грибами очень любил князь и предпочитал другим благородным видам рыб. Вырезуб был в изобилии и оказался на редкость крупным и жирным. Наталья решила закупить серебряных речных красавцев впрок полную двухведерную корзину. Послав служанку за Семеном, сама направилась за баранками и пряниками. Вскоре, возвратившись к выездным столбам у постоялого двора, княжна увидела бледного и испуганного конюшего, причитающую на всю округу служанку Варвару и чуть поодаль – корзину отборного вырезуба. Ни тройки, ни кареты нигде не было. Расстроенный и обескураженный Семен рассказал княжне, что за те несколько минут, на которые он отлучился по ее приказу, двое незнакомых мужчин отвязали лошадей, сели в карету и скрылись в неизвестном направлении.