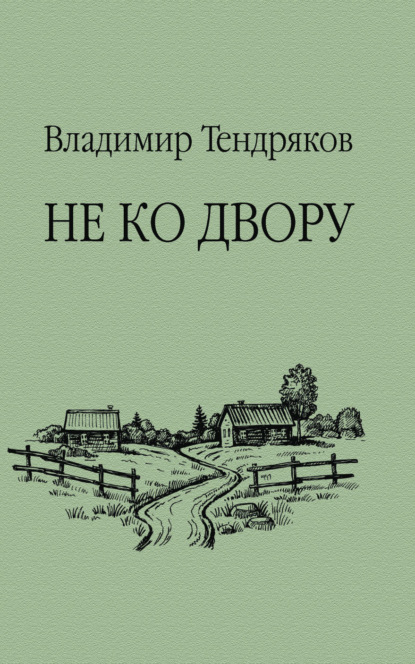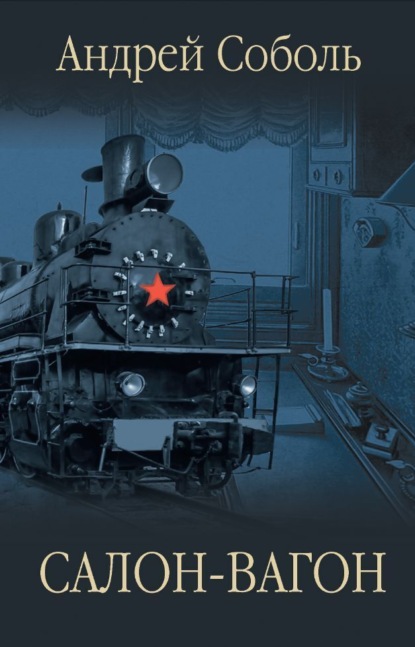Полная версия
Ленинградские рассказы
Для прикрытия отхода отправлен пулемет со штабс-ротмистром Волковицким и взвод прапорщика фон Фельдман (3 эскадрона). Как стало известно впоследствии, последние не смогли присоединиться к полку и, прорвавшись под сильным ружейным и пулеметным огнем у мызы Роденпойс, присоединились к штабу дивизии. Кроме того, отсутствуют: разъезд поручика Розанова, 3 взвода 2 эскадрона, стоявшие на заставах (один взвод присоединился) и разъезд корнета Зелинского. Дойдя к 17 час. 30 м. до перекрестка дорог на Хинценберг и на Аллаж (у мызы Плануп), наткнулись на отходящую колонну обозов: при нашем появлении среди обозов поднялась неописуемая паника: раздались крики «Кавалерия», и все это понеслось вскачь по дороге. Командир полка приказал спешиться в резервной колонне лицом к неприятелю, и при деятельном участии офицеров и драгун был восстановлен порядок среди обозов. Выставлены 2 поста: от 1-го эскадрона вперед на дорогу к церкви Св. Николая за мостик, и от 3-го эскадрона на дорогу на Роденпойс (откуда пришел полк). Начальник штаба 186-й дивизии подошел к командиру полка и попросил не уходить, а пропустить дивизию, которая, несмотря на 2-дневный отдых, абсолютно небоеспособна, и единственное, что от нее можно требовать, это отход без паники. Присоединился разъезд корнета Зелинского. Полк, пропустив 186 дивизию, в 22 ч. 30 м. продолжает отход на Аллаж, вместе с присоединившимися 2-мя эскадронами О.К.Ш., которые пошли в голове. У Корчмы Булле части полка остановились на ночлег (в 23 ч. 30 м.). За бой 21 августа у мызы Роденпойс ранены драгуны 2 эскадрона Иван Шнейдер, Никитин, Иван Виллевальд, у церкви Св. Николая 3 эскадрона Семен Шиков, Иван Агафонов.
22 августа в 13 час. Командир полка вызван в мызу Аллаж к генералу Болдыреву (командиру 43-го корпуса) и получил от него следующее приказание: «Отряду полковника кн. Гагарина в составе: 2 1/2 эскадронов нашего полка при 1 пулемете Максима и 3-х ружейных пулеметах, 2-х эскадронов полка О.К.Ш. занять перекресток дорог на Хинценберг и Аллаж у мызы Плануп и держать его до приказания; отряду войти под общее командование командира 1-й бригады 5-й кавалерийской дивизии генерал-майора Коленкина с эскадроном Каргопольского драгунского полка. Подойдя около 6 час. к мызе Плануп, командир полка приказал занять западную оконечность ее 1-м эскадроном полка О.К.Ш. и 4 эскадроном 20-го драгунского Финляндского полка, а южную оконечность 1-му эскадрону и по взводу 2-го и 3-го эскадрона нашего полка. В резерве генерала Коленкина был эскадрон полка О.К.Ш. и эскадрон 5-го драгунского Каргопольского полка. В скорости по занятии позиции и высылке разведки противник предпринял наступление: сперва с юга, а по отбитии этого наступления огнем, с юго-запада, ведя все время сильный ружейный и пулеметный огонь. По отбитии наступления, убедившись в стойкости наших эскадронов, в 10 час. противник начал подготовку артиллерийским огнем, сперва одной легкой батареей, а затем в подготовке приняли участие еще 2 тяжелые батареи, стрелявшие одна с юга, а другая с юго-запада. К 12 час. огонь батарей превратился в ураганный: от 11 час. 48 м. до 12 час. было выпущено 132 снаряда, а всего около 500 снарядов. Снаряды рвались сзади цепей и в районе коноводов, которых пришлось отвести на 1/4 версты назад. В 12 час. 15 мин. противник повел наступление, которое снова было отбито, после чего артиллерия продолжала поддерживать редкий огонь. Около 14 час. генерал-майор Коленкин приказал полку очистить мызу Плануп, что и было исполнено, отходя поэскадронно – 4-й эскадрон был в арьергарде. За этот бой контужены: поручик Суна и корнет Крылов, ранены: драгун Яков Тушин (4-й эскадрон), младший унтер-офицер Петров (4-й эскадрон), драгун Василий Чипалов. Контужены драгуны пулеметной команды: Иван Чирков, Василий Филиппов и Богачев.
Дойдя до Корчмы, отряд по приказу генерала Коленкина остановился. Задача была выполнена и войскам корпуса удалось отойти к Хинценбергу. В 15 час. прибыл командир 1-й бригады полковник Родзянко, чтобы вести сводный полк на присоединение к дивизии. В 15 час. 20 м. части полка в составе сводного с 2-мя школьными эскадронами полка выступили по направлению на мызу Аллаж (в Корчме к полку присоединился поручик Рейтель). У мельницы, что к востоку от мызы Аллаж, полк в 16 час. остановился для обеда и отдыха. В 17 час. упомянутые части бригады, под командой полковника Родзянко по направлению на Зегевальд. По жребию были оставлены 2 эскадрона полка О.К.Ш., один в мызе Пулламдорф, другой в фольварке Лунь-Клинце. В мызе Аллаж наблюдательный пост от 3-го эскадрона под командой унтер-офицера. В фольварках Цельн и Грундуль оставлены наблюдательные посты 2-го эскадрона, под командой поручика Рейтель (взвод). Задача постов и эскадронов – оставаться для наблюдения за противником до утра, если не будут до указанного времени сбиты превосходными силами. В 19 час. полк прибыл в район Бикше – Спитали, где расположился на ночлег. В 21 час. к полку присоединились отделившиеся у Роденпойса части 2-го и 3-го эскадрона и пулеметной команды, действовавшие 22 августа в районе ст. Хинценберг, где они оказывали существенную пользу при выводе подвижного состава» (Российский государственный военно-исторический архив, фонд № 3572, 20-й драгунский Финляндский полк, опись 1. Дело 409, л. 4—15, https: //gwar.mil.ru/documents/view/? id=51520314).
Легко убедиться, что 21–22 августа 1917 года ни в какие конные атаки под Роденпойсом финляндские драгуны не ходили и никого не рубили. Такие атаки были невозможны из-за плотного огня германской артиллерии. Да и размах боев был невелик, о чем свидетельствуют сравнительно небольшие потери финляндских драгун за два дня боев: 11 раненых и 2 контуженных. Потерь же в лошадях вообще не было, что тоже говорит об отсутствии конных атак. Тихонов же, если он возглавлял команду связи, в этих боях, скорее всего, не участвовал, так как находился при штабе полка.
Зато конная атака под Роденпойсом действительно была, только не в августе 1917-го, а в мае 1919 года. Тогда, 24 мая, белогвардейский отряд под командованием ротмистра (впоследствии – полковника) светлейшего князя Анатолия Павлович Ливена (1872–1937) двигался в походной колонне и подвергся неожиданному нападению со стороны красных. Эскадрон отряда, двигавшийся в конном строю, попытался атаковать красных, но вынужден был отступить. Вот как описал этот бой штабс-капитан фон Зауэр, старший офицер батареи Ливеновского отряда: «Переправившись на пароме у Мюльграбена, около 3 часов дня отряд захватил заставу красных, указавшую на нахождение вправо от нас батальона коммунистов и отряда коммунисток, а впереди нас двух красных рот… Отряд продолжал движение. Батарея шла все время рекою непосредственно за эскадроном. Около 4 часов вечера в лесу, в 1 км от «Рикуль» (3 км к северу от станции Роденпойс), отряд наткнулся на засаду красных, состоящую из 15 коммунисток и 250 стрелков при нескольких пулеметах.
Встреча произошла в густом строевом лесу, на гати, обнесенной глубокими канавами. Красные открыли неожиданно по нашей колонне сильный пулеметный и ружейный огонь с близкой дистанции. Конница, неся потери, смешалась и отошла. Оба орудия, снявшись с передков и стоя друг другу в затылок, несмотря на невозможные для артиллерийской стрельбы условия и убийственный огонь противника, открыли по нему сильный огонь. Многие снаряды, задевая за толстые деревья, рвались у самых орудий или у нашей цепи. Противник начал нас обходить и справа и слева. Батарейный пулемет, выдвинутый вправо и вперед, своим огнем поддерживал нашу жидкую цепь (30 шашек, 10 офицеров, 20 артиллеристов). Огонь батарейного пулемета ликвидировал обход справа. Обход слева был ликвидирован огнем орудий. Орудия были спешно выдвинуты на опушку леса. Красные, не зная наших сил, спешно переправились через Аа лифляндскую и сожгли за собой мост. С наступлением темноты подошла 1-я пулеметная рота, и отряд пошел на станцию. Со станции открыл огонь бронепоезд противника, на наши сигнальные ракеты никто не отвечал, люди крайне устали, осталось лишь 10 шрапнелей. Отряд отошел на 1 км и занял позицию у имения Холлерсгоф. Батарея потеряла 30 процентов своего состава. Ранены: поручик Недзведский, подпоручик Бергман, Кергалв, Кононов. Убиты: добровольцы Шульц, Цукурс, Цирульс. Убито 6 лошадей и ранено 7. На позиции батареи тяжело ранен начальник отряда светлейший князь Ливен и его адъютант Зейберлих и убит командир эскадрона ротмистр Родзевич».
Значительные потери в людях и особенно в лошадях доказывают, что в начале боя эскадрону пришлось действовать в конном строю, и лишь потом он вынужден был спешиться. Очевидно, Тихонов был в рядах ливенцев. В июле 1919 года отряд Ливена перешел в белую Северо-Западную армию Н.Н. Юденича, где стал основой 5-й Ливенской дивизии, которую возглавил произведенный в полковники А.П. Ливен. В сборнике мемуаров ветеранов ливенского отряда «Памятка ливенца», опубликованном в Риге в 1929 году, на фотографии «Сторожевой пост ливенской дивизии, расположенный под дер. Килли» (эта деревня ныне относится к Кингисеппскому району Ленинградской области), сделанной в августе 1919 года, в одном из офицеров можно узнать Тихонова. В ливенский отряд из Петрограда Тихонов мог попасть только следующим образом. По всей вероятности, Николай Семенович служил в Лужском партизанском (1-м Советском) полку Красной Армии (шефом полка считался сам председатель Реввоенсовета Л.Д. Троцкий, запечатленный Тихоновым в «Балладе и синем пакете» в образе человека во френче) под командованием С.Н. Булак-Балаховича. Последнему было по пути с большевиками только до тех пор, пока сохранялась германская угроза. В начале ноября 1918 года, когда крах Германии был уже очевиден, большая часть полка во главе с Булак-Балаховичем перешла через демаркационную линию в Псков, где начали формироваться белогвардейские отряды. Однако часть подчиненных Балаховича, преимущественно настроенных монархически, предпочла перебраться в Либаву (Лиепаю), где в январе 1919 года начал формировать свой отряд А.П. Ливен. Вероятно, среди них был и Тихонов. Для этих офицеров Булак-Балахович был слишком левым, поскольку выступал за то, чтобы в освобожденной от большевиков России были сохранены демократические завоевания Февральской революции. К периоду пребывания Тихонова в армии Юденича относится самое знаменитое его произведение – «Баллада о гвоздях». Она посвящена атаке союзников Юденича британских моряков, совершенной на рейд Кронштадта на торпедных катерах в ночь с 17 на 18 августа 1919 года. Почти все участники атаки погибли или попали в плен, но им удалось тяжело повредить линкор «Андрей Первозванный», который так и не был восстановлен. Торпедные катера при атаке на Кронштадт шли на восток, почему у Тихонова капитан командует: «С якоря в восемь. Курс – ост». После разгрома Северо-Западной армии Юденича под Петроградом Николай Семенович, вероятно, отступил с ее остатками в Эстонию, а затем через Латвию в Польшу. Оттуда некоторые из ливенцев через Германию и Францию смогли перебраться в Русскую армию П.Н. Врангеля в Крыму. Судя потому, что в стихотворении «Перекоп» Тихонов дает не только красный, но и белый взгляд на последние бои в Крыму, он тоже мог служить в армии Врангеля. Когда и при каких обстоятельствах Тихонов попал от белых красным, мы уже вряд ли когда-нибудь установим. Но, во всяком случае, в конце 1920 года он уже был в Петрограде. Возможно, он не смог эвакуироваться с Русской армией из-за того, что заболел тифом или какой-то другой тяжелой инфекцией. Не исключено, что в дальнейшем Тихонову удалось выдать себя за захваченного врангелевцами в плен красноармейца и скрыть свое белогвардейское прошлое, которое ему потом пришлось скрывать всю оставшуюся жизнь, вплоть до смерти, последовавшей в Москве 8 февраля 1979 года. Вероятно, поэтому и в партию не стал вступать.
Вершинными достижениями тихоновской поэзии так и остались ранние сборники «Орда» и «Брага», отразившие опыт Первой мировой войны, а также службу в белых армиях в годы Гражданской войны. А «Чудо» и «Старатели» по праву числятся среди лучшей прозы Тихонова. В 20-е годы он писал много хороших стихов, а в 30-е годы, по мере усиления цензурного гнета, в том числе в отношении художественной формы, – уже меньше, хотя и тогда случались шедевры, вроде стихотворения «На Верденских холмах», где поэт вновь обратился к теме Первой мировой войны. Новый творческий подъем Тихонов пережил в годы Великой Отечественной войны. Почти всю блокаду он провел в Ленинграде, написал прекрасные поэмы «Киров с нами» и «Слово о 28-ми гвардейцах» и один из лучших своих прозаических циклов «Ленинградские рассказы». Но номенклатурная карьера не самым лучшим образом отразилась на тихоновском таланте. После того как в 1949 году Тихонов стал бессменным председателем Советского комитета защиты мира и фактически стал выполнять ту же функцию, которую раньше выполнял Горький, мобилизуя деятелей мировой культуры на борьбу за мир, хорошие стихи стали выходить из-под его пера все реже и реже. Хотя хорошую прозу, в том числе мемуарную, он писал до самого конца. Оскудение таланта не могло быть компенсировано тем, что Тихонов стал одним из самых титулованных советских писателей – Героем Социалистического Труда, лауреатом трёх Сталинских премий первой степени, Ленинской премии и Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», народным поэтом Узбекистана и Азербайджана.
В данном сборнике мы собрали никогда ранее не переиздававшиеся стихи и прозу Тихонова, опубликованные в 1918 году в петроградском журнале «Нива». Также помещены лучшие стихотворения Тихонова о Первой мировой и Гражданской войне, в том числе отражающие его пребывание в рядах белых армий. Кроме того, в сборник включены рассказы цикла «Военные кони», посвященные Первой мировой войне, и одни из лучших среднеазиатских рассказов Тихонова «Халиф» и «Бирюзовый полковник», предвосхищающий некоторые открытия Андрея Платонова. В сборник также вошли лучшие тихоновские поэмы и цикл «Ленинградские рассказы».
Б.В. Соколов, доктор филологических наук, кандидат исторических наук
Проза
Чудо
Рассказ
IСемен Иванович Клокачев был одиноким человеком и, как все одинокие, эгоистом. Но эгоизм его имел некоторую долю благородства. Так, на него находили минуты тонкой грусти и любви, и тогда он звал всех людей братьями, оплакивал с ними свои и их горести, готов был идти и бороться со всеми врагами человечества, готов был отдать первому встречному свой кошелек и «последнюю» рубаху… Но так как такие минуты находили на него обыкновенно тогда, когда он отдыхал на диване после обеда или ночью во время бессонницы, то поэтому кошелек и «последняя» рубаха оставались там, где лежали.
У Семена Ивановича было много знакомых, которые относились к нему с уважением и, встречаясь на улице, всегда спрашивали:
– Ну, как ваше здоровье, какие ваши дела? – добавляя неизменно: – А погода сегодня – ничего…
– Погода-то ничего, – отвечал он, – здоровье хорошее, а насчет дел – так мы, знаете, зондируем почву…
«Зондировать почву» было его любимым выражением. И когда он говорил какому-нибудь просителю: «Вы подождите, батенька, я вот в следующую субботу поеду по вашему делу… зондировать почву, так сказать», то проситель сразу проникался к нему уважением и жал руку особенно крепко и благодарно…
И потом Клокачев верил в чудо… Точно сказать, что он подразумевал под этим словом, он не мог, так как сущность этого чуда, по его мнению, нельзя было передать словами. Но это чудо должно было прийти и изменить его жизнь по-новому, сделать из него другого человека, ничего общего не имеющего с прежним Семеном Ивановичем и его знакомыми…
IIИ он сам пробовал идти навстречу этому чуду. Зондировать почву для этого чуда стало целью его жизни. Сначала он попробовал влюбиться и долго ухаживал за одной девицей, которая была красива, мило смеялась, пела цыганские романсы и даже читала Метерлинка… Но раз она сказала какую-то сочную глупость, и Семен Иванович покраснел, не зная сам почему, встал, сухо попрощался и ушел. И дома он лег на диван, начал думать о своей любви и понял, что ему не нужна ни эта девица, ни ее цыганские романсы…
Тогда он обратился к книгам. Он решил, что в книгах можно отлично зондировать почву для этого неуловимого чуда, которое, как некоего Мефистофеля, вдруг ему удастся вызвать из мрака небытия заклятьями философских формул.
И он писал длинные, скучные списки нужных ему сочинений, в каталогах и указателях справлялся и выбирал самые мудрые названия, и потом долго ходил по магазинам, принося домой целые кипы томов, связанных тонкими бечевками, завернутых в желтую плотную бумагу, пахнувшую типографской краской и сыростью.
И когда эти связки наполнили его комнату и лежали на комоде, на столе, под кроватью, он нашел, что теперь можно приступить и к делу.
Садясь пить чай или обедать, он брал наугад первый из попавших под руку томов, прочитывал не спеша такое далекое для него и торжественное заглавие, вроде: «Антисемитизм и коллективизм, и их влияние на экономическое и социальное развитие Итальянского королевства во второй половине XIX века» – не спеша разрезал первые десять страниц, прочитывал аккуратно каждую первую верхнюю строчку на каждой странице – и бросал книгу на кровать, а сам брал вечернюю газету.
Но прислуга, убиравшая комнату, верно, считала Семена Ивановича ученым человеком, более ученым, чем глупый доктор из двадцать восьмого номера, который всегда навеселе, приводит ночью женщин, пишет рецепты на спирт за деньги и анафемски ругает прислугу, постоянно упрекая ее в краже чего-нибудь.
Раз в газете Семен Иванович прочел, что образовалось общество искателей новой эры, член которого прочтет в следующее воскресенье лекцию об этом необыкновенном обществе и об открытом им необыкновенном Боге.
Семен Иванович после двух часов дня нарочно съездил на далекую улицу, где находился дом, в котором должна была читаться лекция, взял себе билет в двадцать пятом ряду, и пришел на лекцию за полчаса до начала. Там он сел на свое место, всем существом готовый воспринимать то, что начал говорить низким, визгливым голосом человек в сюртуке, с узким, постным лицом и не мигавшими глазами… Сначала он старательно вникал в темную, переполненную специальными выражениями речь лектора, два раза вынимал платок и сморкался, один раз вытер выступивший пот на лбу, а потом с ним случилось что-то такое смешное и глупое, что, когда он вспоминал об этом позже, ему всегда становилось холодно, хотя бы это и было летним полднем.
Он погрузился в какую-то сладкую нирвану, где ему было приятно и легко и где слышалось журчание каких-то неведомых рек и жужжание невидимых пчел, и он уже думал, что его существо вступило в сферу долгожданного чуда, как вдруг какие-то неприятные толчки коснулись его боков, и чей-то голос произносил упорно и насмешливо:
– Господин! Господин! Проснитесь. Все уже… конец… Господин! Господин!
И Семен Иванович проснулся. Его поразил опустевший зал, будто смеявшийся пустыми местами и полупогашенным светом, и сторож, маленький, курносый, в затасканной тужурке с оборванными пуговицами и желтыми, провалившимися щеками. И ему было неловко и стыдно, когда он вышел на улицу и ему казалось, что все на него показывают пальцами и дразнят высунутыми языками. Придя домой, он сердитым ударом ноги отбросил книги поглубже под кровать и, посмотрев в зеркало, сказал:
– Врут газеты… Вот что значит зондировать почву. Пошел и что же? Пустяки, болтовня… даром деньги берут.
Так он и говорил своим знакомым, когда его спрашивали о необыкновенном обществе и о необыкновенном Боге…
IIIВагон трамвая прыгал и визжал, как собака, которую заставили тащить тяжело нагруженную тележку. Семен Иванович стоял посредине вагона, стиснутый обычной трамвайной публикой, и рассматривал своего соседа, щуплого и нервного господина, все время кусавшего губы и моргавшего ресницами, будто собиравшегося с минуты на минуту заплакать. И когда к нему протиснулась кондукторша и сказала деревянным голосом: «пожалуйста, ваш билет», – господин засуетился, заерзал на месте, полез в один карман, потом в другой, почему-то пристально уставился на Семена Ивановича острыми, злыми глазами и сказал упавшим голосом:
– Кошелек вытащили, ей-богу, вытащили…
– Бьют их мало! – сказал смуглый человек с черной, будто углем нарисованной, эспаньолкой.
– Как вы сказали?
– Бьют их мало, воров-то – на месте надо было бы класть. Тогда разучились бы…
– И не говорите! – вторила ему тощая дама с огромной муфтой и черной меховой шляпой. – У моей матери недавно боа отрезали, и тут же вор и оказался в вагоне, не успел уйти…
– Да, а что вы думаете… Он и сейчас не ушел. Обыскать бы надо кое-кого, – ответил смуглый господин с эспаньолкой и тоже пристально посмотрел на Семена Ивановича.
«Неужели я так похож на вора, – подумал он, – что они все на меня так смотрят?» и вдруг, к своему ужасу, он почувствовал, как чья-то рука осторожно кладет в его карман какую-то вещь… Произошло движение… Кто-то кого-то толкнул, рука вернулась обратно в толпу, а в кармане у себя он нащупал чужой, украденный кошелек. И ему стало страшно и стыдно, будто он сам украл. И, не отдавая себе отчета в том, что делает, не замечая подозрительных взглядов окружающих, смотревших на его внезапно изменившееся лицо, он резко повернулся и начал протискиваться к выходу, наступая на ноги, толкая пассажиров, упираясь руками в чьи-то плечи и животы, так что раздались протестующие возгласы. А он усилил работу руками и говорил взволнованно и быстро:
– Пропустите, ах, да пропустите же…
И чувствовал, что сейчас случится что-то нелепое, грубое, неожиданное… И вдруг за его спиной раздался резкий, визгливый голос обкраденного господина: «держи, держи, держи». И ему вторил другой – женский, пискливый, с перерывами, дрожавший на одной ноте вскрик: «вор, вор, вор!»…
И весь вагон поднялся на ноги, застучал, заволновался, наполнился негодующими отрывками фраз, и у самого порога на плечи Семена Ивановича легла чья-то крепкая рука, вцепилась в него, и хриплый голос сказал:
– Неча тут разговаривать!
Трамвай остановился…
IV…Сначала шло немного… Один солдат с немолодым, густо заросшим волосами лицом держал Семена Ивановича под руку и старался шагать с ним в ногу, другой провожатый, человек в драповом пальто, шел мелкими спешащими шагами, теребя пуговицу, висевшую на двух нитках, и все повторял следовавшим за ними человекам двадцати:
– Ну, что надо? Ну, что надо? Вора не видали?
Семен Иванович потерял всякую способность соображать. Ему казалось, что ничего не случилось, что он продолжает ехать в трамвае, скоро выйдет через две остановки, войдет к себе в подъезд, поднимется на третий этаж и будет завтракать. И ничего ужасного не могло с ним случиться, потому что улицы, по которым его вели, были ему с детства знакомы, люди, которые шли за ним, были обыкновенными людьми, каких много на всех углах и у всех магазинов. И ему совсем не было понятно, что он, и только он, является героем этой процессии, к которой присоединялись новые и новые любопытные, шумевшие торопливыми голосами и шедшие спотыкающимися, нетвердыми, чего-то боящимися ногами.
И ему даже не хотелось говорить… Не хотелось поворачивать голову, а идти, идти все вперед, чувствовать, как промок сапог на правой ноге, потому что калоша осталась там, у трамвая, и смотреть ясными, светлыми глазами на такое знакомое небо, солнце и дома…
На набережной, у белого горбатого моста, от фонаря отделился высокий широкоплечий матрос с рыжим шрамом у правого уха, с колючей щетиной небритых волос, и сказал громко и властно: «стой!..»
VТорговались недолго… Толпа шумела, топталась на снегу, кричала, перебивая голоса гамом, и когда наконец немолодой солдат и матрос повели Семена Ивановича к пустой красной стене, между двух домов, – он понял, что ему нужно что-то сказать…
В это время до него донеслись слова из толпы, густо обступившей набережную. Кто-то сказал:
– Раз кошелек нашли, чего уж тут… что с ними церемониться…
– Так им и надо, извергам-то, – поддержал его бабий голос, – а то срам, до чего дошли. Среди бела дня грабят.
Семен Иванович остановился. И все стало ему ясно с такой беспощадной очевидностью, что он нашел в себе силы оттолкнуть матроса и, тяжело дыша, зачем-то снять шапку. Толпа зашумела снова. Матрос ждал, что он намерен делать…
– Братцы, – начал Семен Иванович тихо, – товарищи… – Но в горле что-то першило, что-то мешало, что-то задерживало дыхание, и слова были какими-то неполными, будто в них чего-то не доставало. – Товарищи… так ведь нельзя… нельзя, я… нужно ведь…
Дальше на языке было: «Зондировать почву, зондировать почву», но этого нельзя было сказать, а больше ничего, кроме этого, сказать он не мог. И он стоял, разинув безмолвный рот, жадно глотая пересыхающую слюну и морозный воздух, как рыба, выброшенная на лед.