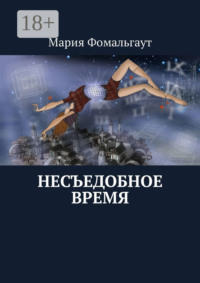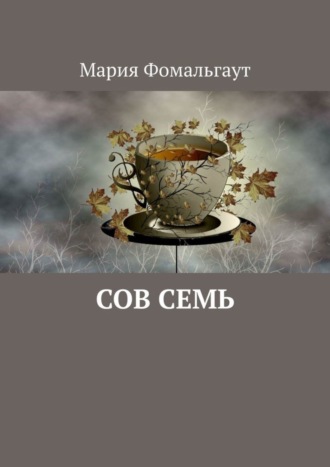
Полная версия
Сов Семь
Лондон-то…
…изначально…
…одноглазый…
Эйкин смотрит, и правда, все Лондоны-то с глазами выбитыми, а этот изначально одноглазый.
Неправильно.
Не порода.
Потому что – настоящий.
Специальный человек готовит ядерный заряд, хочет подвязать к бракованному Лондону, успокаивает всех, счас, счас, все уладим…
И вот здесь уже безо всяких но —
– Снимается с гонок.
Нет, впрочем, есть одно Но, – когда Эйкин Драм берет под уздцы списанный Лондон, уводит с ипподрома.
Вот так.
Молча.
Садится верхом на взмыленный Лондон, спрашивает:
– А до Луны можешь?
Лондон недовольно фыркает, смотрит в небо, Эйкин драм подгоняет, ну давай же, ну что тебе н так…
Наконец, Эйкин понимает, что не так.
Лондон номер два.
Тот самый Лондон, с которым потеряна связь…
– Мы найдем его – обещает Эйкин Драм, – обязательно… найдем.
Сам не верит в то, что говорит.
Бойся единорога, говорят солдату.
Бойся единорога, повторяет себе солдат.
А что за единорог, спрашивает солдат.
Солдат молоденький еще, ничего не знает.
В небо смотри, говорят солдату.
Солдат смотрит в небо.
Читает какие-то записи о борьбе льва и единорога.
…символизирует победу лета (лев) над весной (единорог)
…победу надземного мира и подземного…
Яркая вспышка в небе.
Во все небо.
Солдат уже не думает.
Уже не читает.
…противостояние созвездий льва и единорога вышло на новый уровень: уничтожена одна из планет в районе Денеболы…
– …а отчего так вообще… лев с единорогом? Что случилось-то?
– Да кто ж его знает… из-за чего вообще войны начинаются… лев с единорогом…
– Кто там сейчас львом-то правит?
– Да кто, все те же… этот… Макс… а единорогом Кетлин…
– Говорят, у них общий сын есть…
– Да ну, быть не может!
– Не-е, говорят, был… то ли умер, то ли пропал…
(из записей Эйкина Драма)
…честно признаюсь, когда мне сказали, что я могу заработать кругленькую сумму, то я усомнился, можно ли доверять мистеру Айсу, который воодушевленно расписывал мне, как через какие-то несколько дней я стану миллионером. Однако, у меня не было выбора, и я покорно поплелся за мистером Айсом в его дом на углу старинной улочки: холодок осени подступал все ближе, и я торопился за своим новым другом, в нетерпении предвкушая уютный жар камина и теплый плед. Когда мы дошли до крыльца, холод осени уже нюхал мои ботинки, добираясь до продрогших ног, я уже живо представлял себе чашку горячего супа у камина. Однако, каково же было мое изумление, когда мы вошли в дом, и я умер.
Да-да, я не преувеличиваю – я умер. А что я еще мог сделать в комнате, температура которой опустилась до абсолютного нуля?
– …ляю, друг мой…
– А?
– Поздравляю, друг мой… вы только что заработали двести фунтов.
– Но… но как?
– Очень просто, друг мой… Вот вы мне скажите, сколько сейчас стоит отопление?
– М-м-м… насколько я знаю, дороговато…
– Вот именно. А что нужно делать, чтобы сэкономить отопление?
– Ну… понизить температуру…
– Верно говорите. И чем больше понижаете температуру, тем больше экономите.
– И вы решили… до абсолютного нуля?
– Вы совершенно правы, друг мой! Хотите попробовать еще?
– Н-нет, благодарю вас…
– Два билета на миллион-дек, пожалуйста.
– Простите? – кассир оторопело смотрит на Эйкина.
– Да. Билета. На…
– Даблдек?
– Нет-нет, миллиондек, пожалуйста.
– П-прошу вас, – кассир растерянно протягивает билеты.
Эйкин от волнения надкусывает ветчину со штанины. Ведет Лондон под номером сто семнадцать, на первый этаж автобуса, на второй, на третий, выше, выше, выше по изогнутым лестницам. Никто не хочет показаться слабым, оба спешат вперед, наконец, Эйкин в изнеможении садится на ступеньки, подальше от прохода, чтобы не мешать людям. Переводят дух, отдыхают, но недолго, некогда отдыхать, надо поторопиться.
Торопятся.
Выше, выше.
На миллионный этаж.
Там, говорят, на поворотах трясет так, что мало не покажется.
Эйкин и Лондон добираются до верха, выжидают.
Луна близко.
Совсем близко.
Эйкин распахивает окно, примеряется, держит Лондон за уздечку, прыгает в седло.
Кто-то кричит – так нельзя, кого-то не слушают, Лондон делает великолепный прыжок, копыта звонко ударяются о луну.
– Эйкин?
– Мама? Папа?
…противостояние двух созвездий закончилось перемирием…
Эйкин обнимает Кэтлин, владычицу Единорога и Макса, владыку Льва. Рядом тревожно ржет Лондон, что такое, а, ну да, вот он, второй Лондон, в целости и сохранности…

Рано ушел
Зачем так рано ушел, сколько бы еще сделал, говорят люди.
И вздыхают.
Зачем так рано ушел, говорит вдова булочника.
Тоже вздыхает.
Зачем так рано ушел, говорит викарий.
Тоже вздыхает.
Вдова булочника замешивает тесто.
Глэтти смотрит, как вдова булочника раскатывает тесто.
Глэтти восемь лет.
Вечером бежит к причалу, смотреть на волны.
Он ушел в волны, думает Глэтти.
Он ушел в волны, говорят рыбаки.
Тянут сети, доверху набитые щедрым уловом, вокруг вертятся мелкие собачонки, дай-дай-дай.
Глэтти тоже достанется рыба, он её вдов булочника отнесет, она пирог с рыбой запечет, Глэтти его тетушке отнесет.
Зачем так рано ушел, скажет тетушка.
И разломит пирог.
У причала стоят лодки, которые он не доделал.
С парусами лодки.
Солнце заходит, идет холодный ветер с моря.
В это море он и уплыл. Сам уплыл. Безо всяких лодок, просто бросился в волны, и поминай, как звали.
До берегов хотел добраться, – говорит тетушка.
Ужинают.
Холодный ветер теребит черепицу, как-то скорехонько в этом году пришла осень.
Вот так вот бросил все лодки свои, сам поплыл, – говорит викарий.
Отчаялся парень, говорит жена викария.
Глэтти этот разговор не слышит, Глэтти дома.
Сколько он лодок этих переделал, чтобы до берега добраться, а куда денешься, далеко берега, хоть сто лет плыви, не доплывешь…
Еще бы пожил, глядишь, изобрел бы чего-нибудь, на чем плавать до берегов, – говорит тетушка.
Десять вечера.
Спать пора.
Глэтти спать ложится, одеялом потеплее укрывается, Глэтти снится, как этот, тот самый вышел ночью из дома, по главной улице, к морю, в слепом отчаянии бросился в волны, поплыл, быстро, легко, он был хороший пловец, – к дальним берегам…
А Глэтти в университет поступать будет.
Глэтти умный.
А Глэтти на корабле поплывет, сейчас корабли от берега до берега ходят.
Тетушка нет-нет да и вздохнет, эх, не дожил, не дожил этот до того, как корабли стали…
А больше про этого уже и не вспоминает никто.
Зачем на психологию, спрашивают у Глэтти.
А надо, говорит Глэтти.
Глэтти подводит к голове два проводка.
Разряд.
Глэтти больше нет.
То есть, есть.
Но нет.
Он смотрит на мир глазами Глэтти, он с восхищением оглядывает корабли у причала.
Корабли.
С парусами.
Чтобы плыть до берегов.
– Что вы можете сказать о современном мире?
– Он великолепен.
– Вы, должно быть, очарованы кораблями?
– Они могут плыть до берега.
– Вы чувствуете своего предшественника, который пожертвовал для вас своим телом?
– Да, я ощущаю его.
– Что вы планируете делать дальше?
Он улыбается. Глэтти так не улыбался.
– Я буду строить корабли.
Корабль поднимается в небо, выше, выше, выше, взмахивает крыльями, беспомощно кувыркается в небе, кажется, сейчас упадет…
…нет.
Не падает.
Выше, выше, поднимается до самой луны.
Аплодисменты.
Первые пассажиры спускаются на луну с летучего корабля.
– …и человеком года в этом году объявлен…
Глэтти раскланивается.
То есть, уже не Глэтти.
Но раскланивается.
Думает, что он тут делает вообще, ему вообще не до того, ему бы сейчас туда, где корабли…
Корабль беспомощно взмахивает крыльями, выше, выше, выше, крылья слабеют, крылья не слушаются, корабль падает.
– Что ж вы хотели… – говорят Глэтти, который не Глэтти, – не полетят они выше, не полетят…
Глэтти в гневе бросает оземь шапку.
Ну, может, еще сделаете… когда-нибудь… – утешают Глэтти.
Глэтти распахивает чердачное окно, расправляет крылья.
Взмахивает крыльями, еще, еще, еще.
Летит в небо.
Выше, выше.
До самых звезд.
Крылья слабеют, крылья не слушаются, Глэтти падает в бесконечную пустоту.
Рано ушел, говорят люди.
Сколько бы еще сделал, говорят люди.
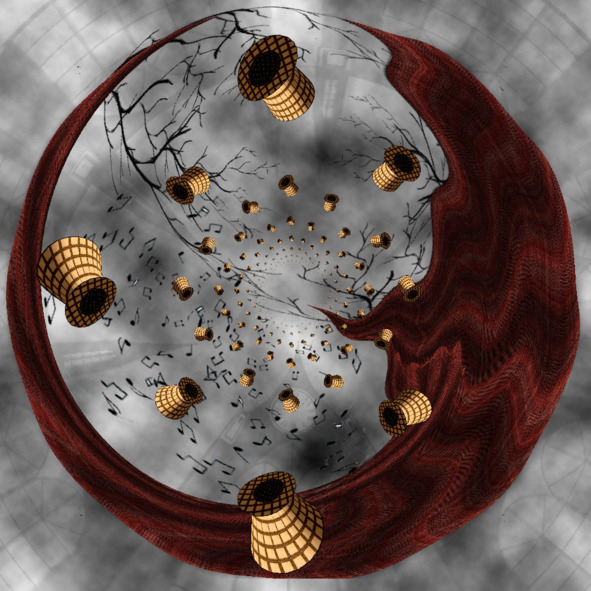
Безмостие
Завтра Аглаи не будет.
И Герти не будет.
И никого-никого не будет.
Уго думает, последнюю ночь ему осталось думать, что делать, чтобы Аглая была, и чтобы Герти была, и чтобы все-все были.
Ужинают.
Уго из уважения к Герти и Аглае целиком не глотает, на куски режет.
У них так положено.
А зачем вы так делаете, спрашивает Уго. Не про куски, про другое спрашивает.
А так надо, говорят сестры.
А кому надо, спрашивает Уго.
А сестры смеются.
А надо.
Уго еще по городку походил, в один дом, в другой, в третий, с кренделем на вывеске, со старым фонарем, и в дом, где живет вдова пастора. Пил чай, ел как положено, на кусочки резал, целиком не глотал.
У всех спрашивал:
Зачем?
А так надо.
А кому?
А никто не знает.
Наутро Уго просыпается, когда уже всё началось, он просыпается и слышит – все началось. Уго выползает из дома, смотрит на бегущих, вон они, толпами, толпами, мчатся прочь из города по главной улице, к обрыву, и – в пустоту.
Один.
Два.
Десять.
Сто.
Тысяча.
Уго хочет схватить кого-нибудь за шиворот – не хватает. Уже знает, все бесполезно, – схватить, затащить в тюремную камеру, запереть под замок, смотреть, как люди остервенело бьются о стальные решетки – в кровь…
Уго молчит.
Смотрит на бегущих – сам не знает, зачем.
Пронзительный крик кого-то, упавшего в пропасть.
Уго молчит.
Уже все сказал, уже бесполезно.
…до сих пор никто не может объяснить странные миграции жителей Лемибурга – раз в сто лет они собираются толпами и бросаются в пропасть….
В городе осталась Аглая.
А Герти нет.
И вдова старого пастора.
И булочник с женой.
И семейная пара, которая жила в доме со старым фонарем.
И еще человек сто.
В церкви собираются, молятся.
Благодарят кого-то, что уберег.
землю идут пахать.
Уго ходит по закромам, проверяет, может, еды людям было мало, вот и бросились…
…нет, много еды, полные закрома, что же случилось-то…
Уго спускается по обрыву посмотреть, что там внизу, за чем там люди прыгали. Нет, ничего нет, искалеченные трупы с уже подсохшей кровью. Уго хватает умершего, тащит на край обрыва, к подвальчику, где Уго живет. Глотает умершего, Уго целиком глотать любит.
Ложится спать.
Уго снится город. Там, по ту сторону обрыва, уходящего в никуда. Большой город, красивый город, город будущего.
Уго просыпается, смотрит – а города нет.
Это только сон.
Или…
…ближе к концу недели Уго подбирается к краю обрыва, смотрит, нет ли города. Нет, не видно никакого города там, вдалеке, только пустота подступающих сумерек…
И все-таки…
И все-таки Уго чувствует город там, вдалеке.
Чует.
У Уго чутье что надо.
Снова спускается по отвесной скале, подхватывает кусок истлевающего трупа.
Заглатывает.
Уго целиком глотает.
– Я видел сон, – говорит Уго.
Режет бисквит, размешивает чай ложечкой, следит, чтобы не звякнуть.
– Что такое? – спрашивает Герти.
Мне снился город по ту сторону провала… там, в будущем…
У Герти горят глаза, ей тоже снится город.
– Понимаете… – говорит Уго, – вот идет городок ваш из прошлого в будущее, а потом пропасть…
…что-то случилось, что история вашего городка оборвалась пропастью, и теперь вы не можете попасть в будущее, – продолжает Уго. Уже в церкви продолжает, куда его Герти повела, чтобы он всё рассказал.
– …город пропал, а он вам все мерещится, и вы в пропасть бросаетесь…
Ропот в толпе:
– Так это он нас в пропасть гонит!
– Это он, он!
– Да я видела, он людей жрет!
Люди бросаются на Уго, Уго шипит, это у него хорошо получается. А людям что, люди знают, что у Уго клыки так, для виду, не ядовитые.
Толпа вздрагивает.
Оборачивается.
Уходит прочь в пустоту улицы, человек за человеком, ускоряют шаг, срываются на бег, скорее, скорее, боятся не успеть в пропасть, как будто в пропасть можно не успеть. Уго не выдерживает, хватает Герти, хватка у Уго что надо, Герти вырывается, пусти-пусти-пусти, Уго не пускает.
Выжидает.
К вечеру безумие заканчивается. Уго осторожно выпускает Герти, успокаивает, шепчет что-то, все, все хорошо.
– А что… что было-то?
Уго молчит, и так понятно, что было.
Ветер гонит по улице обрывки газет. Уго подбирает несколько страниц, читает новости, пожар на мельнице, открылась новая ярмарка, у городского лекаря родился первенец… И ни слова о том, что происходит там, на краю обрыва. Уго уже и в архивах смотрел, и в архивах, и в библиотеках – ни слова.
Уго оборачивается, ищет Герти, Герти нет, Герти уже в конце улицы, бежит к обрыву, подпрыгивает, взмахивает руками….
…Уго не успевает, Уго беспомощно смотрит на пустоту за обрывом. Спускается пот отвесной стене, хватает первый попавшийся труп, тащит на улицу, проглатывает.
Уго пьет чай у викария.
Осторожно пытается втолковать:
– Вы меня поймите… у нас тоже так было… шел город из прошлого в будущее…
– Как шел? – не понимает пастор.
– Ну, вот так… три тысячи первый год, три тысячи второй, три тысячи третий… а потом преграда какая-то была во времени… провал там какой-то или наоборот, гора…
– И они дальше не пошли?
– Отчего же, пошли… просто в другой реальности пошли вперед, в будущее. Там к провалу подходишь и чувствуешь, что город где-то тут, рядом… а нету. И надо просто чуть-чуть дсвинуться в другом измерении… – Уго показывает игральную кость, вертит, – вот три измерения… вот время… – Уго показывает расстояние от начала до конца улицы. А тут надо в пятом измернии шажочек в сторону сделать…
Пастор отчаянно пытается понять.
– Давайте… я вас научу…
Уго протягивает пастору руку, тот вырывается, боится…
Уго спускается по отвесной стене.
Выискивает тело Герти, находит то, что от неё осталось.
Заглатывает.
Хочет подняться наверх, уже не может, устраивается в ущелье.
В этой реальности у людей прыгучие лапки и шерсть.
А в реальности Уго у людей чешуя и длинные хвосты.
В реальности Уго сделали мост в будущее.
А в этой реальности нет.
…ближе к весне Уго выбирается из ущелья, больше там поживиться нечем.
Смотрит на пропасть.
На город, который там, за пропастью, его не видно, его можно только почувствовать.
Шагает в город.
Снова шагает из города.
Снова.
Снова.
У Уго получается.
У людей нет.
Уго делает мост, по которому могут пройти люди, камень за камнем.
Уго не знает, как делать мосты.
Но делает.
Сегодня будет пастор.
И завтра будет пастор.
И Аглая будет завтра.
Не та, правда, другая уже, сколько веков прошло.
Но будет.
И Герти.
И все-все будут.
Потому что есть мост.
Уго на праздничном ужине сидит, ножом мясо режет, по кусочкам ест.
Кофе пьет.
Отчаянно вспоминает, что здесь в кофе кладут, сахар или соль. Можно Аглаю спросить, так она из вредности скажет не так.
Завтра все будут.
Все-все.
Только бы мост не упал, все-таки не умеет Уго делать мосты.
…Уго просыпается, смотрит в окно подвальчика, Уго в подвальчике живет.
Люди спешат по улицам. Толпами. Толпами. Уго ищет в толпе Аглаю, не может найти.
Люди подбираются к мосту, примеряются…
…прыгают в пропасть.
…выжившие собираются в церкви.
Благодарят кого-то за спасение.
Идут сеять зерно.
Весна.
Уго смотрит на дорогу, по которой уходили люди.
На которой прыгали в пропасть.
Зачем, спрашивает Уго.
Так надо, отвечают ему.
Уго спускается по отвесной стене.
Выискивает труп Аглаи.
Долго смотрит.
Потом проглатывает.
Устраивается на дне ущелья.
Аглаи на неделю хватит, не меньше.

Краденый день
Миллилионный год
Пять минут до конца света.
Все прячутся по своим кольцам.
Кто все?
Да все, кто остался.
Я их не вижу.
Они сами себя не видят.
И я не вижу себя.
Меня нет.
Но я есть.
И у меня нет кольца, чтобы спрятаться.
14 июня 2080 года
У нас украли день, говорит Элис.
Элис никто не слышит, Элис сама себя не слышит, Элис гонит велосипед – дрын-дрын – по улочкам городка, развозит свежий хлеб.
А какое сегодня число?
Четырнадцатое.
А какое должно быть?
Тринадцатое.
То-то и оно.
А день сегодня какой?
Суббота.
А пятница где?
Вот-вот.
Минус четырнадцатимиллиардный год – миллилионный год
…я снова погружаюсь в бесконечный темный туннель, чуть подсвеченный сиянием, я лечу через него, через пустоту, я ищу свое пристанище – и не нахожу…
14 июня 2080 года
Ну, никто ничего не говорит, нет, так нет, только вдова викария сказала что-то вроде, что оно и к лучшему, мало ли что там в пятницу тринадцатого случится, вот уже и указ издали, чтобы черных котов на улицу в пятницу тринадцатого не выпускать.
А день пропал.
День пропал, – говорит Элис в полиции. У Элис золотые волосы до плеч, а у корней черные.
День пропал, – пишет полицейский. А у полицейского бакенбарды рыжие и глаза зеленые с золотой искринкой.
Составляет протокол. Так, на всякий случай.
Объявления развешивают по городку, тоже на всякий случай, не видел ли кто потерянный день.
Пятницу.
Тринадцатое июня.
Особых примет нет.
Люди руками разводят, ну, пропал день, так пропал, у булочницы тоже вот третьего дня сережка пропала, так её потом в пироге нашли в семье Бишепов… Кто-то отличился, принес в полицию четырнадцатое июля тысяча семьсот восемьдесят девятого, люди возмутились, чего вы вообще день взятия Бастилии принесли…
Минус четырнадцатимиллиардный год – миллилионный год
…я пытаюсь уцепиться, но не знаю, за что, я пытаюсь найти хоть какой-то причал, на котором можно остановиться, замереть, жить – и не нахожу. Напрасно я плыву по реке времен, снова и снова опускаюсь в бесконечно длинный туннель временного потока, я пытаюсь найти хоть один день, хоть один час, хоть одно воспоминание, за которое можно уцепиться, остаться там, в каком-то дне, хотя бы в каком-то часе, где ничего не происходит, где никого не убивают, где не думаешь о том, что завтра война, или вчера была война, или сегодня…
14 июня 2080 года
Элис едет по вечернему городу – дрын-дрын – развозит по домам хорошие сны. И не очень.
Надо убрать город, как к празднику, вспоминает Элис. Не к месту, и не ко времени. И сказать булочнице, чтобы побольше вкусного всякого напекла, для такого дня можно. И напомнить, что пятница нерабочая будет, негоже в такой день работать, пусть люди с семьями дома будут. А нет, это уже не Элис решать будет, а кто другой, там, в верхах. И чтобы войны не было в этот день…
…стоп.
Элис спохватывается, о чем она вообще думает, что вообще происходит.
А вот.
Подготовить город… подготовить город… Элис отчаянно сжимает виски, Элис открывает блокнот, записывает воспоминания, не к месту, не ко времени, из ниоткуда.
Миллилионный год
– У вас нет берега?
– Да… представляете… я всю жизнь думал, что у меня будет хоть какой-то берег… пристанище какое-то… а оказалось…
– Что, за миллиарды лет – никакого пристанища?
– Верно… никакого.
Я отвечаю ему (кому? Хоть убейте, не знаю!), я пытаюсь представить себе, когда же у меня было пристанище, хоть какое-нибудь, ну не считать же пристанищем холодные ночи у тлеющего костра, когда студеная метель бьется в окна, и не знаешь, доживешь ли до весны? Не считать же пристанищем жаркие битвы, когда крепость дрожит под ударами врагов и сверкающий клинок обагряется моей кровью? Что мне вспоминать – небо, дрожащее от гула боевых машин? Куда мне идти – в дом, разрушенный войной? Я отчаянно ищу хотя бы один день – и не нахожу…
14 июня 2080 года
Убрать город к этому дню.
Остановить все войны.
Всем помириться.
Испечь что-нибудь, это булочнице сказать…
Нет, все не то, не то, не то, мысли уходят, а ведь только что вспоминалось что-то странное, как готовили город, спорили до хрипоты, фонарики вешать или не вешать, а пикник на весь город делать или не делать, или каждая семья сама по себе праздновать будет, да что там праздновать, это же обычный день, вы понимаете – обычный…
…нет.
Память уходит.
14 июня 2090 года
Элис перебирает хлам в шкафу, на ковер падает пожелтевший блокнот, раскрывается на недописанной странице, Элис читает, не понимает, к чему подготовить город, какие фонарики, зачем всем помириться, какие войны прекратить…
Элис не понимает, Элис не помнит, Элис бросает блокнот в хлам, на чердак…
Миллилионный год
Смотрят, как умирает вселенная.
Еще бы, не каждый день такое увидишь.
Говорят:
Надо бы этому помочь.
Кому – этому?
Да этому – этому. А то, что такое, у всех есть, у него нет.
Сам виноват, что у него нет.
Тоже верно.
Все готовятся к концу вселенной, все вырезают самые лакомые кусочки из…
…чтобы вырезать кусок из истории, сначала отмерьте необходимое вам время. Потом осторожно сложите из времени петлю, чтобы соприкасались начало и конец петли. Важно – сначала склейте петлю, и только потом вырезайте её из времени…
14 июня 2190 года
– Тебе не кажется это странным? – Аглая держит блокнот своей бабушки Элис, стряхивает пыль.
– Что странным? – Ден смотрит на молодую жену, думает, чего ради вообще полезли на чердак.
– Вот это вот… – Аглая листает, – не забыть: не рабочий день. Убрать город, развесить фонарики… обещали хорошую погоду….
– Ну что, праздник какой-то, – Ден пожимает плечами.
– Да нет, ты посмотри… день, которого не было… украденный день…
– Да… не бери в голову…
– Нет, ты смотри… день, которого не было…
Миллилионный год
Смотрят, как умирает вселенная.
Кто смотрит?
Да все.
Все, кто остался.
А может, это, говорит кто-то, этому каждый по кусочку от своих времен подарим?
Да зачем ему кусочки от чужих времен…
15 июня 2190 года
– А мне, пожалуйста, газету за тринадцатое июня восьмидесятого года, – просит Аглая.
– А этого дня не было, – говорят Аглае.
Не было дня.
Не было.
Минус четырнадцатимиллиардный год – миллилионный год
И обратно
…сегодня мне почти повезло, мне посчастливилось найти почти идеальный вечер, это был вечер августа, на берегу моря, солнце, которое никак не хотело заходить, пары кружатся в танце, кто-то обнимает меня, кого-то обнимаю я, впиваюсь губами в губы…
…Завтра от цветущего острова не останется даже тени, все будет выжжено войной…
Так что нет, не подходит…
15 июля 2190 года
…передали в собственность музея единственную дошедшую до нас информацию об украденном дне: блокнот с записью многолетней давности…
Миллилионный год – минус четырнадцатимиллиардный год
И обратно
…ещё раз прокручиваю весь свой путь, отчаянно пытаюсь найти хоть какую-то зацепку, хоть что-то, что можно взять с собой после конца вселенной. Может, вот этот кусочек июньского утра, когда все лето впереди, или вот, осенний вечер, когда дождь стучит в окна, а на столе дымится глинтвейн… нет, не то, не то, слишком мало, слишком рассыпчато все, отчаянно собираю время по крупиночкам, выхватываю кусочки, нанизываю одно время на другое, падает, рассыпается, не хватает стержня, стержня…