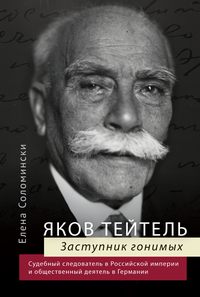Полная версия
Дивный новый мир. Фантастика, утопия и антиутопия писателей русской эмиграции первой половины XX века

Дивный новый мир. Фантастика, утопия и антиутопия писателей русской эмиграции первой половины XX века
От составителя
Дрожащий мир
Париж, Берлин, Константинополь, Копенгаген, Ницца, Прага, Варшава, Харбин, Нью-Йорк и еще сотни городов, где в следствие большевистского переворота и гражданской войны в 1920-е годы оказались русскоязычные эмигранты, как те, которые бежали сами, так и высланные из страны принудительно. За годы и десятилетия пребывания в чужом языковом пространстве, эмигранты не только не вошли в него (за редким исключением: О. Фелин, П. Тутковский, В. Набоков), но даже и не стремились к этому. Вспомним слова В. Набокова «В Берлине и в Париже, двух столицах изгнанничества, русские эмигранты создали компактные колонии, культурное содержание которых значительно превосходило средний показатель тех лишенных крепости иностранных сообществ, в среде которых они разместились»1. То, что их связало – русский язык и пространство культуры, их общее прошлое, их пережитое – было для них несравнимо больше и значимей того, что происходило в их иноязычном окружении. В практически коллективном, но по сути глубо личном, переживании эмиграции и утраты в буквальном смысле слова земли под ногами, вероятно, самые отчаянные были увлечены миром фантазий о будущем и утопией, как литературной формой произведения. Попытка заглянуть в будущее и увидеть человека будущего – эта идея двигала визионерами.
Стоит отметить, что попытки эти не возникли на ровном месте. Они связаны с мистикой, сказочной историей, как популярными литературными жанрами. Фантастических героев можно встретить в произведениях Н. Гоголя, С. Крылова, О. Сенковского, А. Куприна, Ф. Сологуба, Н. Тэффи, В. Брюсова, Л. Андреева и А. Грина, а также в утопических произведениях А. Радищева, В. Одоевского, Н. Чернышевского, Ф. Достоевского, М. Салтыкова-Щедрина. Визуализация темы технического прогресса и образов будущего находила отражение на рубеже веков на страницах художественных и сатирических дореволюционных журналов, таких, как «Стрекоза», «Будильник», «Шут» и в рекламных листках, например, кондитерской фирмы «Эйнем». Техническим новшествам, контактам с другими планетами и путешествиям на Марс посвящались статьи дореволюционных журналов «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Огонек», «Научное обозрение». Существенную роль на рост интереса к футурологическим темам оказали и публикации романов Жюля Верна на русском языке, которые были популярны в дореволюционной России2. Наряду с техническими и социальными нововведениями переводы футурологических романов будили у молодого поколения интерес к путешествиям, фантазиям, давали импульс к познанию нового, неизведанного, мечтам о будущем3.
На рубеже веков ожиданием грядущего нового человека была наполнена вся поэзия Серебряного века. Спасителя или спасение русская интеллигенция неутомимо искала в русском космизме, в антропософии, в живой этике Рериха, в идеях аграрного социализма Чаянова или утопического коммунизма Ленина4. Мистицизм и оккультизм вызывали у публики большой интерес. В среде русской интеллигенции лет на 100 позже, чем во Франции становятся популярны сеансы вызывания духов известных и малоизвестных литераторов, исторических личностей, предсказывающих будущее или (якобы) вещающие тексты присутствующим. Последствия Первой мировой войны, но особенно большевистский переворот 1917 г. привели к невиданному краху системы политических и общественных институций, трагедии миллионов изгнанников, ставших врагами в своем отечестве и оказавшихся на чужбине. На смену ожиданиям прихода Спасителя в белом венчеке из роз пришел вполне конкретный человек, с группой сотоварищей, взявших власть в свои руки, преследуя и подавляя всякое сопротивление. Как и почему это произошло, и как с этим жить дальше? – этими вопросами многие эмигранты задавались до конца своей жизни. Темы и контексты своих произведений о будущем они находили в новостных колонках русскоязычной периодики и в личном опыте прошлого и настоящего.
Мир 1920–1930-х годов – это мир значительно возросших скоростей, мир индустриального пространства и технологических инноваций. Мир патриархальных ценностей канул в прошлое на рубеже 1900-х годов. За 20 лет ускорилась общественная, политическая жизнь, существенно изменился труд (активно внедрялись конвейеры и машинное производство). Стремительно менялась коммуникация людей в городах (развитие всех видов транспорта, телеграфной связи и фотографии, телефонизация крупных городов, запуск линий метро, пневматическая почта, ряд нововведений, продемонстрированных на Всемирных выставках в Париже в 1878, 1889, 1900-х гг.). Новые открытия произошли в медицине и химии (открытие рентгеновских лучей, достижения Юнга и Фрейда в области психологии). Страх перед новизной техники соединялся с ростом интереса ко всему новому, выплескиваясь карикатурами и шаржами на темы настоящего и будушего на страницах художественных журналов, как в России, так и в Европе. На своем пути к популярности технические инновации часто вызывали протесты общественности и конфликты с властями: так было с движением трамваев и велосипедов; страх вызывали «черные автомобили» и рентгеновское излучение. Панику и ужас вызвало газовое и химическое оружие, впервые примененное в Первой мировой войне. Последствия Первой мировой войны стали трагедией для населения России и Европы: вплоть до начала 1920-х годов в ряде стран действовали продуктовые карточки, тысячи людей продолжали жить в лагерях для военнопленных, границы ряда стран Европы были изменены. В Германии выплаты по репарациям легли тяжелым бременем на население, усилив неприятие к беженцам. Писатель Евгений Замятин так описывал конец 1920-х годов: «Беспокойство было всюду в Европе, оно было в самом воздухе, им дышали.
Все ждали войны, восстаний, катастроф. Никто не хотел вкладывать денег в новые предприятия. Фабрики закрывались. Толпы безработных шли по улицам и требовали хлеба. Хлеб становился все дороже, а деньги с каждым днем падали в цене. Вечное, бессмертное золото вдруг стало больным, люди потеряли в него веру. Это было последнее, ничего прочного в жизни больше не оставалось. Прочной перестала быть самая земля под ногами»5.
Страх перед войной, крушением мира и аппокалипсисом будущего, как «временем катастроф» на десятилетия закрепился в сознании масс, вызвав ответную реакцию – стремление к миру, пацифистские и гуманистические инициативы в образовании и воспитании. Не случайно, впервые определение «время катастроф», в меньшей степени техногенных, в большей социально-политических, возникает в эмиграционном Берлине в 1922 г.: его автором является беженец из Российской империи, философ и писатель Фишель Шнеерсон, очевидец Первой мировой, революций и погромов. Революционные годы и гражданская война в России привели к массовым жертвам, гонениям и миграции населения.
Определение «озверения» человека, получившее распространение в годы Первой мировой войны часто можно встретить в публицистических и эпистолярых текстах, датированных годами гражданской войны и эмиграции. Образ зверя, не новый в русской литературе. Начиная с переводов басен Лафонтена, текстов Крылова, и позже в периодических изданиях эмиграции он становится многоликим и встречается в русскоязычной литературе практически всех странах. Можно сказать, что в текстах авторов-эмигрантов возникает целый зверинец: тут и орлы, и кречеты, и медведи, и зайцы, и, конечно, ослы и свиньи, характеризующие тех или иных исторических персонажей, политиков и интеллектуалов. Шаржированные или карикатурные визуальные образы дополняются текстовыми произведениями разного жанра, как в прозе, так и в поэзии. В этих произведениях мифологические образы и фантастические сюжеты являются элементами утопии, часто несущими и сатирическую нагрузку. В даный сборник включены три произведения с тем, чтобы познакомить читателя с жанром, практически исчезнувшим в настоящее время. Это два знаковых произведения Алексея Ремизова (1877–1957) рассказ «Асыка» о главе Обезьяньего царства по имени Асыка, датированный 1932 г., а также роман «Лошадь из пчелы», написанный в 1920- е годы, повествующий о хождении по Гороховым мукам бывшего канцеляриста и трех кавалеров Обезьяньей Великой и Вольной Палаты (обезволпала). Образ Асыки вырос из рисунка 1917 г., позже повторенного в 1922 г.6. Оба произведения были изданы в сборнике «Взвихренная Русь» (издательство «Таир», Париж, 1927 г.). В романе «Лошадь из пчелы» героями становятся известные персонажи эпохи символизма: поэт А.А. Блок, философ А.З. Штернберг, писатель К.Ф. Сологуб и художник К.С. Петров-Водкин и др. Гротеск и трагедия представлены автором, который с 1921 г. жил сначала в Берлине, а потом в Париже, как театр политического абсурда. В утопическом пространстве соединяются элементы реального прошлого и абсурдного настоящего. Жизнь многих эмигрантов в Берлине именно такой и была: бесправие беженцев и отсутствие средств, стремление продолжать творческое дело, начатое до эмиграции, сохранив контакты дореволюционных профессиональных кругов и сообществ – многие редакции и союзы, возникшие в старой России продолжили свою деятельность и в эмиграции. Анималистические образы использует и А. Гидони (1885–1943) в своем романе «Осел в богатстве. Повесть 1950 года». Дважды эмигрант из России – он уезжал в 1909 г. из империи, но вернулся, в 1921 г. он совершил повторную попытку расстаться уже с советской Россией. На этот раз навсегда. Гидони, прежде всего, благодаря его разнообразным искусствоведческим интересам и лекционной деятельности жил в разных странах: в Щвейцарии, США, Германии, Франции, Литве и в Марокко. Его сатирико-фантастическая повесть была написана им в Европе под впечатлением от его поездки в США и издана в 1924 г. на немецком языке под названием “Dizzy. Erzählung aus dem Jahre 1950” («Дицци. Рассказ 1950 года») в газете “Rote Fahne” («Красное знамя»), в № 124–143 в берлинском издательстве Malik-Verlag. Год спустя повесть была переведена на русский язык и вышла в Москве в издательстве «Труд и книга» с титулом «Осел в богатстве. Рассказ 1950 года». Повесть является одной из первых русскоязычных сатирических утопий, написанных в эмиграции, и содержащей критику капиталистической экономики. В описанном обществе «всякое проявление человеческого чувства является роскошью», неуч становится миллионером, человек обязан обладать только железной волей и верой в успех; миллионное состояние наследует… осел. Случайная находка нефти приносит миллионы, все товары заказываются через системы связи (!), а реклама заполняет собой все радио-экраны. В 1950 г. мир оказывается снова на грани вой ны: миллиардные займы, главы государств и правительства поклоняются ослу, паника на биржах и новое оружие, готовое уничтожить все живое – таковы признаки предвоенного времени. События повести происходят с кинематографической скоростью: мир от краха спасает случай и… осел Дицци, т.е. то самое домашнее животное, которому как золотому агнцу поклоняются лидеры держав. Синематографичность действия у Гидони не случайна: любитель кино, он также был и кинокритиком. Эпоха великого немого в начале ХХ века представлена еще не утопиями, но кинематографом, где все больше популярны элементы фантазии и мистики. Решающий рывок на пути в неизведанные и утопические миры делает новый жанр этого времени – анимация: в 1906 г. восторг зрителей в Европе вызывают анимационные эксперименты Жоржа Мельеса: в 1902 г. выходит его «Путешествие на Луну», в 1904 г. – «Путешествие через невозможное». В России режиссер Владислав Старевич создает свои картины-фантазии, героями которых становятся созданные им «куклы-насекомые» и «куклы-звери» – мир новой утопии. В 1920 г. в Германии выходят первые фильмы ужасов, в основу которых легли идеи сверхчеловека и связанных с этим кошмаров: «Голем», режиссеров Хенрика Галеена (Heinrich Gallen) и Пауля Вегенера (Paul Wegener) (1915), а также «Кабинет доктора Калигари» режиссера Роберта Виене (Robert Wiene) (1919). В 1922 г. эту же идею – власти над миром – развивает лента «Носферату» немецкого режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау (Friedrich Wilhelm Murnau). В 1927 г. появляется первая европейская антиутопия – фильм «Метрополис» (реж. Фритц Ланг). Кинематограф в отличие от иноязычной литературы стал тем медиа, которое пользовалось большой популярностью у русской эмиграции: премьеры фильмов обсуждались в эмигрантской среде и прессе, образы кинематографа вдохновляли писателей. В конце 1920-х годов появляются и документальные ленты о мегаполисах, наполненные ритмизацией жизни, индустриалиазацией, динамикой общественных пространств, движением масс и новой техникой: «Москва» (1927), «Берлин» (1928), «Один день в Нью-Йорке» (1929). Пространство городов в этих лентах обретало черты механического двигателя и ассамбляжа из картинок повседневного быта горожан. Последние выглядили винтиками проспектов и улиц, машин и фабрик, всего нового, что пришло с миром техники и изобретений. Зритель был восхищен и впечатлен мощью техники, но и подавлен своим одиночеством и беспомощностью перед этим макро-гигантом. В Германии эти настроения усиливались под влиянием политических и экономических кризисов, особенно гиперинфляции 1923 г., которая повлияла на массовые увольнения и усиление потоков беженцев, уезжающих из страны.
Пример города технического хаоса и перепроизводства, города победивших человека вещей представляет собой перформативное пространство, в котором разворачиваются события кино сценария Льва Лунца (1901–1924) «Восстание вещей» (1923 г.)7. Как и у Гидони, действие у Лунца просходит в 1950 г. в некой островной республике. Здесь появляется ледяная женщина-машина, одушевленные и неодушевленные герои, читатель становится свидетелем обсуждения запроса в палате депутатов о новых секретных вооружениях. В киносценарии наряду с элементами поэзии футуристов (например, озвучивание языка вещей в виде звуков, щелчков, свиста и пр.) присутствует и использование библейских ассоциаций и эсхотологических мотивов8, что отсылает к популярным синематографическим решениям того времени. Впрочем, Лунц опередил свое время: в его киносценарии ожившие предметы – мебель в комнате, автомобили на дорогах несут смерть героям, что в западном и американском кинематографе нашло отражение лишь после 1970-х годов. Формулируя постулат «Вещи не могут сами…» один из героев приходит к выводу о необходимости нового человека для управления вещами, не духовного лидера, но и не машины, но человека, который найдет баланс между эмоциями и порядком. Он резюмирует: «Так сделай с Катрионой новых людей и правь вещами! Не пускай тех, старых… Новых людей создай… Точных, спокойных. Чтоб не было крови, убийств, беззаконий!». Проблема конструирования нового человека интересовала в те годы, как философов, так и писателей. Эксперимент по созданию нового общественного строя в советской России давал уникальный материал и для безграничных фантазий на тему человека будущего9.
О духовном мироустройстве будущего общества жарко спорили многие авторы-беженцы из России. Гонения и погромы обусловили одновременное присутствие двух тенденций в беженстве: секуляризации вплоть до разрыва с собственной религиозной традицией и роста интереса к новым религиозным учениям, философским концепциям и утопиям, популярным в Европе. Залман Шнеур (наст. фамилия Залкинд, 1887–1959), еврейский писатель и поэт, всю жизнь писавший на идише и иврите, был учеником известных еврейских писателей – у Х.Н. Бялика он брал уроки Талмуда, у Ш.Л. Гордона он работал редактором детского литературного еженедельника «Олам катан» (1901–1905) и, наконец, у И.Л. Переца он был переписчиком. Шнеур вбирал в себя не только знания, но и культурные пласты разных стран: в Сорбонне он слушал лекции по литературе, философии и естествознанию, в Берлине – изучал медицину и работал в редакциях газет и журналов на идише; дороги странствий вели его через многие города Европы, США и Северной Африки; умер он во время поездки в США и нашел вечный покой в Израиле. Последний раздел его единственного опубликованного в Берлине в 1923 г. сборника на русском языке «Рассказы» (авторизованный перевод И. Шехтмана10, издательство С.Д. Зальцмана) назван «Из мира видений» и имеет подзаголовок «Из «Книги о космосе». Возможно, автор готовил сборник с данным названием, который так и остался неизданным. Рассказы, входящие в вышеназванный раздел («Вначале», «И было завершено», «Царица Свобода», «Моя тоска», «Время») представляют собой мистико-фантастические тексты, написанные белым стихом, по музыкальности текста напоминающие строки Андрея Белого. Это чистая абстракция мира и человеческого бытия. В данное издание включены три рассказа («Вначале», «Моя тоска», «Время»). Шнеур использует метафору одушевления неодушевленного (тоски, времени, свободы), обращаясь к Тоске и Времени, как к живым сущностям, эпическим языком молитвы. Автор ощущает бег времени, слышит его шум (вспомним вышедший в 1925 г. сборник автобиографических очерков Мандельштама «Шум времени») и говорит со Временем. По насыщенности и мистической возвышенности тексты его «видений» похожи на мифологические отступления романа «Гренадирштрассе» (1931) уже упоминавшегося выше выходца из известного хасидского рода Фишеля Шнеерсона. Его роман, повествующий о жизни еврейских эмигрантов в Берлине, был написан на идише и годом позже опубликован в Варшаве. Автор увлекает читателя в мир личных переживаний, утопических образов и мистики. Париж и Ницца, Копенгаген, Варшава, Вена, Бремен, Висбаден и Гамбург становились перевалочными пунктами, бивуаками, многих эмигрантов, которые в страхе перед растущим антисемитизмом покидали Европу, уезжая в США, подмандатную Палестину, Аргентину, Австралию и др. Стихотворение Мандельштама «Концерт на вокзале» (1921 г.) – лучшая иллюстрации голоса времени той эпохи:
«Нельзя дышать, и твердь кишит червями, И ни одна звезда не говорит, Но видит бог, есть музыка над нами……И мнится мне: весь в музыке и пене, Железный мир так нищенски дрожит……Куда же ты? На тризне милой тени В последний раз нам музыка звучит!»11Письма, стихи, дневники и литературные произведения эмигрантов содержат немало свидетельств этой уникальной музыки памяти, анданте и аллегро лиловых теней, аромата ветки сирени, запаха снега, прощального взгляда. Но самое значимое место в пространстве памяти занимали у большинства эмигрантов воспоминания о революции, трагедии гонений и утрат. Отсутствие ощущения себя в море драматических будней беженства приводило авторов к капсулированию в темах прошлого либо в пространстве утопического макромира, когда победившие красные захватывают не только новые страны, но и целые планеты. Освобождение от красных представлено разнообразными фантастическими способами, которые изобретают гениальные ученые, спасающие Россию (или человечество): всевозможные «лучи смерти», яркие взрывы, испепеляющие власть большевиков, можно встретить у ряда авторов-эмигрантов (например, «Перст Божий. Гибель российской коммуны: Фантастическая повесть» П.П. Тутковского (Новый Сад, 1924), «Диктатор мира: Роман будущего» А. Ренникова (Белград, 1925), «Пугачев-победитель: историко-фантастический роман» М.К. Первухина (Берлин, 1924), «Похитители огня» В.Я. Ирецкого (Берлин-Лейпциг, 1925). Интересно, что наряду с ожидаемым крушением коммунистического мира в отдельно взятой России или по всему миру или даже на острове коммунистического рая (см. Например И.Ф. Наживин «Во мгле грядущего»), авторы-эмигранты видели успешный исход борьбы с большевизмом сквозь призму исконно-русского сознания. Так, роман П.П. Тутковского завершается великим молебном патриарха и утверждением православной монархии, повесть И.Ф. Наживина «Круги времен» – уничтожением коммунизма в России в 1947 г. и воцарением в Европе (!) русского князя. В романе будущего «Диктатор мира» А.М. Ренникова Россия не только восстанавливает монархию, но и противостоит всем странам Запада. Этот же исход видит П.Н. Краснов, осужденный в 1947 г. решением Военной коллегии Верховного суда СССР и растрелянный в Москве по делу «красновцев». Главными героями его романа «За чертополохом» (1922) становятся уже потомки эмигрантов, т.к. роман адресован новому поколению, которому завещано освободить Россию.
Считающийся классикой советской фантастический литературы, роман «Аэлита», А. Толстой начал писать в 1921 г. находясь в эмиграции, в Берлине. В сюжете романа отразились все мотивы, которые волновали эмиграцию: здесь и революция, и отственность интеллигенции, гибель цивелизации и исход, противопоставление новой России западной Европе.
Ориентация на «исконно-русское разрешение» мировых конфликтов, присущая авторам русской эмиграции, впрочем, не была специфическим «русским взглядом». Германские авторы 1920–1930-х годов видели будущее мира сквозь призму их локальных национально-консервативных взглядов: в их произведениях Германия снова превращалась в великого лидера техники, политики и мировой истории; этому предшествовали катастрофические разрушения, политические и социальные конфликты, которые вели к гибели людей в результате воздействия гипнотического оружия и к вознивению нового государства Атлантис со столицей Ной-Гамбург12. По подсчетам литературоведа Кристины Платт только в Германии в эти годы было опубликовано 400 футуристических романов. Во французской литературе жанр антиутопического романа открывает Эмиль Сувестр книгой “Le Monde tel qu`il sera” («Мир, каким он станет») (1846). Роман описывал мир в 3000-м году, в котором не существует более чувств, литературы, воспроизводство человека происходит только искусственным путем13. В Англии вышли антиутопии «Грядущая рада» Бульвер-Литтона (1870), «Через Зодиака» Перси Грега (1880), «Машина останавливается» Э.М. Форстера (1911) и др.14 Среди европейских авторов, которые оказали влияние на развитие русскоязычной утопии следует также отметить Герберта Уэллса, Анатоля Франса и Джека Лондона.
Футуристическая литература, как и приключенческая фантастика были востребованы временем и читательской ауди торией, потрясенной растущей скоростью нового века и вырванной из «своего мира». В произведениях разных документальных и художественных форм эмигранты продолжали задаваться вопросом: «Что там сечас в той, другой России? И что будет со страной без нас?» Тема апокалипсиса, который ведет к краху и возникновению новых политических сил, новой страны, являлась определяющей во многих произведениях. Авторы описывали спасение/возрождение прежней, прекрасной России благодаря чудесным силам. Без большевиков. Так киносценарий Льва Лунца «Восстание вещей» заканчивается апокалиптическим предсказанием: «Война! Будет невиданная война!.. И голод!.. И мор!.. Смерть! Река, красная от крови, бежит по сожженным полям. Трупы, трупы, трупы. И все-таки это лучше, чем царство мертвых»15.
Будущее власти и большевистская диктатура настоящего были знаковыми темами для авторов русского зарубежья 1920-х годов. Одни верили в успех контрреволюционного движения, другие – в реставрацию монархической власти. Писатель Михаил Первухин (1870–1928) наполнил исторический сюжет своего романа «Пугачев-победитель» (1924) фантастическим вымыслом: самозванец Пугачев воцаряется в Кремле, императрица Екатерина с наследником Павлом сначала якобы погибают во время кораблекрушения, но позже чудесным образом оказываются спасенными. Борьба за власть между дворянами, «временным правительством» и диктатором (Григорий Орлов) должна была отсылать читателя к недавним событиям российской истории, а историческая параллель с восстановлением монархии давать надежду на то, что наследники царской семьи являются единственной законной властью в России. Последние слова романа, наполненные пафосом, апеллировали к патриотическому чувству веры в незыблимость имперского духа отечества: «Россия будет! Великая Россия, Единая, Неделимая! Будет – грозная всем врагам!». Не удивительно, что автором предисловия к первому изданию романа был поэт и масон Сергей Кречетов, один из сооснователей контрреволюционной эмигрантской организации «Братство русской правды». В своем предисловии Кречетов отмечал, что в романе «мы переживем снова, хотя и в иной обстановке, развал, муки и судороги России. Мы увидим неведомо откуда пришедшего самозванного повелителя России с его каторжными сподвижниками, пирующего в кремлевских палатах. Мы увидим и их ‘Государственное строительство'». Кречетов был больше литератором, чем контрреволюционером: ему импонировала литературная форма, позволяющая моделировать события, забывая о том, что история не имеет ни обратного хода, ни сослагательного наклонения. Его вопрос: «Что было бы, если бы в свое время Пугачев победил?» был риторический. И дабы убедить читателя, который терял надежду на возвращение на родину, Кречетов, предварял роман, восклицанием: «Россия будет!». В романе П. Тутковского «Перст Божий. Гибель российской коммуны», вышедшем в том же году, что и роман Первухина, но в Румынии, миссией спасения наделяется ученый-эмигрант, который невидимкой проникает в Россию и смертельными лучами поражает всех большевиков. Власть временно переходит к патриарху до воцарения монарха. Былинное по своей сути жизнеописание советской власти (картина смерти Ленина, лидеров партии, ГПУ и пр.), содержит много клише из эмигрантской публицистики тех лет, но интересно, пожалуй, впервые представленным на русском языке монологом ученого об ответственности за изобретение и использование смертоносного оружия. Тема «личности в критических обстоятельствах в настоящем и будущем» (войнах, революциях и пр.) интересовала не только профессиональных писателей, но и психологов. Пример этому, тексты уже упоминавшегося выше Фишеля Шнеерсона («Общество людей», титул на идише «Der veg tsum mentsh» (Mentshgesellschaft), 1927 г., Берлин) и роман Натана Фиалко «Новый град», впервые опубликованный на английском языке в 1925 г. (год спустя после выхода романа Евг. Замятина «Мы») и переизданный в 1937 г. в Нью-Йорке с расширенным титулом «Новый град. История будущего».