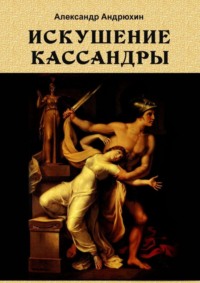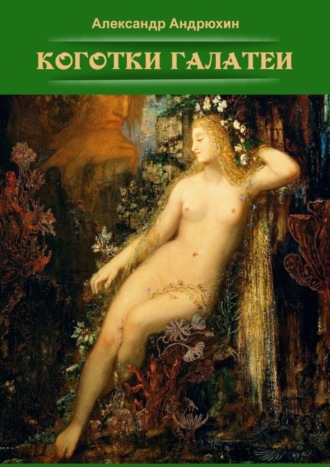
Полная версия
Коготки Галатеи
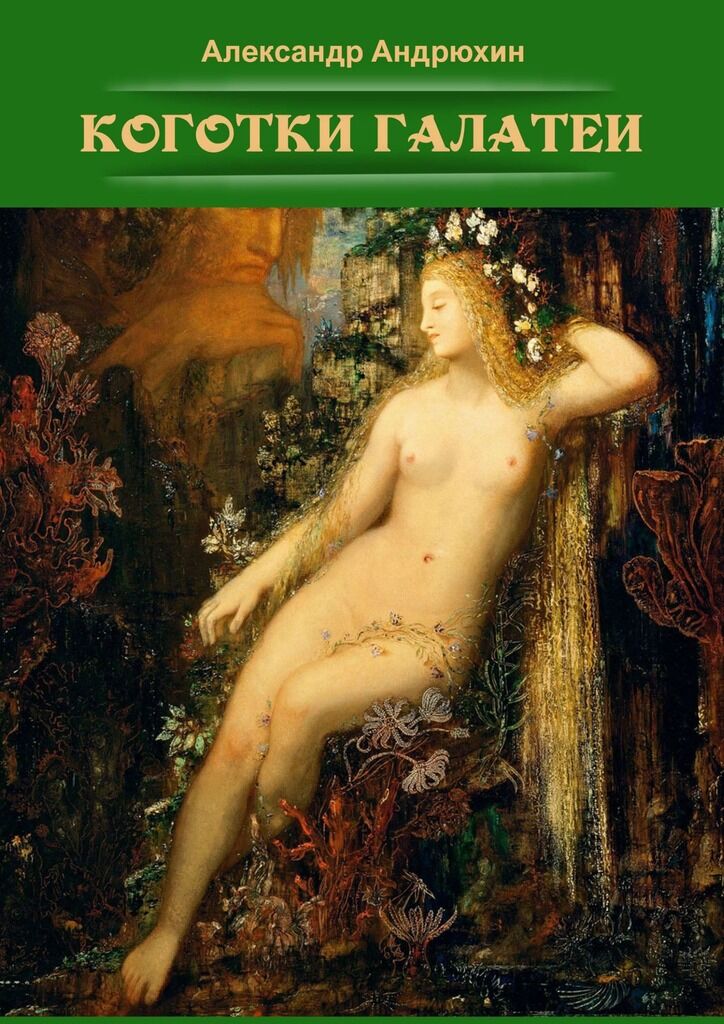
Коготки Галатеи
Александр Андрюхин
© Александр Андрюхин, 2019
ISBN 978-5-4496-2190-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть первая
МУКИ ПИГМАЛИОНА
Следователь В. А. Сорокин
Убитых в доме оказалось трое, а не один, как утверждал свидетель из соседнего дома. Первый лежал при входе. Его лицо было изрублено до такой степени, что походило на бесформенный кусок мяса. Только по удостоверению в кармане мы определили, что тело принадлежит члену совета директоров фармацевтического акционерного общества «Симбир-Фарм» С. В. Клокину. По данным экспертов, пострадавший получил пять ударов топором: три по лицу и два по темени. Кроме того, у убитого перебит позвоночник в районе поясницы. В карманах жертвы найдено пятнадцать тысяч долларов.
В гостиной за столом в сидящем положении обнаружены еще двое. У них проломлены черепа. Они получили по одному, но очень сильному удару, очевидно, тем же орудием. Смерть у обоих наступила мгновенно. По всей видимости, преступник был в состоянии сильного аффекта.
Один из трупов в гостиной принадлежал хозяину этого дома, главе фармацевтической фирмы «Симбир-Фарм» А. П. Рогову, второй – его водителю Л. Н. Петрову. Правая рука Рогова сжимала газовый «Вальтер» с передернутым затвором и взведенным курком. Одна рука водителя держала рюмку, другая – вилку с нанизанным огурцом. На столе стояли три початые бутылки водки. При осмотре трупов, в карманах председателя АО было обнаружено восемнадцать тысяч долларов, у водителя – десять тысяч долларов. Кроме того, из нагрудного кармана рубашки Рогова изъяты алмазное колье и золотые серьги с рубинами.
Все трое погибли в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предположительно, каждый выпил почти по литру. Под столом обнаружено пять пустых бутылок из-под водки. По словам соседа Чебыкина, пьянка в доме Рогова началась сразу после их приезда. А приехали они в начале одиннадцатого утра.
Орудие преступления не обнаружено. Также не были обнаружены отпечатки пальцев преступника. Обе двери, ведущие в дом, убийца открыл ногами, обутыми в кроссовки, ориентировочно сорок второго размера. Следы тех же кроссовок найдены на крыльце и в гостиной. По ним можно судить, что убийца действовал в одиночку. Скорее всего, он был знаком с хозяином особняка.
По следам обуви убийцы можно произвести приблизительную картину происшествия. Немаловажно, что его появление в доме Рогова никого не всполошило. Во всяком случае, при виде его водитель спокойно подцепил на вилку огурец и собирался опрокинуть очередную рюмку. То же самое, очевидно, намеривался сделать и член совета директоров. Но неожиданный гость завел разговор, который заставил хозяина дома залезть в карман, достать «Вальтер» и передернуть затвор. Двое других оставались невозмутимыми, что свидетельствует о том, что у преступника сначала не было в руках топора. Он его достал потом: либо из сумки, либо из-под куртки, но уже после того, как Рогов передернул затвор «Вальтера».
Неизвестный ударил Рогова сразу после того, как он взвел курок. Далее, не дав опомниться, он ударил и водителя. Клокин, судя по всему, бросился бежать, но у самого выхода преступнику каким-то образом удалось сбить его с ног. Думаю, что он метнул в него топор, причем с такой силой, что перебил позвоночник. Остальные пять ударов в лицо и темя убийца нанес уже после того, как жертва свалилась на пол. На все это у преступника ушло не более пяти минут. После чего он положил орудие убийства обратно в сумку, перешагнул через труп, наступив пяткой на кровь изрубленного им Клокина, и скрылся. Его следы затерялись в траве тотчас, как он сошел с крыльца. Также не было обнаружено никаких следов и за пределами двора. Приехал ли он на своей машине, на такси, или пришел пешком – установить не удалось.
По данным экспертов, тройное убийство было совершено между 17:00 и 17:30. На место происшествия следственная бригада прибыла в 19:30. Вся областная милиция поднята на ноги. Личный состав ищет человека среднего роста, в кроссовках сорок второго размера со следами крови на одежде.
Итак, смерть Рогова и Петрова наступила мгновенно. Клокин скончался после пятого удара в темя. Странно, что соседи ничего не слышали. Однако между 17:00 и 17:30 они чувствовали какой-то специфический запах гари, исходящий с участка Рогова.
И действительно в саду рядом с мусорной кучей обнаружено кострище с горкой пепла, на котором лежала полуобгоревшая пластмассовая канистра из-под бензина. Не исключено, что преступник, прежде чем покинуть место преступления, что-то сжег. По мнению экспертов, был сожжен большой кусок поролона. Также в пепле обнаружены клубок тонких проводов и расплавленные части от пальчиковой батарейки. Чтобы это значило?
28 августа 2000 года1
Сегодня понедельник, двадцать восьмое августа двухтысячного года. На часах половина одиннадцатого. За окном темно и видны звезды. Сказать откровенно, я впервые в жизни вижу за окном звезды. До этого в ночном стекле я замечал только свой унылый силуэт, склонившийся над настольной лампой. Но не об этом сейчас речь. А речь о том, что моя жалкая сущность впервые в жизни ощутила потребность в писании дневника. Если бы я не сгубил душу, или сгубил ее хотя бы наполовину, тогда бы я бросился на колени перед иконой молить о прощении грехов. Но я не настолько глуп, чтобы не понимать, что мои грехи не входят в категорию прощаемых.
Итак, «я не преследую цель оправдать себя ни перед Всевышним, ни перед людьми». Это первое, что я записал в дневнике. Второе: «я не хотел бы, чтобы мои записки кто-нибудь прочел». Когда я почувствую, что мне приходит конец, я постараюсь их уничтожить. Третье: «несмотря ни на что, я снова начал осознавать себя. Я как будто заново родился. Точнее: наконец проснулся!» Вот же черт!
Это случилось в ванной, когда я в одежде и обуви стоял под ледяным душем. Я отметил, что сегодня утром уже стоял под этим душем, но это был не я. Вернее, я наполовину. Точнее, я полуспящий. И вот теперь пробудился. А до этого я чувствовал, как мне молотят по щекам. Я еще подумал, что пробуждение в этом мире всегда происходит через какие-то шлепки.
Кстати, я где-то читал, что чем полнее пробужден человек, тем он больше помнит из своего детства. Толстой, к примеру, помнил, как его пеленали. Я же помню, как меня отпускали на Землю. Можете не верить. Это ровным счетом ничего не меняет ни во мне, ни в устройстве этого скучного мира.
Как сейчас себя вижу в каком-то сумрачном, густо населенном месте. Не могу сказать, что это за место и кем оно было населено, но даю голову на отсечение, что оно существует и по сей день, и что все это, о чем я рассказываю, происходило до моего рождения. Наиболее характерные ощущения, оставшиеся в памяти, – тоска, безлюбовье и вечное отсутствие света. Сзади смутно вырисовывался темный барак, коридоры которого уходили глубоко вниз. Меня вызвал на поверхность какой-то старичок в холщовой рубахе, которая была выпущена поверх его льняных портков. Когда я вышел, он хмуро приблизился ко мне и как-то очень просто и буднично произнес:
– Собирайся, пойдешь на Землю.
– Кто? Я?
– Не я же.
– Вы это серьезно?
– Серьезнее некуда.
– Вот же черт! Учитель! Как я счастлив!
– Не поминай черта всуе!
– Вы отпускаете меня с миссией?
– Отпускаю в последний раз.
– А дальше?
– Много будешь знать – скоро состаришься.
– Значит, я доживу там до старости?
– Если не убьют.
– Что вы такое говорите, учитель? Неужели там убивают?
– Случается. Иногда даже топорами?
«Какое же там все-таки варварство, – подумал я, но следом прогнал эту мысль прочь. – Пустяки! Любое варварство можно скрасить любовью…»
И в ту же минуту из барака выпорхнула встревоженная девушка, той самой первозданной красоты, к которой всегда стремилась моя душа. Она ласково обняла сзади, и мою сущность обволокло сладкой истомой. Эта была она. Но, боже мой, почему я об этом догадался только сейчас? Тогда бы моя жизнь не закончилась так глупо! Однако даже она не заронила во мне ни капли сомнения в необходимости командировки на Землю. Старик отвел глаза и треснувшим голосом прошамкал:
– Но, учти, она останется здесь. Ты будешь искать ее и не найдешь, а похожие на нее будут приносить тебе страдания…
Страдания? Какой вздор! Страдание – выдумки непросветленных людей. К тому же физические страдания – это ничто по сравнению с вечными сумерками и безлюбовью…
Однако, что за черт? Кто так остервенело молотит меня по щекам? Пришлось сделать усилие, чтобы разлепить веки. И первое, что я почувствовал, неимоверную тяжесть на сердце и бессмысленный шум в ушах. Я открыл глаза и сквозь туман увидел испуганное лицо соседки. Она тормошила меня за ворот. С ней было еще двое: дядя Коля, старший по дому, и дворник (не знаю, как зовут). Окна и двери были распахнуты настежь. Мою шевелюру шевелил сквозняк.
– Ну, слава Богу, ожил! – облегченно вздохнула соседка. – Мы думали, вам конец? Даже «скорую» вызвали.
– Что случилось, Марья Ивановна? – удивился я, с трудом отлепляя чугунную башку от рыхлой спинки кресла.
– Это вас нужно спросить, что случилось? – ответила Марья Ивановна сердито. – Вы чуть не взорвали весь дом. Ладно, вот Николай Петрович учуял запах газа. Ему скажите, спасибо! Это просто чудо, что ваша дверь оказалась незапертой. А то мы уже приготовились ломать. А если бы кто-нибудь зашел с сигаретой в подъезд. Все – кранты! Разнесло бы к чертовой матери, как в Бийске. Как же вы так, Саша? От вас вроде водкой не пахнет.
Пришлось сделать изумленные глаза и кинуть взор на газовую плиту. Голова продолжала гудеть.
– Извините, Марья Ивановна. Я только что приехал из командировки. Не думайте, что я пьяный. Я просто устал, как собака. Поставил на плиту кофеварку и сам не помню, как отрубился…
Убежавший кофе, который залил конфорку, красноречиво свидетельствовал об искренности моих слов. Старший по дому укоризненно покачал головой и нравоучительно изрек, что лучше бы я напился, тогда бы возможно подобного не случилось, поскольку алкоголь прочищает мозги. Пришлось долго извиняться, оправдываться и обещать, что впредь буду неукоснительно пользоваться его советом. Еще немного постыдив, делегация направилась на выход. Но, прежде чем исчезнуть окончательно, Марья Ивановна трижды обернулась и трижды напомнила, что своим нюхом спасла мне жизнь. Я трижды поблагодарил ее за нюх и, наконец, захлопнул за ними дверь.
После того, как они ушли, я поплелся в ванную, стараясь не глядеть в комнату, где у окна еще стояло ее кресло. От кресла нужно избавиться как можно быстрее. Оно, купленное когда-то в самом дорогом антикварном магазине, красноречиво свидетельствовало о моем падении.
Признаюсь, я слукавил. Конечно, я не помню, что было до моего рождения. Тот старик в холщовой рубахе и девушка, выпорхнувшая из барака, приснились мне после развода с моей первой женой. Но это не был сон. Это было воспоминание. Только сейчас начинаю соображать, зачем оно мне было ниспослано. Я даже вспомнил слова старика относительно моей первой жены.
– Что, не понравилось? – произнес он ворчливо, больше с равнодушием, нежели с укором. – А ведь я предупреждал, что ты не будешь счастлив…
После этого он сказал что-то очень важное, то самое, ради чего мне и приснился этот сон. Но я не принял его слова всерьез, и поэтому все забыл.
Я встал под холодный душ и вот тогда-то вдруг понял, что утром под ним стоял совсем другой человек, хоть и в моем обличии. Я недоверчиво себя ощупал. Затем внимательно всмотрелся в зеркало и увидел, что стою в одежде и кроссовках. Совсем спятил! В груди защемило так сильно, что я чуть не свалился на пол. Неужели я опять стал тем, кем был девятнадцать лет назад?
Девятнадцать лет назад мне было двадцать четыре. Я знал о жизни все. Был спокойным, улыбчивым, мудрым, а главное абсолютно уверенным в себе. Я четко осознавал, кто есть я и для чего был спущен на Землю? Именно тогда мне в руки и попался этот чертовый томик философа Юнга. Он предлагал написать пять пунктов, по которым я никогда не скачусь в Тартар, будучи уверенным в своей осознанности. Почти не раздумывая, я написал:
1. Я никогда не смогу убить человека.
2. Я никогда не смогу покончить жизнь самоубийством.
3. Я никогда не попаду в тюрьму.
4. Я никогда не стану жертвой страстей.
5. Я никогда всерьез не вживусь в этот мир, ибо он – всего лишь мираж.
2
«Ибо он всего лишь мираж!» – с улыбкой повторял я, видя, как окружающее все более прирастают плотью к этой презренной материи. Но если бы только плотью. Они врастают в нее всей своей бессмертной сущностью. Неужели никто не видит, что жизнь в материи ничтожна и коротка, а сама материя не более чем песок? Можно ли всерьез вживаться в то, что течет и сыплется?
Человеческую жизнь я всегда представлял в виде разового выезда на пляж. Привезли, скажем, к морю отдыхающих. Самые умные бросились резвиться, купаться и загорать. Самые глупые принялись занимать и огораживать участки, объявив их своей собственностью. Весь день их прошел в недовольстве и тяжбах с соседями. Возможно, к вечеру кому-то из них и удалось доказать свое право на жалкий клочок берега, но уже пора уезжать. И самыми счастливыми оказались те, кто не теряли времени на дележку песка, которого и без того навалом, а занимались тем, ради чего и прибыли к морю: наслаждались солнцем, волнами и свободой. Вся человеческая история – это бессмысленная дележка песка.
Мог ли при таком отношении к жизни я когда-нибудь всерьез вжиться в этот мир? Никогда! Однако вжился. И вжился с кровью. И все из-за этой мерзавки Галатеи.
Но если быть справедливым до конца, нельзя не сказать, что мое падение началось задолго до Галатеи. К нему меня шаг за шагом подталкивали две молодые женщины. Однако этих особ, из-за которых моя жизнь дала трещину, породила все та же пресловутая смертельная тоска.
«Знаете ли вы, что такое смертельная тоска? – вопросил я в дневнике, обратившись неизвестно к кому. – Если не знаете – вы счастливейший из смертных». Насколько мне известно, она посещает не каждого? Безусловно, это привилегия художников, но опять-таки не всех, а тех, которые растрачивают свое время по пустякам.
Тоска накатывает преимущественно ночью, особенно после пустого бестолкового дня. Она обволакивает чем-то вязким и зеленым и начинает нашептывать, что жизнь не бесконечна, и ты в ней не вечен, а за гробом пустота. А ты, скорее, случайность под этим небом, апофеоз генетических ошибок, и как ты ни молод сейчас, все равно тебя не минует острая коса смерти.
И вот уже представляешь себя на белой простыне под тусклой лампочкой в кругу плачущих родных. За окошком черно, на душе черно, черно в углах твоей квартиры, в глазах близких и во всех развешанных над тобой картинах, составляющих некогда смысл твоего существования. И куда бы ты ни кинул взгляд в ту отвратительную минуту, отовсюду на тебя надвигается эта густая бездонная чернота. И вдруг прямо на глазах начинают чернеть ногти рук, замогильно леденеть ноги, потом мучительные судороги, и, наконец, кульминационный момент, когда язык (независимо от того, сколько ты трепал им в этой жизни) проваливается внутрь и затыкает глотку. В глазах чернеет окончательно, и не просто окончательно, а – на вечные века. И ты с тоской осознаешь, что через мгновение станешь роскошным кормом для червей, а этот мир как жил своей суетливой, торопливой, может быть, скучной, но все-таки солнечной жизнью, так и останется жить, и ничто в нем не изменится с твоим исчезновением…
Теперь я понимаю, что подобное снисходило ко мне как предупреждение за пассивность и лень. У каждого свой путь к спасению души. Мой – заключался в картинах. «Но ты транжиришь время, художник, а с ним рискуешь потерять бессмертие», – вот что не удалось мне услышать тогда. Ведь самое бесценное, что есть в этой жизни, – и есть время, отпущенное нам для совершенствования. И мой мастер не уставал повторять: «Не теряйте времени – творите! Не всем дано право творить. Вы это право заслужили прошлыми жизнями».
Но и без его наставлений я знал, что Божью искру, не подкрепленную трудом, ждет та же участь, что и костра, не подкрепленного дровами. Точнее сказать, что костер без дров вообще не может существовать. Словом, я трудился. Трудился дни и ночи. Боже, как добросовестно я трудился! И энергии было достаточно, и фантазии – хоть отбавляй.
Но что случилось на двадцать втором году от рождения меня? Меня заметили. Меня назвали гением. Мне стали авансом возносить хвалы. Нет-нет, я не заболел звездной болезнью, как последний провинциальный идиот, а скажем мягко: «слегка прихворнул». И этого было достаточно, чтобы чуть облениться, или свысока взглянуть на своего собрата по кисти. Словом, я «дал слабину», и расплата не замедлила явиться.
«Что в жизни никогда не остается в долгу, так это расплата за высокомерие», – записал я в дневнике, и в прихожей раздался звонок.
«А вот это уже излишне, – усмехнулся я. – Квартира открыта настежь». Я прошлепал в коридор и распахнул дверь. Передо мной стояла толстая медсестра, а из-за ее плеч выглядывал угрюмый санитар с носилками.
– Вы вызывали «скорую»? – спросила она.
– Нет, – ответил я кротко.
Сестра подозрительно вгляделась сначала в меня, затем в пространство за моей спиной и наконец остановилась взглядом на выбитом замке.
– Эта квартира восемь?
– Восемь, – подтвердил я.
– Здесь отравились газом?
Пришлось здесь круглые глаза и театрально втянуть голову в плечи.
– Вас дезинформировали. Здесь никто не отравлялся.
Медсестра повела носом и снова подозрительно посмотрела на раскуроченный замок.
– Странно, – произнесла она с раздражением. – «Неотложку» вызвала некая Мария Ивановна.
– Впервые о такой слышу, – развел я руками, невольно покосившись на соседскую дверь. «Не дай Бог, сейчас выглянет…»
Но она, слава Богу, не выглянула. И бригада скорой помощи, ворча и проклиная темноту в подъезде, отправилась обратно, на ходу грозя, что в это район они больше ни ногой.
После того, как дверь подъезда яростно хлопнула, я полез в шкаф, достал гвозди, молоток и стамеску. Все-таки нужно починить замок. Дверь, судя по всему, была выбита одним пинком. Сам замок почти не пострадал, если не считать легкого изгиба язычка. В основном пострадала скоба, да еще косяк, от которого отлетела щепка.
Скобу я выправил двумя ударами молотка, язычок одним. Щепку от косяка приложил к прежнему месту и забил гвоздями. Через десять минут запор был восстановлен. Мне всегда без труда удавались хозяйственные работы. Быт меня никогда не напрягал. Закрывшись на ключ, я положил инструмент на место и зашел в залу. Увидев пустое кресло, я застонал и снова убежал на кухню. Ничего не поделаешь. Придется спать на тесном кухонном диванчике. Раскрытая тетрадь под настольной лампой по-прежнему лежала на столе. Однако на чем я остановился? Ах да: на смертельной тоске.
Тогда в юности я неправильно истолковал нисходящую на меня тоску. Я перепутал ее с одиночеством. Хотя только в одиночестве человек и способен по-настоящему творить. Не зря же Бог разрушил Вавилонскую башню, потому что не захотел принять коллективного творчества. И если сегодня вы спросить, откуда у меня взялась Алиса, семнадцатилетняя длинноногая акселератка, не лишенная некоторых прелестей, я могу ответить точно: ее породило одиночество.
Мне стукнуло двадцать четыре, когда мы столкнулись с ней на выставке одного новоявленного авангардиста. Сейчас затрудняюсь сказать, понравилась ли она мне? Тем не менее, из Дома Художника мы вышли вместе и побрели по сумрачному городу, беседуя о новых течениях в живописи, в которых она была абсолютной дилетанткой. Скорее всего, в ней что-то было, если за столько лет, перевидав множество красивых натурщиц, я решил пригласить в гости именно ее. А возможно так распорядилась судьба. Впрочем, в судьбу я тогда не верил. Точнее, верил, но не предавал ей значения…
Все! Хватит. Пора спать. Ведь завтра утром на работу.
Не раздеваясь, я лег на маленький диванчик, на котором можно поместиться только в скрюченной позе, и потушил настольную лампу. «Хлобыснуть что ли стакан водки для отрубона?»
3
В тот вечер было так же серо, как сегодня. Мы бодро топали по затихающему городу в мою однокомнатную «хрущевку», и я распылялся крылатыми притчами своего учителя о творческом расцвете гения. По его словам, расцвет художника приходится на возраст от тридцати двух до тридцати восьми лет.
– И если в этот промежуток времени ничего не создашь, то в сорок, милая, ловить уже нечего, – добавлял я. – Если бы Гоген ушел из дома не в тридцать пять, а четырьмя годами позже, то мир бы уже никогда не увидел его великолепных картин.
Она слушала и кивала. Кивала и ни черта не понимала. Но все равно кивала, и я не мог определить, нравится мне такое послушное согласие, или наоборот? В тот вечер на меня напало небывалое красноречие. А почему бы не потрепаться после стольких лет молчания у мольберта? До начала моего творческого расцвета оставалось восемь лет, а до возраста Гогена одиннадцать. За это время можно нарастить такую технику, какая не снилась и Рафаэлю. А техника – фундамент любого дома. Что касается фантазий и способностей ухватить образ – их отсутствием я не страдал никогда.
В тот вечер я сам поражался своему красноречию. Возможно, в прошлой жизни я был ритором. Я заявлял, что выше искусства может быть только само искусство. Я крыл последними словами Гегеля, который утверждал, что философия важнее искусства. Но философия находится всего лишь на плебейски умозрительном уровне, потому что требует слов, а там, за облаками, восприятие происходит через символы и образы, на которые открывает глаза прекрасное. Я наголову разбил Гете, полагавшего, что религия значительно выше искусства. Но к религии допускаются все, а к искусству избранные.
– Ведь быть талантливым, значит усечь те законы, по которым творился этот мир, а быть гением, значит творить собственные законы! – кричал я на всю улицу.
Кажется, я прошелся еще по Аристотелю, Дидро и Шеленгу. И, разумеется, всех их смешал с бульварной пылью. Зато обласкал старика Канта, который, как и я, полагал, что гении существуют только в искусстве. Закончил я все это выводом, что выше художников могут быть только Боги. Но и подобная наглость не возмутила мою собеседницу. Она так же послушно кивнула, и после этого я замолчал надолго.
Однако у подъезда, когда я предложил ей послушать Вивальди, мой голос предательски дрогнул, и она не могла не догадаться, что Вивальди – всего лишь повод, чтобы заманить ее в дом. Она также послушно кивнула и жеманно отвела глаза.
Пожалуй, не нужно было приплетать сюда Вивальди. Зачем великих впутывать в свои мелкие похотливые делишки? Между низменным и высоким должна стоять четкая и жесткая граница. Теперь я это понимаю. А понимал ли тогда? Честно говоря, не помню. Но зато на всю жизнь запомнил, как екнуло в груди сердце, когда мы переступили порог моего жилища. Почему-то стало грустно, и я весь вечер не мог понять причину этой грусти.
Я ставил Корелли, Вивальди, Телемана, и она слушала с завидным вниманием. Я показывал свои работы, и она закатывала глаза. Я выбалтывал свои замыслы, о которых не рассказывал даже мастеру, – что мечтаю научиться рисовать во сне и, тем самым, пойти дальше тех итальяшек, царапающих что-то на тему снов в жанре сюреализма. Ведь они воспроизводят всего лишь клочки воспоминаний из своих ночных блужданий. Я же собираюсь писать точную потустороннюю явь. Она распахивала ресницы и долго с изумлением смотрела в глаза.
Тоскливо пиликала скрипка Вивальди, и сердце сжималось от новой неведомой печали. И я не мог не уловить в своем любимом концерте для скрипки с оркестром какие-то нотки обволакивающей безысходности. Мы пили не очень хорошее вино и заедали не очень дорогими конфетами. А за окном темнело. Проигрыватель продолжал играть, и я томился ожиданием той минуты, когда она запросится домой. Спохватись она вовремя, я с готовностью проводил бы ее на любую окраину города и никогда бы потом не помышлял о встрече. От этой мысли на сердце щемит и по затылку бегут мурашки. Ведь тогда бы моя жизнь потекла совсем по иному руслу.
Но она продолжала кивать и закатывать глаза, будто совсем забыла о тикающих над головой часах. А после одиннадцати из нашего района не выберешься, а стрелки, между тем, крались к двенадцати. Черт! Как невыносимо тоскливо ныла скрипка моего любимого Антонио. И диван у меня всего один…