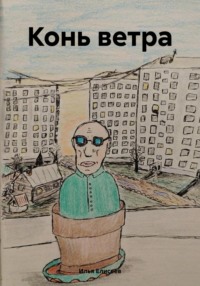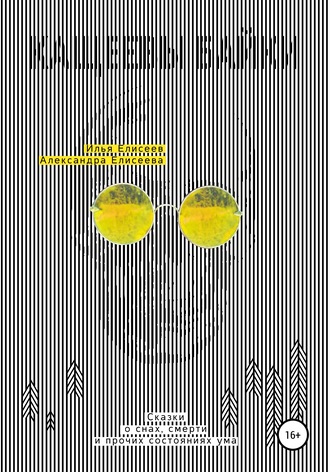 полная версия
полная версияКащеевы байки. Сказки о снах, смерти и прочих состояниях ума
– Чой-то вы нежные пошли какие-та, – пробасила гусеница густым, утробным голосом. – Усё норовите повалиться куда-то. Я вот в твоей бороде оказался, и че? Падаю? Причитаю? Нет, держу тебя, задохлик. И мне хоть бы чаво… Э, э, ты че, родимый?
Гость заскулил и зажмурился. Гусеница висела в воздухе без внятной точки опоры. Кащей решил взять ситуацию в свои руки.
– Геннадий Петрович, оставьте нас, прошу. Видите же, юноша вас побаивается. Вы идите, идите. Я скоро прибуду. Только порядок наведу и догоню, – неопределенно вращая рукой в воздухе в поисках вежливых формулировок, заявил Кащей.
– Ох, молодежь, ятить ея в дышло. Штуденты чортовы! Нет чтобы… – пробормотал гусеница Геннадий Петрович и пропал. Мужчина упал на седалище и резко открыл глаза.
– Признаюсь! – завопил он. – Признаюсь! Я не виноват! Не стреляйте! Я! Я! Мама, за что?!
Кащей обернулся. За границей отверстия дым рассосался, и проявились детали. На столах валялись какие-то запчасти от вычислительных устройств, учебники по квантовой механике и астрофизике, сопровождаемые паяльными инструментами и горками прочих технических штучек. На одной из серверных стоек грозно красовалась слегка закопченная вырезка из журнала про очередной эксперимент в адронном коллайдере. Кащей все понял. Он подошел к скулящему разноцветному, взял его за грудки и резко поставил на ноги, дал пару пощечин и встряхнул. Гость лязгнул челюстями и часто заморгал.
– Это уже третий раз! Все, мое терпение кончилось! Вы, дурные, ничего, что ли, не понимаете? Я русским языком тебе говорю, ты, четвертый курс, передний край науки! Передай своим друзьям, интеллектуальным гопникам, и себе на носу заруби! Не лезьте на мой кордон! Ни в каком виде. Никак. Никогда. Сначала они дырку пробили в пространстве-времени, потом зонд запустили, а теперь еще и астро… космо… психонавт ко мне провалился. Я зонд ваш еле поймал! И дырку заколотил. Что вы сделали в этот раз? А? Отвечай, студент разноцветный!
– Мы думали, что первые два эксперимента не удались… Ничего не засняли… Приборы накрылись… Думали, мощность не та… Ну мы и это… – засипел и завякал гость.
– Что «это»? Ну что «это»? Конечно, приборы ваши ничего не сняли! Они же построены по принципам вашего мира, вашей физики. А тут все иное! Это изнанка реальности! Гусеницу видел? Видел? – мужчина неистово закивал, барахтаясь в кащеевой хватке. – Это ваш зонд. Пока суматошный прибор метался по кордону, в него по случайности вдохнули разум древние боги. У них встреча была, ежегодный симпозиум. Ну, так вот ваш зонд стал мыслить и решил, что он является сантехником-буддистом из-под Ростова, за неумеренное пьянство переродившимся в гусеницу. И что мне с ним делать? Он же не мертв, ему в Царство мертвых нельзя. И не жив, потому что прибор. А теперь он еще и гусеница, и алкаш-сантехник с убеждениями. И это все по вашей вине! Чего вы хотели сделать своим этим прибором? Ну, отвечай!
– Мы… хотели, – лязгая зубами, просипел гость, – создать… тоннель… в пространственно-временном… континууме… пронизать пространство…
– И что вы сделали? Опять из г… хм… на и веток собрали какой-нибудь карманный коллайдер?
– Не совсем. Это только в газетах пишут, что от столкновения частиц может получиться червоточина, – студент приободрился и перестал мучительно икать. – Мы построили…
Договорить не получилось. Кащей сверкнул глазами и снова затряс студента. Глаза Царя мертвецов запульсировали ярким, болезненным белым светом.
– АААА! Экспериментаторы! Частицы! Физика! Химия! Полгорода без света оставили, чуть дом не спалили и мне испохабили отличный кусок пространства! Все! Терпение мое кончилось! В следующий раз я никого встречать не буду! Экспериментаторы! Ученые! Вместо того, чтобы к щиткам чужим на халяву подключаться, лучше бы точнее считали и паяли как следует! В общем. Еще раз вас увижу – пеняйте на себя. Никаких червоточин, никаких приборов! Все, пшел! – Кащей нервно размахнулся и забросил гостя в отверстие. Полыхнуло светом, дохнуло озоном, и все вернулось на круги своя.
Кащей удовлетворенно потер руки, ликвидировал площадку с травой и упруго заскользил сквозь нечто. Геннадий Петрович был прав – надо решать проблему кардинально, то есть идти с просьбой к Гермесу Трисмегисту. Эти студиозусы со своей наукой уже почти приблизились к тому состоянию, когда они, толком ничего не зная о реальности, уже могут сделать нечто веселое и с последствиями. Как всегда – мощности есть, а комплексного понимания нет. К примеру, откуда им знать, что все две дыры и одно отверстие в пространстве-времени получились не потому, что они создали гениальный прибор и перегрузили почти половину питерской энергосети. Кащей узнал во время контакта с гостем, а скорее, даже почувствовал, что их разноцветный товарищ, любитель «Койл», за три дня и три ночи до запуска слушал очень необычную композицию в специфическом состоянии, а потом случайно порезался об острый край прибора в нужном подвале под нужным сочетанием звезд. От этого, а еще от миллиона совпадений появилась исчезающая вероятность, затем напитанная огнем воли студентов-экспериментаторов. И вот, они чуть не померли. Хотя… Кащей вдруг осознал, что, несмотря на все панические неудобства от любопытных студентов, он все равно будет носиться по границе миров и вытаскивать их из неприятностей. Они несут в себе зерно нового мира, причем для всех сразу. Может быть, не сейчас, потом, спустя годы, эти люди сделают нечто принципиально новое – то, чего еще не было в мире. И тогда реальность изменится, заскрипит Великое Колесо и продвинется еще на шажок к заветной цели для всех живых, мертвых и промежуточных состояний ума… Впрочем, пока об этом рано.
Отныне ему надо быстрее двигаться, а для этого нужны сандалии Гермеса. Придется ехать к старому пройдохе, пить амфорами вино и говорить о подобиях.
Кащей вздохнул и ускорился, ввинчиваясь на виражах в фиолетово-лиловую структуру нечто.
Закулисье № 1
Кот Баюн поднатужился, встал на задние лапы и молвил человечьим голосом:
– Царица, этого пора выводить. Он на границе сна и яви.
Кащеева жена ухватила за рукав сидящего на полатях посреди избушки человека, обернулась соколом и махнула железным крылом в сторону печной трубы.
– Нам туда.
Человек озадаченно посмотрел на нее:
– А через дверь никак? – и расхохотался своему небывалому остроумию так неудержимо, что исчез. Реальность сна схлопнулась, избушка пропала. Кот Баюн и Кащеева жена оказались на покрытой пожухлой травой пустоши Подмостков.
– Никак, – отрезала Кащеева жена, по привычке прочищая под крылом. – Хоть какое-то развлечение Царице, а то все через дверь да через дверь. Сам ведь избушку без окон в сон поместил. Какой с меня спрос?
– Проснулся, – констатировал Кот Баюн. – Но не отоспал свое. Через пять минут снова уснет, и лови его потом по всему Закулисью. Эх, Царица, при такой работе валерьянка полагается за вредность!..
– Выполола всю, – сообщила Кащеева жена. – С валерьянкой я тебя, Проводник, самого ищу за всеми кулисами. Тебе ведь после первой с каждым участником выпить надо. А посетители потом просыпаются и массово идут к психоаналитикам с вопросом, какого Лешего им снится пьющий валерьянку из рюмки кот. И мне, между прочим, за вредность никто не наливает.
Кот Баюн тихо вздохнул в усы и с мечтательной грустью подумал о небольшом тайничке, куда они с Серым волком как-то вечером потихоньку пересадили несколько нужных пахучих кустиков. Тайничок был, только очень уж маленький. А Кот Баюн – Проводник, но никак не садовод. Теперь жди, когда рассаду можно будет сделать, до того – ни-ни, все на трезвую голову, иначе закончится, а вдруг рассада не взойдет? Работа у него, что и говорить, ответственная. Собачья работа, а не кошачья. Только первые столетия справляешься без допинга. Попробуй, помотайся на миллионы сновидений, отправь актеров, которые мнят себя режиссерами, на сцену, подыграй им и сохрани здравый ум и трезвую память. Пройдет время, и ум с памятью станут вовсе лишними. Никто, кроме начальства, их не требует, а начальство не низший состав – представления не имеет о реальности.
Кащеева жена поманила Кота Баюна рукой и нырнула за ближайшую клубящуюся кулису. Кот Баюн воровато огляделся по сторонам, вынул откуда-то из густой шерсти на пузе крошечный пузырек и рюмку, открутил крышечку, плеснул, глотнул. Зажмурил раскосые желтые глаза, помотал головой, закрутил крышечку и постоял секунду. Потом дыхнул в сторону, понюхал воздух, вздохнул, открыл глаза и бросился за Кащеевой женой.
…
– Ядрена мать, Царица, почему ж так темно-то, елки?
– У сновидца спроси. Ну-ка стой! А ну дыхни!..
…
Вокруг простирался синий лес. Голубая тайга. Семнадцатилетний парень в очках стоял посреди этого леса и наблюдал за Злодеем, спускающимся на вертолете. У Злодея в руках был острый клинок, что отчетливо давало понять – именно он Злодей, а не кто-то там еще. Невдалеке парил Ангел, но почему-то крылья его были размыты, отчего он походил на облако. Парень рисовал их на альбомных листах. Картинки выходили детскими, но большего от него не требовали.
Кащеева жена подмигнула Коту Баюну и превратилась в девушку лет двадцати восьми, среднего роста, со светлыми, выстриженными ирокезом волосами над давно не бритыми затылком и висками. У нее были смеющиеся глаза, ласковая улыбка и широкие вишневые брови, нарисованные мимо настоящих, бесцветных.
– Н-наташа, – чуть заикаясь, выговорил парень. – З-зло-одей должен быть с острым клинком.
– Правильно, Тима, – согласилась Н-наташа. – Как иначе узнают, что он злодей? Только Ангел у тебя нечеткий. На облако похож. Нарисуй ему большие крылья. И покажи, что он добрый.
– К-как?
– Подумай.
Тима задумался. Вокруг него рос синий лес. Рядом за столом клеили деревья к этому лесу Володя, Сергей и Слава. Володя промазывал втулки от туалетной бумаги, обмотанной нитками, разведенным клеем. Слава наклеивал на втулки обрывки гофрокартона и вставлял одну втулку в другую, а потом придавливал, чтобы они проклеивались. Сергей делал мак – большие шары из проволоки, с нитками поверху. Слава промазывал их клеем и откладывал сушиться на клеенку. Так вырастал лес, синий лес из картонных деревьев, с которых спускались серые, плохо промазанные клеем нитки. Комната была маленькой, и основное ее пространство занимали столы и наваленные материалы для строительства.
– Все вокруг – мираж, – грустно произнес Тима.
Кащеева жена передернулась и превратилась в темноволосую девушку, сидящую напротив Тимы. Девушка мазала клеем втулки с нитками, чтобы нитки коры деревьев не отваливались.
– Сережа, мажь как я, – посоветовала она. – Крепче держаться будет. Представь, что ты мажешь шоколадную пасту на большой кусок хлеба. Ты же не жалеешь пасты? – Она задумалась и произнесла, – иногда мне хочется снова мыть волосы «Пантином». Это возвращает в детство.
В лесу играла Мирей Матье.
Тима встал и повертел в руках альбомные листы.
– Семнадцать картин, – сказал он.
– Семнадцать? – оживилась Н-наташа. – Давай восемнадцатую. Ангела дорисуй.
Тима мрачно посмотрел на лениво ковыряющего кисточкой с тонким слоем клея Сергея.
– С-сережа!
– А!
– Н-нам-мажь больше кл-лея!
– Я и так много мажу!
– Ты не промазываешь кору!
Кащеева жена хмыкнула.
– Сережа, Владимир Сергеич, Слава, Тима, мойте руки и обедать.
Все сновидцы, кроме Тимы, встали из-за стола, потягиваясь и удовлетворенно оглядывая результаты своих трудов. Сережа направился в сторону двери между деревьями, за которой крепилась раковина в общем туалете. За ним, похлопывая картонные деревья и проверяя их на прочность, косолапо потопал Володя. Тима быстро дорисовал последнюю картину и кинулся следом.
Остался один Слава. Он вдруг внимательно пригляделся к Кащеевой жене и спросил:
– А где Наташа?
– Баюн, – сказала Кащеева жена. – Выводи. Остальные пусть пообедают, если успеют.
Синий лес рос вокруг, бесконечный, сонный, медленный. С деревьев тянулись длинные, похожие на сопли, серые хлопчатобумажные нитки, купленные по дешевке оптом на ближайшей фабрике. Лес простирался на все пространство сновидения. Дальше были только кулисы, за которые никто на ее памяти еще ни разу не заглянул.
Сон в ноябрьскую ночь
Иногда сны так похожи на реальность. Для сновидящего, разумеется, но все же. Ощущения почти нельзя отличить от непосредственного субъективного опыта. Нельзя отделить от себя. Для человека такие переживания оставляют странный привкус после пробуждения. Встал. Умылся. Выпил кофе. И задумался – так оно было на самом деле или все же приснилось? Стоит этот человек с пустой чашкой в руке и думает, между всем прочим, опаздывая по важным делам. Для Кащея же такие сны – это способ непосредственно прикоснуться к восприятию людей. К тонкостям их мира, ощущения и мысли.
И вот она, восхитительная ночь. Оранжевая, рассеченная светом фонарей на множество самостоятельных отрезков пространства. Сверху плывет во времени луна, раздвигая своим светом легкие облака. Кажется, будто они проявляются в тот момент, когда она на них смотрит. А может, она появляется в момент, когда замерзшая фигура где-то далеко внизу обращает на нее свой фокус внимания? Кто знает, кто знает… Разве что даосские мудрецы, но они все равно ни на что не отвечают определенно.
Холод низко ползет колючками, рассыпая снег между темными островками почти невидимой, черной от влаги земли. Он неторопливо тянет свое длинное, неповоротливое тело по готовящемуся ко сну городу, приземисто скрипя колесами припозднившихся автомобилей. Тихо, так тихо вокруг. Человек внизу постигает тишину. В ней есть множество звуков, но она не теряет своей природы от их наличия. Нет, напротив, именно эти звуки – машины, далекие голоса, шорох ветра и далекая музыка, не к месту напомнившая про уже русские южные берега, утонувшие в стрекоте цикад, зелени акаций и шашлычном дыму, составляют истинное тело тишины, царицы отсутствия всего здесь и сейчас. Боги, как же холодно в ноябре… Так бывает только в конце осени, когда никто еще толком не привык к минусовой температуре и непроизвольно ежится в излишне теплых одеждах. А человек, между прочим, стоит и никуда не уходит. Надо на него посмотреть поближе.
Кащей подходит, невидимый и незаметный, плоть от плоти самого сна, и вглядывается внутрь. Молодой мужчина приплясывает в ожидании… в смятении… нет, не правильно. Это просто реакция на холод. Его место здесь и сейчас, ведь в холоде, темноте, ветре и снеге, в общем, в этой промозглой и совершенно обыденной ноябрьской ночи сосредоточена суть его памяти. Люди ведь странные создания, не так ли? Они думают, что память – это что-то вроде списка дат, чисел, имен и всех прочих фактов, эдакий гроссбух с обложкой из телячьей кожи. Стоит заглянуть вовнутрь, и там найдешь все, что тебе хочется. Наивные. Если уж сравнивать память с чем-то или кем-то, то на ум приходит какая-нибудь хищная тварь. Она крадется за своей жертвой многие дни, отмеряя шаг за шагом ее путь по бескрайним равнинам бытия. Жертва не подозревает, насвистывает себе под нос, а бестия хлещет себя по бокам хвостом и ждет, затаившись в кустах. Проходит время, сменяют друг друга мгновения и… вот оно! Один прыжок, один удар когтистой лапой – и в доли секунды спрессовывается единый миг бытия. Человек, может быть, не хотел, не собирался и вообще ни при чем, но таинственный механизм внутри его головы соприкоснулся с нужной комбинацией раздражителей, и вот, и вот, и вот оно. Открывается дверь. А внутри…
Внутри все. Он стоит, сжимая в мерзлых пальцах забытую последнюю папиросу, а тьма, холод и снег открывают перед ним гробницы прошлого. Мужчина оказывается мальчиком, юношей, снова собой и снова тем, кем был когда-то. Все происходит единовременно, сливаясь в бесконечный поток непосредственного переживания. Такое бывает только у людей. Возможно, именно в этом проявляется суть человечности? Не морали или принципов, не поведения, ума или какого-то иного отдельного признака или их совокупности, но самой основы людского бытия, его главной и совершенно неуловимой составляющей. В этом потоке переживания хаотически сложено все вместе и нет ничего отдельного, в нем, быть может, даже проявляется первопричина сложнейшего организма, который обладает главной ценностью во вселенной – разумом. Хотя, если подумать, то эта драгоценность оправлена в такое немыслимое количество эмоций, состояний и всех прочих явлений внутреннего и внешнего мира, что как-то даже непонятно, пользуется ей человек или нет. Впрочем, сейчас это неважно. Кащей пришел в сон мужчины для того, чтобы испытать его поток. Переживания живых в корне отличаются от ощущений мертвых. В них есть место материальной реальности, диктующей цельный ворох разнообразных раздражителей, условий, провокаций и так далее. Конечно, во сне, пусть даже самом реалистичном, есть свои погрешности, но для Царя мертвых это лучшая из возможностей погрузиться в самую сердцевину человека. Медлить тут нельзя, ибо время, как свойство реальности, также добросовестно есть и в этом сне. Кащей принюхивается и бросается в поток.
Как много.
Вот рука старшей сестры, теплая даже через ее перчатку и его варежку, ведет куда-то за собой. Девушка торопится на пары, кутаясь в слишком красное пальто. Он ничего толком не понимает, ведь вокруг метель и раннее утро, но эта опора, эта твердыня – всего один палец в маленьком кулаке, дает какое-то бесконечное чувство уверенности и правильности происходящего. Это ненадолго.
Он стоит на балконе, пьяный и раздетый, рассматривая, как через белую завесу пробиваются белые и красные огни. Снег идет с утра, но теперь, в два часа ночи, он превратился в стихийное бедствие, вынуждая полуночных автомобилистов сбросить скорость и возложить свои надежды на бешено размахивающие дворники. Ему все равно. Холод и вода омывают разгоряченное тело, равно разбитое алкоголем и осознанием собственной несовместимости с реальностью. Что делать с этой молодой жизнью, которая понемногу, будто прохудившийся в уголке мешок с зерном, изо дня в день теряет смысл? Есть какие-то люди, есть институт, есть распорядок и дела, но кому все это нужно? Не ему так точно. Все похоже на снег и фары, обрамленные оранжевым светом. Движение, только движение, без внутреннего содержания, продиктованное равнодушной природой. Никого нет рядом, нет ни одного человека. Одиночество. На балконе что-то говорят, кто-то пытается выдавить из себя бодрые слова, но…
Это бесполезно. Все бесполезно. Я не знаю, где я нахожусь. Отец ушел искать дорогу, сказал стоять здесь. Черные деревья закрывают небо, фиолетовое и низкое, будто фосфоресцирующее в своем сказочном несоответствии ситуации. Лыжный костюм когда-то был жарким, но теперь остывает, и в нем уже становится зябко. Ждать. Замерзнуть. Мы потерялись в снегах, до машины так далеко, и где же отец? Черт возьми, какая дурацкая смерть – помереть от холода в двенадцать лет… В жизни так много смысла, так много того, что надо сделать, понять, увидеть. Почувствовать. Все вокруг интересно, прям как снег, понемногу падающий через черные плети ветвей. Наверное, он скоро скроет лыжню. Стоп. Я слышу его дыхание… Он близко…
Я близко. Еще немного, и будет уже неловко, так что лучше обождать. Пусть она допьет чай, пусть стукнет чашка о блюдце и ее глаза встретятся с моими. Нельзя торопиться, это вредит. Нельзя показывать, это вредит еще больше – еще пара мгновений, и я не смогу сдерживать эту металлическую, холодную откровенность в моем нутре. Что она мне скажет? Что? Надо успокоиться. Я не могу потерять ее, только не ее и только не сейчас. Весь мир сошелся клином на этих глазах. Вдох. Отхлебнуть чай. Перевести взгляд на окно. В оранжевом отсвете белые тени мечутся, повинуясь размеренному дыханию ветра. Там темно. Тут тепло. Надо говорить, надо. А там будь что…
Было. Было время, когда рога архара упирались в небо, а хвост верблюда заметал пыль от его шагов. Я жду, когда ты выйдешь. Каждый раз я жду этого, хотя прошло уже порядком времени и часть явлений должна была пройти. Так говорят люди, но что они понимают о человеке, который и есть для меня весь мир? Каждый раз, когда я стою у подъезда, сижу в машине, прохаживаюсь, стряхивая холод с замерзших ног, у меня в голове вертится одно и то же. Это не чувство, не мысль, не состояние, это все вместе и порознь, разделенное и собранное вновь. Я прочитал в той книжке, что «было время». Нет. Оно есть и сейчас, но проявлено в ином. Есть одна и только одна сила, заставляющая рога архара снова упереться в небосвод. Ее невозможно ни с чем перепутать, раз испытав. У нее есть множество имен, но все они ложные, ибо сказанное слово есть ложь. Пройдет еще немного времени, упадет еще пара миллионов снежинок, моргнет фонарь, и я почувствую тепло твоей руки даже через варежку.
Да будет известно мое слово, проявленное в сути мира. Я, стоя на горе в центре всего сущего, провозглашаю: каждый есть звезда и каждый есть свет, и каждый есть царь мира сего. Да будет слово мое проявлено в сути мира, ибо познал я, что нет ни меня, ни его, ни сущего, но есть лишь образ, существующий в моем сознании. Да будет заключена и озвучена воля моя – я есть царь царей, я есть альфа и омега, я есть закон мира сего и имя мне…
Любовь.
Кащей отошел от мужчины. Повернулся к небу, фиолетовому от ноябрьской стужи, поправил воротник и сунул руки в карманы. Дома темной стеной окружили его, но это было всего лишь еще одно воспоминание. Его, не человека. Это значило, что пора было идти дальше. Жалко, однако, что люди так мало помнят, когда просыпаются. Впрочем, они вообще странные существа, не правда ли?
Зеркало мертвых
Мох. Куда ни глянь.
Он повертелся с боку на бок, осматриваясь, перевернулся на спину, запрокинув голову. Вокруг – один мох. Мягкий. Откуда его столько?
Мох рос не просто ковром – казалось, что он составляет основу этого мира, пружинящую, изумрудную, плотную. Любопытно, какова толщина мшистого покрова и далеко ли до земли? На ощупь определять это отчего-то не хотелось.
Лежа на спине, он смотрел в небо. Голубое и прозрачное, на далеком горизонте акварелью уходящее в зеленовато-розовый. Тишина. Хорошо. Он закрыл глаза.
И едва успел отскочить в сторону – прямо на него неслись люди, торопящиеся запрыгнуть в закрывающиеся двери вагона. Грохочут поезда, нарастает гул, в носу запах пыли и подземелья. Он оглядывается по сторонам – его станция, тут он обычно пересаживается на другую ветку, чтобы доехать до работы. Колонны, эскалаторы, куртки и лица смешиваются в круговорот, кто-то что-то говорит, обращаясь к нему, но лицо уплывает, вопрос тут же исчезает из памяти, и он уже отвечает другому. Спешно ковыляет мимо бабушка с тележкой, такая привычная для метро, он сторонится, но та его не замечает, проходит, глядя сквозь. Ладно, думает он, что-то же я здесь делаю? Видимо, на работу еду. Надо идти к переходу на мою ветку.
– Не надо, – отвечает ему стоящая рядом женщина. – На работе тебя не ждут.
Он хмурится.
– С чего вы взяли?
– Ты смотришь мир живых как сон. Пойдем.
Женщина берет его под руку и ведет к эскалатору. Прямо в них идут люди, поэтому женщина меняет направление и мягко вклинивается между парой торопящихся студенток. Они встают на пустую ступеньку эскалатора и едут вверх.
Увесистые двери на выходе из метро размахиваются так, словно поставлены здесь для того, чтобы отбивать людей как котлеты. Женщина проскальзывает в возникающий на пару секунд проем, а он ныряет в соседний.
Воздух на улице словно соткан из струящейся воды. Брусчатка блестит от растаявшего снега. Утро. По крышам приметрошных ларьков стекает обжигающее расплавленное солнце. Похоже на то время, когда город уже развел основную часть работников по офисам и, наконец, облегченно замер в краткой наступившей тишине. Похоже на то время, когда ты заболел, не пошел в школу и, лежа в мягкой кровати, понимаешь, что первый урок только что закончился, а тебя на нем не было и сегодня точно не будет.
– Ты в это время обычно выходил из метро, – пряча мерзнущие руки в карманы пальто, говорит женщина.
Он кивает. Он вспоминает, кто это.
– А как я сюда попал? – спрашивает он у Кащеевой жены.
– Обыкновенно. – Та пожимает плечами. – Я же тебе рассказывала. Сорок дней после смерти. Это описано в большинстве мировых культур. Период, когда ты находишься на границе между миром живых и Царством мертвых. Можешь без проблем ходить туда и обратно. Только мир живых для тебя как сон. Ты его смотришь, но он для тебя не материален. И ты для него.
– То есть он не настоящий? Того, что я сейчас вижу, – его нет? – он огляделся. Его любимое время года и суток. Не считая апрельских закатов. Не хотелось верить, что утренний воздух весеннего города лишь плод… чего?
– Почему, настоящий. Для живых. А ты не можешь управлять этой реальностью. Так же, как они не могут управлять, например, реальностью сновидений, галлюцинаций или Царства мертвых.