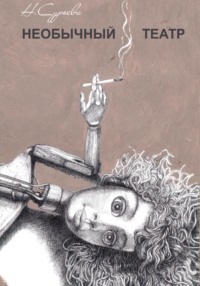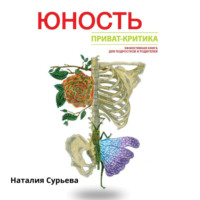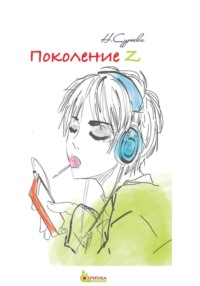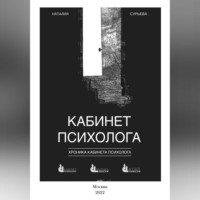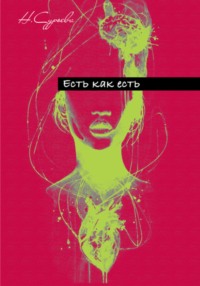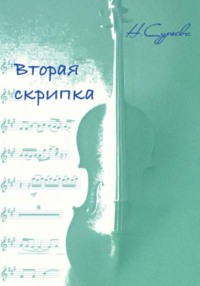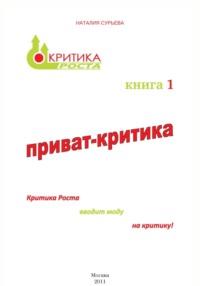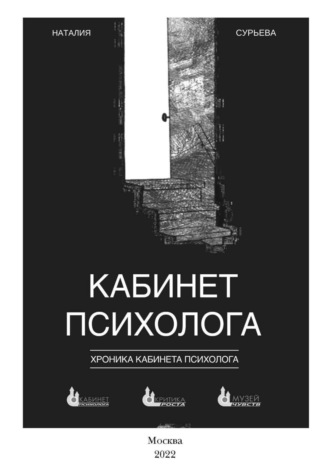
Полная версия
Кабинет психолога. «Хроника кабинета психолога»
Доброта бывает от головы – она умеет рассчитать, а у Лёшки доброта – от сердца, не расчётливая, и он верит тем, кому порой не стоит. Вот я сожалею, что родители разошлись, а эмоциональная подавленность лишила меня радости, а Лёшка никогда не видел, как мама размешивает сахар в кружке чая, гладит футболку, чтобы ребёнок надел её, теплую, из-под утюга. Когда близкие в прямом смысле согревают, дают ощущение нужности.
На творческом конкурсе училища наша группа поставила сказку «Репка». Все роли играли парни, реквизит я принесла из дома, была режиссером постановки и выступила в роли рассказчицы. Репка в нашей сказке была незаурядной – то ли сумасшедшая, то ли несчастная, она была очень сильным персонажем. Дед, напротив, был самым обычным стариком, разбитым параличом, бабка – парень в старушечьей одежде – из серии «на всё готова», а внучка – модница с магнитофоном, из которого на полной громкости звучал «Модерн Токинг».
В нашей «Репке» внучка была мажоркой и помогать старикам не планировала. Старики же собирались продать репку и купить ей на вырученные деньги модный наряд. Внучку играл стройный накаченный Денис Лапицкий в парике, юбке, на каблуках и с ярким макияжем. Денис ходил вокруг всей компании и ругал стариков за их немощность. (Денис после окончания училища стал глубоко зависимым наркоманом, но после тридцати остановился, посвятил себя протестантской церкви, стал пастором, сейчас у него свой приход). Жучка была обычной собачкой, кот – мартовский, а мышка размером около двух метров. Во всем этом был смысл нашей сказки, что всё неслучайно. По ходу действия все мастерски импровизировали, и зрительный зал покатывался со смеху – наши сказки всегда имели успех. Репка была не единственной.
Это было самое прекрасное время, в котором можно было позволить себе любую шалость, и ничего за это не было.
Каждый день я ходила в кино. Вечером мы с друзьями собирались в фойе кинотеатра, дурачились, потом смотрели фильм. Кино всегда занимало особое место в моей жизни, я люблю кинематограф. После киносеанса я поздно вечером возвращалась в дом на окраине по пустой тёмной улице – на ней никогда не было уличного освещения. Вокруг была сплошная темень, лаяли собаки, и только звёзды и свет из окон соседей давали ориентир. Я знала всех жителей нашей улицы. Глядя на окна соседских домов, всегда выделяла одно, окно Инны Степановны, научного сотрудника, преподавательницы русского языка и литературы в моём училище. Она уже несколько лет как ушла на пенсию, когда я поступила туда, но язык не поворачивался назвать её старой. Инна Степановна жила в своё удовольствие: утром выпивала чашечку кофе, выкуривала сигарету и шла украшать свой мир – в палисаднике её дома было бесконечное множество красивых цветов и благородных деревьев.
Интеллигентная и деловая, практичная во всём, она сыграла большую роль в моей жизни. Именно она договорилась, чтобы в первый класс я, как и моя одноклассница-соседка, попала к Валентине Семёновне.
Проходя мимо её дома и завидев огонёк ночника в окне спальни, я ужасно захотела заглянуть на страницы её вечернего романа. Я знала, что она читает книгу. В детстве я была частым гостем в её доме и очень хотела бы оказаться там взрослой – посидеть в маленькой уютной кухне, за столом, рассчитанном на двух персон, с бокалом красного вина. Только красное, сухое, выдержанное… Инна Степановна была потрясающей собеседницей.
Когда я повзрослела и переехала от мамы, мы редко виделись, но при встрече Инна Степановна обращалась ко мне только по имени и отчеству. К сожалению, уже давно погас свет в её окне, сад опустел, хозяйки много лет нет в живых. Мне хочется думать, что Инна Степановна обязательно похвалила бы меня за то, кем я стала.
Следующим было окно моей одноклассницы – в её спальне за красивыми шторами всю ночь горел тусклый ночник. Я знала, что в их доме идеальная чистота, сама она лежит в накрахмаленной постели и мечтает о принце на белом коне. Утром она проснётся, выпьет стакан горячего молока или какао, съест пирог с пылу, с жару и пойдёт в школу.
Окна моего дома были тёмные: все спали. Я тихонько открывала дверь, шла на кухню и выпивала стакан холодной воды из-под крана – отличное завершение дня, всю дорогу домой я мечтала только о нём…
…В училище после второго курса нужно было ехать на неделю в спортивный лагерь – сдавать туризм и плавание. Это был палаточный лагерь у реки Обь, в пяти километрах от города, на противоположном берегу. Мы были изолированы от внешнего мира, видели только проходящие по реке корабли и лодки рыбаков. Когда-то давно на этом месте был действующий пионерский лагерь, но деревянные корпуса снесли и осталась большая поляна, которая постепенно зарастала деревьями и кустами.
Составом в тридцать человек: десять девчонок, а остальные – парни и два преподавателя, мы перебрались на пароме через Обь и дошли пешком до места дислокации. Когда прибыли в лагерь, увидели, что рядом с нами отдыхала компания молодых людей. Их костёр догорал, было очевидно, что они собирались уезжать. На берегу реки волны качали их пришвартованные моторные лодки. Мне сразу понравился один из них, но на шее у него висла какая-то девица из их компании. Парень отправил девушку с товарищами на лодке и стал искать повод познакомиться с нами. Некоторое время спустя принёс кассету и дал мне послушать – у меня был с собой легендарный магнитофон «Романтик», а потом начал приглашать нас, девчонок, вечером покататься на лодке.
Настал вечер, но покидать лагерь нам было категорически запрещено. Тогда мы вчетвером под видом вечернего туалета покинули лагерь. Ушли в лесок, спустились к реке и оказались в лодке. Прокатились. Вернулись обратно и были наказаны. Больше мы не катались, но парни вечерами приезжали к нам в гости, мы сидели у костра.
Днём нужно было сдавать все виды плавания. Интересно, что во время одного из заплывов наши мальчики нашли закопанное на дне реки пиво – двадцать бутылок. Преподаватели немедленно забрали находку.
Все ребята успешно сдали плавание. Я, единственная из всей группы, его не сдавала: вода в реке была холодная и тёмная, мне было некомфортно, и в силу своего характера я могла зайти в воду только по колено. С туризмом было проще – нужно было вязать узлы и лазать по канатным дорогам, его я сдала на «отлично».
Мы по очереди готовили еду на костре. Кто-то из товарищей воровал банки со сгущёнкой из полевой кухни. Днём мы мучились от жары: спрятаться от палящего солнца было негде. Вечером наступала прохлада, но вместе с ней прилетали комары и мошкара…
Выполнив все нормативы, через неделю мы вернулись в город, опалённые солнцем и объеденные гнусом. На следующий день в назначенное время наша группа собралась в малом спортивном зале, чтобы узнать результаты и получить зачёт. Шутки-прибаутки закончились, когда «пошутили» преподаватели. Оценки были выставлены по результатам: я и Татьяна зачёта не получили. Я – за то, что устроила вечернюю лодочную прогулку по реке и не сдала плавание, а Таня – за то, что, выпившая, ночью пошла «топиться». Никакой реакции с нашей стороны не последовало, хорошо помню ту тишину. Выдержав паузу, преподаватели сказали, что это шутка. Шутка была неудачной.
Ничего никому не сказав, я поняла, что у меня проблемы – грозит отчисление. Я действительно не выполнила программу сборов. Таня же все дисциплины сдала, но её ночной заплыв, когда дядя Фёдор (так мы звали одного из преподавателей) в одежде забежал в реку, чтобы вытащить её на берег, вызвал большой переполох. Таня же топиться не планировала, решила освежиться и поплавать по лунной дорожке.
Татьяна была кандидатом в мастера спорта по лыжам, и если бы в ближайшее время показала хорошие результаты на соревнованиях, то получила бы мастера спорта. К сожалению, она так и не закончила училище и не стала мастером… В нашей группе она оказалась, когда её оставили на второй год на втором курсе, а уже на третьем её отчислили за пропуски. Спасали нашу Таню, спасали, но так и не спасли – утопила Таня все свои заслуги и достижения то ли в реке, то ли в бутылке. Мы звали её Ходулина Ивановна, у неё были прямые и длинные ноги, как ходули, Ивановна – для солидности.
Ходулина Ивановна виртуозно владела искусством пантомимы, но её никто не воспринимал всерьёз. При одной мысли о ней у меня всегда возникала улыбка. Мне было жаль, что её отчислили, её очень не хватало, мы с ней дружили ещё какое-то время. Она – томичка, и когда я приезжала в Томск, мы встречались.
Шутка преподавателей заставила меня задуматься. Нам поставили зачёт, но всё было на грани. Тогда я поняла, что в жизни есть требования, которые могут быть не по силам. А у меня действительно были психологические проблемы – я не могла зайти в грязную холодную воду.
После зачёта мы получили распределение на летнюю практику. Нужно было ехать в детский дом в посёлок городского типа и месяц там жить и работать. Путёвки туда мы получили с одногруппницей Валерией. Я приехала в аэропорт с билетом на руках. Когда объявили посадку, мне стало совершенно ясно, что лететь я не могу, боюсь. Я жутко боюсь оказаться в чужом доме, где, возможно, убого и куча приведений. Приведения тогда были в моей голове – я боялась неопределённости. Билет я порвала, была не уверена в себе: испугалась детдомовских детей, не верила, что справлюсь с ними, мне тогда было шестнадцать лет.
У этой ситуации была и ещё одна сторона: по возвращению из лагеря в город мы стали встречаться с тем парнем, с которым познакомилась во время сборов и на шее которого тогда висела девица. Я влюбилась. Он был из деревни и старше на пять лет.
В то время моя мама вышла замуж, я ушла жить к бабушке в центр города. Дед умер, когда мне было пятнадцать лет. Неделю поболел и тихо умер, так же тихо, как и жил. Когда я переехала к бабушке, наши отношения с ней испортились: она была против моей дружбы с тем парнем, видела его насквозь, сказала, что он мне не пара. Мы с бабушкой отдалились друг от друга, я жила в комнате деда, спала на его кровати, много читала.
Летнюю практику я прошла в детском садике в районе бывшего питомника. Это был большой комбинат, два часа в день я там работала. Утром проводила с детьми зарядку, а после завтрака – ЛФК (лечебную физкультуру). Жених был моим хвостиком – пока я была на практике, он сидел на скамейке в детском саду и ждал. У него был мотоцикл «Ява». Я научилась водить мотоцикл, наше лето пролетело с ветерком. Осенью родители купили ему машину, и мы пересели в автомобиль. Жених сделал мне предложение, я приняла. Тогда я училась на последнем курсе, передо мной стоял выбор – работать по распределению или распределиться по месту жительства мужа.
Ситуация с распределением пугала меня: я уже делала попытку уехать из города, понимала, что не должна жить с мамой, у неё своя жизнь, но и жить с бабушкой тоже не получалось. Мне некуда было деться. Быть может, я бы оттянула своё замужество, но обстоятельства оказались сильнее – мы поженились.
Несмотря на сорокаградусный мороз, наша свадьба пела и плясала в деревенской столовой, столы ломились от яств и напитков. На два дня сто пятьдесят человек, в их числе моя группа почти в полном составе, приехали в деревню. Впрочем, моими гостями только они и были, помимо десятка родственников, кем были остальные – понятия не имею…
Как на всех свадьбах, была драка: одногруппников побили деревенские товарищи моего мужа. Студенты жили в общежитии впроголодь и прихватили с собой немного еды со столов. Свекровь увидела, всё отняла, рассказала, и «добрые люди» поучили пацанов.
Мои родители подарили нам деньги, а родители мужа – машину. В деревне нам дали маленькую квартирку, на подаренные деньги мы купили мебель, холодильник и телевизор. Муж очень хотел электронные часы «Монтана». Они играли мелодию каждый час. В комиссионном магазине мы купили эти музыкальные часики. Счастливый, он надел их на руку и с вожделением ждал, поглядывая на циферблат, когда заиграет мелодия, но часы молчали. Тогда он устроил мне скандал, заявив, что без музыки часы ему не нужны: упрекал меня, что это я купила плохие часы и он разойдётся со мной. Потом родственник снял плёнку под задней крышкой, и часики запели… Супруг был счастлив и больше не хотел со мной разводиться, но я задумалась. И не зря: после свадьбы муж стал совсем другим человеком.
Окончив училище, я получила диплом преподавателя физической культуры – спортивного тренера. В семнадцать лет у меня уже были профессия и муж. Я была в прекрасной физической форме. Когда мне исполнилось восемнадцать лет, бабушка открыла свой сундук и подарила мне полторы тысячи рублей с расчётом, что я положу их в сберкассу на пять лет. Бабушке виделось, что через пятилетку на этот вклад я куплю новый автомобиль. Мы тогда жили по принципу «всё – впереди, всё – потом-потом». Я так и сделала – доверила деньги сберегательной кассе. Деньги до сих пор в кассе, а я сменила десяток машин.
Инфляция превратила хранящиеся в бабушкином сундуке десятки тысяч рублей в фантики. На них я купила ей телевизор – оказалось, что всю жизнь человек работал на цветной телевизор. Вот были у старушки деньги, а знаний – зачем они? – не было. В результате непонятная цель пустых накоплений с патологическим упорством тех поколений в отказе себе и близким во всем в угоду «складывания в сундук для будущих времён» обошлась потерей всего состояния, которое она зарабатывала больше полувека.
После окончания училища я переехала из города в деревню, в нашу квартиру на правах хозяйки. В этой квартире частыми гостями были: крыса из подполья и женщины моего супруга. Что для меня было одним и тем же по восприятию и эмоциям. Позже поняла, что на самом деле крысой в моей жизни был муж. У меня были странные чувства к семейному гнёздышку: находясь там, я ощущала, что это не мой дом, жила с чувством, что всё это временно и скоро уеду, уговаривала себя, что нужно немного потерпеть.
Я об этом вспоминала, когда однажды ко мне на приём пришла женщина, проблему которой я обозначила как «постоялец». Она была постояльцем в собственном доме, пришла – переночевала – ушла. У неё отсутствовала душевная связь с домом. Прожив в нём больше двадцати лет, она так и не стала хозяйкой.
В деревне я устроилась на работу в детский сад преподавателем физкультуры, но работала не от души, просто чтобы чем-то себя занять. Не любила эту работу. Тогда я и решила, что никогда не буду работать на кого-то. И деревенская жизнь была не по мне – при малейшей возможности я уезжала в город. Каждый день разочаровывал меня в замужестве, но надеялась, что всё будет хорошо. Думала, вот родится ребёнок и всё наладится.
…Через полтора года после свадьбы у нас родилась дочь. Но ничего не ладилось. С таким человеком, как мой муж, можно дружить и расставаться на пике позитивных эмоций, только так можно сохранить ровные отношения. По природе своей он не мог быть хорошим семьянином, ему хотелось вести веселую жизнь и ничего не делать. В итоге его поведение в отношении меня стало совсем неприемлемым: помимо своего образа жизни и регулярных оскорблений в мой адрес он начал поднимать на меня руку. Тогда я собрала свои и детские вещи в наволочки от подушек и уехала в город к маме, потом к бабушке. Муж побыл холостяком пару месяцев, но потом переехал ко мне с остальным нашим имуществом. Устроился работать водителем в милицию, откуда через неделю с треском вылетел: в ГАИ устроили на него облаву после звонка очевидцев, что за рулём милицейской машины нетрезвый водитель. Начальник ГАИ нагнал его и вытащил за волосы из служебной машины совершенно пьяного: он был за рулём, развлекался в компании подружек.
Каждый день рядом с этим человеком делал меня несчастной. Я смотрела на него и понимала, что рядом с ним точно не получится прожить долгую жизнь, потому что умру молодой от горя или побоев. Это человек-подлец, который предаст и продаст, и это навсегда.
Через три года я развелась и с треском выгнала его из своей жизни. Он забрал всё, что у нас было так же, как его мать забирала еду у студентов на свадьбе. Явившись всем семейством, они забрали всю мебель, холодильник, погрузили всё в грузовик, сели в машину, ту самую, которую подарили нам на свадьбу, и уехали в деревню, оставив мне только ребёнка.
Правда, на следующий день вернулись… Забыли чайник и ваучер. Несмотря на это, мне стало очень хорошо в пустой комнате, в которой не было его духа. Мама единственный раз выступила на моей стороне, заявив: «Какое право они имели всё забрать? Почему ты мне не позвонила?» Она бы приехала и не позволила им. Но у меня и мысли не было звонить. Это ситуация была отражением наших отношений, ведь мама никогда не учила тому, в какие моменты нужно обращаться за помощью.
Чего я точно делать не стану, так это держаться за шкафы, диваны, холодильники… Для себя я решила, что разменивать свою жизнь на людей, которые не только используют, но и предают – преступление. Нужно было выдержать отношения временем, и всё обязательно встало бы на свои места. Ребёнок мужу тоже был не нужен, впрочем, как и последующие его дети, которых ему нарожали другие женщины. У них он тоже всё забрал, с кем-то даже судился, чтобы выписать детей. Семьи у него нет. Как он сказал своей дочери: «Нет хороших баб…».
Мои бабушка и отец были категорически против моего замужества. Бабушка сказала: «Он – не мужчина для жизни. Он сорвал тебя, как нерасцветший цветочек!». Отец говорил: «Гуляй, не торопись замуж, одна не останешься». Но к тому времени отец перестал быть для меня авторитетом и не имел власти. Я никого не слушала – мне казалось, что люблю своего избранника, для меня было важно выйти замуж за любимого и состоятельного человека. Так и получилось: у нас было всё – квартира, машина, деньги… Единственный, кто мог остановить моё замужество, – мама, но она была не против.
От природы я стабильна во всём, жила бы семьёй, но семейное счастье – дело двоих. Несколько раз я слышала, как свёкор говорил мужу: «Не пара ты ей, она городская, а ты – деревня, посмотри, какие у неё замашки!» Он имел в виду «деревню» в смысле неравенства в культуре. Оказалось, все были правы: мои бабушка и отец, и его отец, но я доверяла своим чувствам, а кроме всего прочего, боялась ссылки по распределению. Распределение тогда было обязательным – нужно было отрабатывать бесплатное обучение, к тому же я получала стипендию.
После неудачного замужества я сделала вывод: лучше быть одной в доме с привидениями. После развода мы остались с дочерью вдвоём. Дочь была для меня чем-то божественным, у меня была фанатичная любовь – она была моей госпожой, а я – слугой. Я исполняла все ее желания; мы часто меняли школы, потому что ей всё не нравилось. Я была слишком молода и близорука, чтобы опуститься на землю и подумать о последствиях. Она манипулировала мной, я же делала для неё всё, чего не было у меня в отношениях с матерью: холила и лелеяла её, поддерживала во всём, заботилась, возила на кружки, секции, порой уступая там, где уступать родители не должны и потакая там, где этого делать не стоило… Дочь была избалована, потому что я была её волшебницей.
Кто бы знал, как права моя мама, что была строга со мной и никогда не тряслась над нами с сестрой! Сейчас я понимаю, что это была моя созависимость от дочери, которая усложняет жизнь, потому созависимый человек носит розовые очки и не видит реальное положение дел, а верит человеку, который его использует и обманывает.
Итак, в двадцать один год у меня нет работы, нет дохода, но есть ребёнок. Отсутствие мужа не пугало меня, а вот работа и деньги – это серьёзно. Всю жизнь бегать со свистком я не планировала, и вопрос денег решила быстро.
Была у меня одна приятельница, значительно старше меня, с богатым прошлым и собственным бизнесом, состоявшаяся и состоятельная дама. У неё был продуктовый магазин. С ней мы быстро организовали небольшой банковский бизнес: у одних брали деньги под проценты и другим отдавали – разница от процентов была нашей прибылью. Оборот был огромный – деньги носили сумками, пакетами. В скором времени наш бизнес стал востребован мошенниками. Это были известные люди в городе.
Через три-четыре месяца оборот упал, потому что долги нам никто возвращать не собирался. Кредиторы требовали свои деньги и дивиденды. Мыльный пузырь лопнул – я ничего не заработала, кроме долгов. Своей партнерше по бизнесу я отдала машину, больше у меня ничего не было. Она решила вопрос займов: с кем-то договорилась, с кем-то рассчиталась и выставила мне счёт. Так я попала в кабалу: денег не было, долг, как дамоклов меч, висел над головой. Права пословица: «Где порок – там деньги не впрок».
После такой финансовой деятельности ситуация обострилась. Мне двадцать три, работы нет, дохода нет, есть огромный долг, при котором век будешь работать наёмным сотрудником и не рассчитаешься. Тогда первый раз в жизни у меня случилась паническая атака – охватил дикий ужас, страх, нечем было дышать… Атака длилась считаные секунды, но после я приняла важное решение: надо получить хорошее образование с целью состояться профессионально.
Мой дядя Петя часто говорил: «Ты должна стать прокурором города». Я думала об этом. В пятом классе сосед по парте Сапеля принёс мне книгу «Запах Шипра», она настолько впечатлила меня, что я решила стать следователем. Долгие годы планировала поступать на юридический факультет, но, увидев всё изнутри, не нашла в этом смысла.
Таня – дочь жены моего отца – после школы не поступила на юридический факультет и работала в суде секретарём. Когда я была в Томске, приходила к ней на работу, сидела на судебных заседаниях. Судебный процесс не впечатлял меня, скучно. Я ставила себя на место судьи, прокурора, адвоката, следователя, но… не хотелось быть никем из них. В училище же мне нравилась педагогика, литература, история, психология…
Так я решила стать психологом.
Моё одиночество длилось недолго, и на пике краха нашего «банковского» бизнеса я стала жить с молодым человеком. Мы давно знали друг друга. Тогда я снимала квартиру, он переехал ко мне, всё случилось быстро. Он был городским из интеллигентной семьи, но уже с опытом тюремной жизни. Отбывал в колонии-поселении полтора года из-за аварии – погибла женщина под колёсами его автомобиля. Авария произошла восьмого марта, около дома погибшей. Когда я спросила его: «Как ты живёшь со знанием того, что убил человека?» Он ответил: «Я не убивал, за рулём была подружка». Я посмотрела ему в глаза, надеясь увидеть отражение, как было на самом деле, но ничего не увидела. Больше мы никогда не говорили об этом.
Когда мои дела стали совсем плохи, мы съехали со съёмной квартиры к моей маме, потому что бабушка категорически не приняла его. Она называла его тюремщиком, хотя никто ей не говорил, что он там был. Сейчас я понимаю её, и сама вижу прошлое человека.
Позже мы поселились в квартире моего отца, которая пустовала много лет и находилась в тихом районе, практически на окраине города. После развода с мамой отцу дали маленькую квартирку, в ней он появлялся изредка, даже не всегда, когда приезжал в город. После всех скитаний небольшая квартирка стала моим первым в жизни счастливым домом, раем на земле. У меня была душевная связь с местом жительства. Именно там я поняла, что такое свой дом и полноценная семейная жизнь.
Мой второй муж был хорошим хозяином, а я – хозяйкой так себе. Первое время у нас не было денег, но мы были очень счастливы. У него был дорогой музыкальный инструмент – труба в красивом футляре, он с детства занимался музыкой, два года армии служил в музыкальном оркестре. Мы продали эту трубу и жили на эти деньги какое-то время. Практически сразу начали заниматься всем понемногу, в основном, купи-продай, обрастали совместными вещами: купили машину, два телевизора, микроволновку, музыкальный центр. В то время это всё имело ценность.
Новые предметы быта делали меня счастливой, как в детстве, когда мы с родителями распаковывали коробки и радовались. Я влюбилась в своего мужа безумно – глядя на него, душа трепетала от того, что он мой. Он раскрывал меня как женщину, рядом с ним я ощущала тихое счастье. Я была рядом с ним, как за каменной спиной, на своём месте. Он был замечательный муж и отец, моя дочь называла его папой. Моей внутренней гармонии мешало одно обстоятельство: душевное беспокойство – долг висел надо мной. Но муж хорошо знал мою партнёршу, даже слышать не хотел о долгах, зная ситуацию изнутри, говорил: «Ты ничего ей не должна. Машина и деньги от залога аренды съёмной квартиры достались ей». Но я-то знала, что должна вернуть рано или поздно.
Мы жили, не расписываясь, гражданским браком. После официального замужества я поняла, в каком случае надо выходить замуж, это стало для меня ответственным решением. Через какое-то время я начала замечать, что с мужем творится что-то неладное. Возвращаясь домой со смены – он тогда работал сутки через трое в аэропорту в подразделении своего отца, спал сутками, весь мокрый. Выяснилось: любимый мужчина – наркоман. Он сидел на игле и делал себе уколы, когда уходил на работу. Находясь в заключении, пристрастился к наркотикам, чтобы облегчить тюремную жизнь. В то время ни проблема наркомании, ни сами наркоши мне не были знакомы, поэтому поначалу не осознавала печаль своего положения, но каждый день стала жить в страхе, в каком состоянии он вернётся домой.