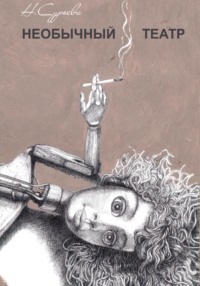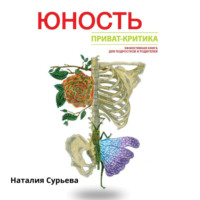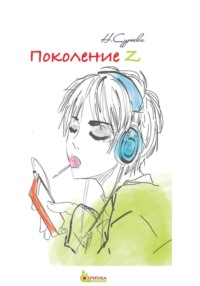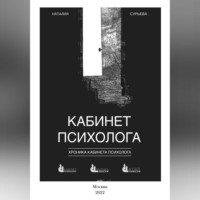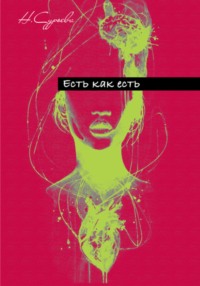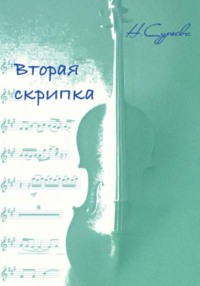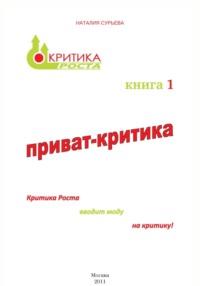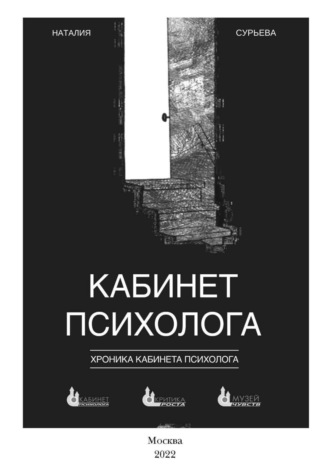
Полная версия
Кабинет психолога. «Хроника кабинета психолога»
Долгие годы я не переставала ждать отца. Он уехал жить в Томск и всё реже стал приезжать к нам. Мы месяцами не разговаривали, не виделись. Зайчик перестал передавать гостинцы. Дело дошло до того, что, когда он приехал через два-три месяца своего отсутствия, мы холодно встретились (раньше всегда обнимала, целовала), а в этот раз ушла заниматься своими делами. Отец был чем-то недоволен и сказал мне об этом, на что я ответила: «Можешь не приезжать сюда!» Он посмотрел на меня грустным взглядом и ничего не сказал. Так я поняла, что перестала его ждать. После этой встречи его нужность, точнее, наша нужность друг другу, покинула меня окончательно.
Всё случилось само собой – я перестала обращаться к нему за помощью, поняв, что мужчина может уйти от женщины, но уйти от своих детей – это уже предательство. Наш отец ушёл от нас: сестра абсолютно равнодушна к нему. Её можно понять – он не вырастил в ней и малого корня тёплых чувств в свой адрес. У меня этот корень был – он вырастил его, но потом – отрубил…
В этом отношении бабушка была моей нерушимой основой: ей я была нужна при любых обстоятельствах. Она была против развода родителей, отчаянно ругала отца за то, что он бросил своих детей и не приняла его вторую жену. Теперь, когда ко мне приходят замужние/женатые клиенты и говорят о том, что их любовники дарят дорогие подарки их родителям, я не понимаю этого. Как родители могут поддерживать блуд своих детей? Моя бабушка выкинула бы подарок любовника за порог, каким бы дорогим он ни был.
…С мамой у меня всегда были непростые отношения, с отцом мы были близки. Я была папина дочь. Мама никогда не говорила, что любит меня, бывало, унижала и делала это публично. Меня это очень обижало. Я никогда не рассказывала ей о том, что творится в моей душе, и она не знает ни одного моего секрета. Мы можем говорить о ком и о чем угодно, но только не о нас. Я всегда знала, что за моей спиной никто не стоит в отличие от соседки-одноклассницы. Мама дала мне понять это ещё в детстве: если я с кем-то дралась, это были мои проблемы. Но при этом она всегда заботилась обо мне – делала завтрак, обязательно размешивала сахар в стакане и очень тонко мазала масло на хлеб. Не люблю толстый слой масла, иначе я просто не хотела есть этот бутерброд.
Я не любила наш дом на окраине, потому что он был пустым и холодным, когда отец покинул его. Но в то же время, когда я уезжала в летний лагерь, очень скучала именно по маме. Мне слышался её голос, я спешила вернуться к ней.
Уже давно мама переехали из дома в квартиру в центре города, а в доме теперь живёт моя сестра. Дом надрос ещё одним этажом, там есть все удобства: баня и джакузи, но моё отношение к нему не изменилось. Меня не тянет в этот дом.
Несколько лет назад, приехав в гости к маме, я снова, как и в детстве, услышала упрёки в свой адрес, мы поругались. Перед этим она накормила меня вкусным завтраком в постели. Но после перепалки я решила: всё, хватит, ухожу, не нужно мне ничего, настолько было обидно. Собрав вещи, для себя я решила, что не хочу находиться и в этой квартире. Собиралась улететь в Москву и отправилась покупать билет на самолёт, тогда ещё не было приложений, билеты продавались в кассах. На улице я подумала, что эту дверь нельзя закрывать. Именно эту дверь нельзя закрывать за собой никогда.
Я вернулась домой, мама плакала, вечер был безмолвным. Именно тогда мы выстроили отношения с ней: больше я не слышала обидных слов в свой адрес. Она обижала меня словесно, но не бросила и не предала. Узел проблем может затягиваться, но я не стану жить в напряжении и терпеть неуважительное отношение.
Уже давно я поняла проблему нашей семьи, и не только нашей: члены семьи не уважают друг друга. Более того, обесценивают заслуги, поступки, высмеивают перед посторонними людьми…
Уважение – это чувство высшего порядка, оно несёт в себе культуру признания достоинств личности. На мой взгляд, уважение не нужно заслуживать, оно должно быть по умолчанию, а не по заслугам. Уважение состоит из доброты, признания, веры… Любому приятно, когда к нему относятся с уважением. Я мгновенно считываю человека в плане его отношения к людям. И вопрос «Ты меня уважаешь?!» имеет место в любом обществе.
Когда начинается обесценивание – это звоночек отсутствия чувства уважения. Значит, и любовь покинет эту семью.
Однажды я сказала приятельнице, что она – хороший человек, но ей не знакомо чувство уважения к людям. На что она искренне спросила: «А что такое уважение?» Другая ситуация: пожилая женщина сказала молодой особе в гостях у своего сына: «Ты не уважаешь меня». Молодая особа спросила: «А за что я должна вас уважать?!»
Другое дело, когда человека перестают уважать по ряду причин, но изначально каждый заслуживает уважения. Это чувство становится редким у современного общества.
С раннего детства я подрабатывала. Летом разносила почту, как когда-то моя мама, разве что без коня. Работала горничной в гостинице, носила передачи в больнице…
У меня был велосипед «Подросток», но мечтала я о «Салюте» – тогда это была самая лучшая модель. Стоил он 100 рублей – по тем временам зарплата взрослого человека. Мама к тому времени работала в гостинице на другом конце города и предложила ездить к ней на работу после школы: она будет собирать в номерах пустые бутылки, а я буду их сдавать – так и заработаю себе на велосипед. Почти всю зиму я ездила в гостиницу на автобусе с пересадкой, брала двадцать бутылок и везла их в приёмный пункт, сдавала и получала один рубль.
Заработав рублей тридцать, мама пошутила надо мной, сказала: «По радио объявили, что три года не будет лета, будет стоять зима!» Тогда я верила, что по радио говорили только правду. Я очень расстроилась, ведь первое, что пришло в голову – это потеря смысла, потому что лето для меня – велосипед. Когда мне удалось заработать семьдесят пять рублей, пожилой горничной стало завидно, что бутылки не ей достаются, и мой заработок прекратился.
В первый день летних каникул, когда пришло время покупать велосипед, мне не хватало двадцати пяти рублей. Мне было десять лет, и это была моя проблема. Бабушка не открыла сундук и не достала нужную сумму. Отца не было в городе. Недостающую сумму дала моя тётка, она же – моя крёстная. Я купила себе велосипед и была очень счастлива. Мой «Салют» тысячу раз оправдал себя, прослужил несколько лет, но в старших классах я потеряла к нему интерес – тогда уже захотела мотоцикл и машину. И это стало моей мечтой.
Я сидела за рулём автомобиля, когда ноги ещё не доставали до педалей. Сначала у отца на коленках, а потом сама. Автомобиль «Жигули» первой модели, «копейка», собранный экспериментально для советского автопрома в Италии, в нашем городке у одного из первых появился у моего родного дядьки. Я же купила свою первую машину в двадцать один год. Мы познакомились с начальником ГАИ нашего города. Он спросил меня, чьих я буду, имея в виду мой род, и, услышав фамилию, поинтересовался, кто мне Петро? Узнав, что мой родной дядька, рассказал, что в 70-е годы, во времена, когда сам он был рядовым инспектором, Петро выезжал в город на своей «копейке», и инспекторы специально останавливали его, чтобы посмотреть на машину. Машина дядьки Пети всегда была в идеальном состоянии, в детстве я часто ездила на ней. Когда он приезжал к нам в гости, на обратном пути мы большой оравой девчонок садились в салон, и он нас катал.
А с начальником ГАИ города мы стали приятелями. Это был замечательный госавтоинспектор – в 2006 году он погиб. Герой России. Светлая память Вячеславу Александровичу Ячменёву.
Про дядю Петю бабушка рассказала жуткую историю, которую помню до сих пор. Жили они тогда в деревне, куда её сослали. Петя был ребенком, но копал котлован под строительство здания вместе со взрослыми. Наравне с десятком мужиков работала и женщина (ее имя я забыла), маленький Петенька старался, копал и раскопал грязную тряпочку, поднял её вверх и громко спросил: «Кто потерял красную тряпочку?» Мужики начали громко смеяться, острить и коситься на женщину. Та бросила лопату, поднялась наверх и ушла в неизвестном направлении. Кругом была тайга, женщина так и не вернулась домой. Больше её никто никогда не видел… Она не смогла пережить позор, тряпочкой оказалась прокладка, которой пользуются женщины в критические дни. Чувство стыда у людей того времени было сильнее инстинкта самосохранения…
В седьмом классе меня как будто кто-то включил, так однажды выразился мой клиент, – именно кто-то «включил», раздался щелчок над головой. И всё, началась новая жизнь. Я окончательно оправилась от ухода отца, отказалась от велосипеда и начала радоваться жизни. У меня появились друзья-товарищи, мы сблизились с модной одноклассницей, с которой ранее приятельствовали: ярко наряжались и ходили на дискотеки. Однажды я перебрала с эксцентричностью, и мама порвала на мне джинсы, которые были расписаны по моде, а ей это показалось неприличным.
В нашу школу набрали новый класс – 7Г, это были другие люди, их перевели из другой школы. Нам казалось, что они вообще из другого мира. Мы смотрели на них, как на инопланетян. Они кардинально отличались от нашего потока семиклассников. Это были хиппи. У девочек – начёсы на голове, яркий макияж, модная одежда, а пацаны в основном лохматые коротышки. Сначала мы смеялись над ними и говорили «фу…», «просто так на Г не назовут». Но прошло совсем немного времени, и все самые яркие хиппи класса «Г» стали моими подругами. Мне было интересно с ними, среди них была Лена Буквецкая по кличке Буква, с которой мы дружим по сей день.
В подростковом возрасте меня привлекало всё, что отличалось от нормы. Одноклассники наскучили со своими правилами хороших манер и бантами. Мне хотелось быть смешной, плохой, даже немного наивной дурочкой, и в какие-то моменты я усиливала это состояние сознательно. Таким образом привлекала к себе внимание, по-другому не умела. Несмотря на то, что меня тянуло в крайности, рядом со мной всегда были хорошие друзья, приятели.
Однажды двоюродная сестра, которая была постарше меня, спросила: «Если бы я не была твоей сестрой, ты бы со мной дружила?», я ответила: «Нет». Это правда. Тогда Света обиделась на меня, но сейчас бы я ответила: «Конечно».
В восьмом классе я встречалась с парнем, его отец был директором пивзавода. В те времена Колпашевский пивзавод славился на Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области. Пивоваром был немец, он варил отменное пиво. Мы начали выпивать, покуривать. Мама наказывала меня за то, что я курю. Мне доставалось от неё всё чаще и чаще… Учуяв запах табака, она быстро ликвидировала мою коллекцию сигарет, а их был не один десяток пачек. Думаю, она неплохо заработала – пачка «Мальборо» по спекулятивной цене стоила десять рублей, а проезд на автобусе – шесть копеек. В то время всякий дефицит приходилось выменивать или покупать втридорога. У меня всегда были деньги. Спиртным я не злоупотребляла, но в компании с удовольствием выпивала.
Как у всех подростков, нас кидало в крайности, и какой-то период времени мы собирались на городском кладбище даже в темное время суток, потому что в это время кладбище становилось безлюдным, и нам никто не мешал. У нас не было страхов, я могла одна уйти домой. Мы не были эмо или готами, которые носят чёрную одежду и ходят на кладбище плакать. Мы – просто большая компания малолеток: жгли костёр, пили спиртное и пели песни под гитару. Тогда казалось, что в этом не было ничего непристойного, максимум, что случалось, это кто-то мог выпить лишнего. Мы не бросали друг друга.
Однажды Буква перебрала со спиртным и заснула в оградке, а может и на могилке. Когда выспалась, попросила воды: не было проблем, всё под руками – я вынула цветы из трёхлитровой банки на соседней могилке и напоила подругу. Мы вспоминаем об этом до сих пор: я смеюсь над ситуацией, а она над тем, какая у меня строгая мать. Подруга стала бабушкой двух внуков, но так и осталась Буквой.
С отцом мы встречались время от времени. Мама вышла замуж, и я стала частой гостьей в доме отца, летая в Томск даже на выходные. В семье отца меня принимали хорошо. Дочь его жены – Татьяна – стала мне близким человеком, хотя старше меня на пару лет. По сути, я уже ездила к ней, а не к отцу, и продолжаю ездить до сих пор. У меня много кровных сестёр, но ни с одной из них мы не близки, как с Таней. Она стала для меня хорошим примером, хочу думать, что Таня у меня – на всю жизнь. Когда я прилетаю в Томск, она встречает и провожает меня.
…Я окончила восемь классов и решила поступить в педагогическое училище (сейчас это колледж) на физкультурное отделение. Туда меня приняли как кандидата в студенты, это значит, что могли отчислить в любой момент. Кандидатом потому, что у меня не было спортивного разряда, а у остальных он был. Спортом я всегда занималась на любительском уровне, а в приоритете этого факультета были профессиональные достижения. Наш физкультурный факультет был единственным в Томской области. В училище было две кафедры – школьная и спортивная.
Так началась моя новая жизнь в четырнадцать лет. Круг друзей расширился, но Буква тусовалась со мной и в педе, который стал моей большой находкой в жизни. Очевидна была разница во всём между школой и училищем: преподаватели были совсем другого уровня. Я полюбила литературу – этот предмет, как и преподаватель, был потрясающим. Именно в педучилище я заинтересовалась психологией как наукой. Основная часть студентов были приезжими, из тридцати человек нашей группы местных было четверо. Все спортсмены – разрядники, кандидаты в мастера спорта, мастера спорта…
Я была старостой группы на протяжении всего обучения, мне нравилось заниматься организационными делами, выдавать талоны на питание. Тогда вся страна жила по талонам, но многие однокурсники отказывались, потому что не было денег выкупать продукты. Я отдавала невостребованные талоны маме, и во времена дефицита отоваривалась вся наша родня.
Учёба давалась мне легко, я никогда не учила уроки, но и не пропускала ни одной пары. Школьную базу одногруппников я оценила в первые дни учёбы: некоторые двух слов связать не могли. У меня была сильная база, поэтому меня быстро перевели из статуса кандидата в студенты. Несмотря на нелюбовь к школе, выяснилось, что меня там научили думать, писать, говорить…
Преподаватели в училище были из поколения моих родителей, местные горожане, которые знали моего отца и его братьев в молодости. Для них я стала особой зоной интересов. Завидев мою фамилию в журнале, первой спрашивали меня, чтобы посмотреть, что из себя представляет продолжение нашего рода в моём лице. Складывалось впечатление, что моя фамилия была единственной в журнале.
Позже преподавательница истории сказала мне об этом, она же рассказала и про моего дядьку, он дружил с её братом. Дядька в 60-х годах был, как сейчас принято называть, метросексуалом: носил исключительно классический мужской костюм, белую рубашку и галстук. Кудрявый брюнет, каждый день мыл голову, делал укладку, маникюр, педикюр, носил кольца и брошки. Его очень любили женщины, был дважды женат. По дороге к жене погиб в автокатастрофе, мне было тогда два года. Похороны состоялись восьмого марта. Бабушка тосковала по нему так, что все думали, что она сойдёт с ума от горя. До самой своей смерти хранила его украшения и всегда говорила: «Мой Сашенька». Когда я подросла, бабушка рассказала, что после смерти Сашенька приходил к ней ночью какое-то время, вставал в дверях между комнатами и молча смотрел на неё грустным взглядом, а потом уходил. Поначалу она спрашивала его о чём-то, но он не отвечал. Я верила ей.
Несколько человек мне рассказывали, что к ним приходили близкие после смерти. Даже у известной во всём мире русской учёной Натальи Бехтеревой в книге «Магия мозга» есть рассказ о том, как к ней приходил покойный муж. Моя бабушка не была образованной, а Наталья Бехтерева – академик, нейрофизиолог. У меня нет сомнений, что душа человека бессмертна. После смерти душа ищет путь, место или что-то в этом роде. Возможно, находится в параллельном мире, раз на Земле ей уже нет места, а Бог ещё не принимает.
Даже могила дядьки привлекала внимание прохожих, многие меня спрашивали: «Кто тебе Сан Саныч?» В детстве в родительский день вся наша родня собиралась у бабушки с дедом, мы большой компанией шли к дяде Саше на могилу. Взрослые говорили о нём. В этот день собиралось было много детей, у меня было ощущение праздника, на мне всегда были белые гольфы и бант.
На срочной воинской службе дядя Саша серьёзно заболел (не знаю диагноза). Находясь в госпитале, не мог сам ходить и перестал есть и пить, потому что в таком случае надо ходить в туалет, а он не мог. Тогда стал умирать уже не от болезни, а от чувства стыда, ослабляющего тело. Он не мог себе позволить ходить на утку, чтобы за ним убирали. Его комиссовали из армии с болезнью, которая довела его до дистрофии. Из госпиталя солдат вернулся домой полуживым-полумёртвым. Родная мать выходила больного сына: начала откармливать половинкой варёного яйца в день. За счёт бабушки он ещё пожил. Чувство стыда у людей предыдущих поколений было сильнее желания жить и быть здоровым.
От своих отца и дядьки я унаследовала любовь к нарядам. Преподаватели педучилища ставили меня в пример студенткам в плане внешнего вида и ухода за собой. Об этом мне рассказала подружка из школьного отделения. Преподаватели были для меня совершенством. Училище – это то место, куда очень хочется вернуться; в большой спортивный зал, встать в строй по росту в линейке… Там возникало ощущение, что идеально чистый и раскрашенный в яркие цвета пол спортивного зала блестит от счастья.
Преподаватели в основном – мастера спорта. В расписании было по две-три пары физической подготовки в день: гимнастика, волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, спортивные игры, танцы и т.д. Четыре преподавателя одновременно проводили пару: две женщины и двое мужчин, студенты делились на подгруппы и отрабатывали элементы.
В ближнем левом углу спортивного зала стояло пианино, на котором, сопровождая почти все дисциплины на разминке, играла красивая пианистка. Мелодия разливалась по залу, мы бегали и прыгали в ритм и такт музыке. Я не была великой спортсменкой, но, как сказала преподавательница гимнастики Анна Фёдоровна: «Пришла в училище ты никакая, а вышла – даже очень ничего». Училище воспитало во мне требовательность к внешнему виду и телу. В ранней юности я поняла, что требовательность к себе у человека должна быть во всём.
У нас был классный руководитель – Леонид Петрович Коновалов. Между собой мы звали его просто Петрович. Человек, о котором не могу сказать ничего плохого и ничего хорошего. Для меня он был «тёмной лошадкой». Но Петрович часто говорил, что у меня замечательный тонкий юмор. Мне важно звучание слов: обращений, имён, фамилий… как их произносят, как люди представляются, как обозначают своё Я миру, как обращаются друг к другу.
Петрович никогда не называл меня по имени, исключительно по фамилии, при любых обстоятельствах. Из его уст фамилия звучала особенно, мне нравилось, как у него получалось. Казалось, что преподаватель не знает имени, да и не надо ему знать. Бывало, он обращался резко, иногда с иронией, всегда по-разному, но при этом фамилия звучала, как символ взрослого, самодостаточного человека… Тогда я носила фамилию отца.
За три десятка прошедших лет мне повстречались единицы умеющих обращаться к собеседнику с неповторимой индивидуальностью, в звучании которой подчёркивается значительность персоны, как у Петровича.
Петрович преподал важный урок на верность своим желаниям, который усвоен мной основательно. В обязательной программе обучения кроме основных предметов каждый студент должен посещать факультатив. У нас это были спортивные секции два-три раза в неделю. Я мечтала играть в баскетбол, а Петрович курировал женский баскетбол. Он сказал: «Тебе не надо заниматься баскетболом, иди на волейбол». Я послушала его, но волейбол был для меня наказанием: я стояла на площадке и когда на меня летел сильный мяч, уходила от него, не принимала. Я боялась его – было больно рукам – и не умела ставить блоки. Соперницы – профессиональные волейболистки – играли сильными атаками, а я была слабым игроком, потому что волейбол – не моя игра, я люблю смотреть его только по телевизору, когда играет сборная России. И всю жизнь я сожалею о том, что послушалась Петровича.
Сейчас, когда меня в чём-то убеждают, а я не хочу, думаю: «Нет, Петрович! Будет, как я хочу». Баскетбол – моя упущенная возможность быть в своей игре. Но именно Петрович наделил меня чувством сожаления из-за отказа от желания. Я поздно это поняла, но поняла основательно: если есть желание, цель, мечта, никто не должен стоять на пути…
Безумно весёлые приключения были на протяжении всего обучения в училище. Осенью мы ездили на уборку картофеля и капусты. По дороге, сидя в автобусе, строили рожи прохожим на улицах города, приникнув физиономиями к стеклам окон. Получалась весёлая картина: едет колонна автобусов, а в это время на остановке стоит много народу из-за того, что транспорт отправлен на уборку урожая, и большинство автобусов сняты с линии, и вдруг в одном из них у всех пассажиров проблемы с лицом. Это было что-то невероятное и забавное! Проезжая каждую остановку, все корчили рожи, только несколько человек отказывались быть кретинами за стеклом. Будучи психологом, я поняла, что те, кто отказывался, уже тогда были лишены внутренней свободы, беспечной радости и дурашливости. А смеялись мы тогда бесконечно. Это было немного неприлично, но ведь кривлялись-то мы, по сути, друг перед другом, безадресно, совершенно безобидно.
У всех были клички, никто никого не называл друг друга по имени, были клички и у преподавателей.
…Однажды нашу группу вместо уборки картошки отправили на торговую базу. Эта база была шефом нашего училища. В те времена было принято, что солидные торговые и производственные предприятия брали шефство над учебными заведениями, кружками и коллективами. Стояла золотая осень, было тепло и солнечно, мы были без верхней одежды. Кладовщики поставили перед нами задачу: перенести металлические трубы с улицы в амбар. Трубы были тонкие в диаметре и очень длинные – одному неудобно, вдвоём проще. Трубы лежали под открытым небом и покрылись ржавчиной, их была высокая гора. Сначала мы посидели на них всей группой, покурили. Обсудили, с какой трубы лучше начать, это на полном серьёзе…
Потом решили попробовать и перенесли несколько штук. Замарали руки ржавчиной, о перчатках речи не было. Кто-то кому-то намазал лицо грязными руками, и понеслось. Мы бегали, орали и мазали друг друга, у всех были «рыжие и грязные» лица, мы не могли остановиться.
Кладовщики сначала смеялись, а потом начали выяснять, точно ли мы из педагогического училища. Похоже, вы, ребята, из психбольницы… Мы так и не выполнили поставленную задачу – с базы нас выгнали. Психология толпы – сильный инструмент. Заведённую толпу невозможно остановить, она становится неуправляемой.
Директор базы написал петицию с просьбой никогда больше не присылать нашу группу на работу. Петрович прочёл и сказал, что ему стыдно за нас. Больше нас не пускали в приличные места.
Делая попытки рассмотреть влияние генов на образ жизни, я вспомнила об одном парне. Его звали Алексеем Коневым, мы учились в одной группе. Лёшка умом не блистал, но душу имел чистую, как ангел. У него не было родителей, всю жизнь он провёл в детских домах. Отношение преподавателей к детдомовским было особенным. В нашей группе таких было трое: два парня и девушка Валерия. Все они получили дипломы, их тянули «за уши», «за нос», контролировали каждый шаг. Мне казалось, что миссия преподавателей заключалась в следующем: не бросать тех, кого однажды бросили. То, что Лёшка получил диплом – это заслуга преподавателей. Диплом был его путёвкой во взрослую жизнь, но реально он его не заслужил. Мы всегда смеялись над ним, звали исключительно Лошадяев, а когда возникал вопрос «Кто виноват?», всегда был виноват Лошадяев.
Я смотрела на Лёшу, как на спортивные снаряды в зале, но только до тех пор, пока он не скажет: «Ну что вы, девчата?!» – это когда мы над ним смеялись. Как только произносил «Ну что вы, девчата?!», звучала позиция всепрощающего мудреца, а мы были глупые маленькие девчата. В этот момент Лёшка был духовно выше нас и понимающе смотрел на нас, а я видела в нём что-то неравное нам всем. Он был лишён чувства юмора, но пронизан добротой, всем помогал, не был «шнырём». Всех прощал, хотя ему часто доставалось: иногда ходил с синяками, выпивал, курил, был не ухожен, на голове копна нечёсаных волос.
Я не знаю, где он сейчас, и Лёша – единственный из моей юности, чья судьба мне интересна с точки зрения профессионального психолога. Не могу её спрогнозировать: если Лёшка встретил хорошую женщину, то у него всё хорошо, если стал зависим от спиртного и с женщиной не повезло, то пропал. Одно знаю точно: у таких, как Алексей Конев, жизнь – это рулетка и полностью зависит от тех, кто крутит колесо.