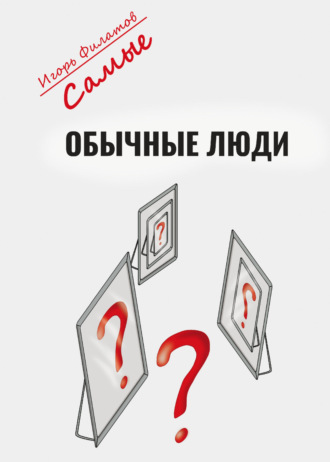
Полная версия
Самые обычные люди?
Володя, смеясь, показал на двадцать сантиметров ниже кисти и продолжил:
– Рукава закатали, подкололи… Ну и почти до колена пиджак, и в плечах вот такой, – развел он руками, – в два раза шире. Брюки, естественно, то же самое. Брюки решили исправить каким образом? Пиджак я должен был застегнуть на все пуговицы, а под него надели подтяжки. И подтяжки натянули так, что у меня под мышками были эти штаны. Я шёл, всё время из задницы вытаскивал эти брюки, которые всё равно, блин, волочились по земле! В этом пиджаке… И слава богу, мы нашли какое-то детское пальто младшего, и всю эту красоту я прикрыл пальто. Пальто было лохматое и серое. И тут… Ну всё уже, трындец! Потом он меня опять-таки надушил одеколоном этим вонючим. Мы же привыкли Шипром – пшик, и он выветрился. А тут он два пшика сделал, и всё – дышать, рядом стоять невозможно. Из глаз слёзы капают! Ну я звоню Тане, говорю: «Выходи на Бутырский вал, я сейчас тачку поймаю. Я тебя подхватываю, и мы как раз успеваем к семи». А с Преображенки, сколько там – двадцать минут ехать, тогда же пробок не было, можно было посчитать. Она в шоке! Я ловлю тачку, останавливается таксёр. Но скорее всего он был не таксёр, а механик, который то ли перегонял эту машину, то ли ещё что-то… Потому что у него был разобран этот тоннель, где коробка передач. Ну просто разобран – земля была видна. Он с «хррр, хррр», с огромным хрипом переключал эти передачи. Было разобрано всё! Он что-то дергал, что-то ногой пинал, но она ехала. Всё-таки она ехала! Я говорю: «Брат, умоляю, просто умоляю!» – Я ему заплатил – обычно я трёшник платил от Бутырского до Сокола, а это от Преображенки – там пять рублей. А я ему, по-моему, десять дал! Я ему говорю: «Вот чирик[21], там стоит беременная невеста, мы должны быть через полчаса на Ленинградке, я женюсь». Он: «Садись». Переднего сидения не было! Я сажусь на заднее, держусь за что можно, смотрю, как бы у меня чего туда не попало, ни нога, ни какая другая часть тела! И вот, скрипя, мы подъезжаем. Я смотрю – Таня стоит на Бутырском. Дверь открываю, а она так – раз: «А куда садиться?» – Говорю: «Садись назад». Она через переднюю дверь назад, хлоп. Всё это видит: «Что это?!» – Я говорю: «Да всё нормально, слава богу, успеваем». Но это не шок был. Шок был тогда, когда они увидели меня! Я приехал… Ну, уже темно. В такси темно. Это ноябрь месяц, почти семь вечера. Никто ни на кого не смотрел. Единственное, Таня сказала: «Чем от тебя воняет?» – А когда мы подъехали ко Дворцу бракосочетания, который весь освещен был, как Кремлевский дворец, из машины выходит Таня и выхожу я! И все просто выпали! И фотографы, которые приехали снимать другие свадьбы, стали снимать меня.
– Таня-то хоть в платье была? – сквозь смех спросил Молчун.
– Таня была в платье. Она была в приличном зелёном трикотажном платье с тёмно-зелёными розами, в котором почти не было видно живота. В сапожках, в салатовой куртке. Ну, в общем, приличная девушка. С таким чёрным каре, уложенным, как у Мирей Матье. Ну а когда меня увидела тёща… А она такая была – очень крупная. И она: «Дааа, зятёк…», постукивая букетом по другой руке. Ну а чего делать? Она: «Ну ладно, стой». И я смотрю – она всё время то за портьеру меня затолкнёт, то сама загородит, чтоб никто не видел. Потом зашли, а там уже быстро – мы без церемониала. Регистраторша тоже удивилась, ничего не сказала, улыбнулась, мы поставили подписи, вышли… А! А таксист заглох. А когда мы выходили, он завёлся. И он говорит: «Ну что, обратно?!» – Тёща сначала сделала шаг, и тут ей Таня вцепляется куда-то: «Мама, нет! Только не это!» – И вот так я женился. Женился, мы у тёщи попили чая и поехали жить к нам. Через три месяца совершенно обычной жизни… Хотя Таня впоследствии говорила, что ей… Что её моя мама притесняла, унижала и так далее и тому подобное, но я думаю, что это всё вранье, потому что… Ну ей просто было неловко жить у незнакомых людей. И любые женщины, конечно, как-то притираются друг к другу… В общем, через три месяца она родила дочь, Лену. У меня как раз заканчивался срок этих исправработ. Я благополучно его отбыл, потому что фарцевал шмотками и даже умудрился перебраться в свободное от работы время на Рижский рынок. И заработки были – сами понимаете…
– А чего вы там делали? – опять спросил Молчун.
– Тоже шмотками фарцевал. И тут у меня наступает конец срока. Я прихожу в 11-е, по-моему, отделение милиции, которое рядом с пожарной частью на Улице 1905-го. Почему-то я там находился под надзором. Мне инспектор говорит: «Ну чего, всё что ли, думаешь? Да нет, не всё! Ты вот тогда прогулял, тогда прогулял, тогда прогулял». А я думаю: «Когда прогулял?» – У меня и так поджилки трясутся. Он: «Не, так не пойдет. Поедешь ты у меня отбывать срок». Я: «Дяденька, у меня ребёнок родился, я вот женился». Он: «Так. Несёшь три поллитры, тогда вопрос решим». Он думал, что я в магазине достану… Я бегом к своему школьному товарищу, Серёже Козлову, падаю в ноги – знаю, что у него отец гонит самогон, причём офигительный. Я говорю: «Серёга, пусть тебя растерзают, но мне надо!» – ну и объясняю. Он мне даёт банку – трёхлитровую – самогона, завернутую в газету. Я её в авоську, бегу туда и говорю: «Вот, водки нет, но вот». Он понюхал: «Ну ладно. Иди».
– А что, водку не продавали?
– А уже был «сухой закон». В общем, было не достать. И в этот момент, как раз то ли до этого, то ли сразу после, я во дворе своём знакомлюсь с мужиком по имени Санёк – маленьким таким, но с усами. Он был водителем троллейбуса, поэтому у него была своя комната на первом этаже в коммуналке в доме напротив. А это ж свободная хата!
Довганик многозначительно улыбнулся, отпил воды и продолжил.
– И несмотря на то, что у меня жена дома… Но она же дома! Она что должна? Она должна пелёнки гладить, стирать. А я чего? Нельзя же всё время дома сидеть – я с дружками к Саньку. А ему хорошо, потому что мы же при бабках. И, соответственно – алкоголь, троллейбусные шлюхи, прям троллейбусные такие. Как бы их описать? С яркими губами, с пышными формами, в рваных колготках. Жуткие! Я, правда, к ним не имел никакого отношения, но тем не менее. В общем, была блатхата![22] В одной комнате живёт Санёк, в другой – Вадик Озанянц, с которым я сошёлся и который оказался – и как потом он сказал, и как до меня слухи дошли – то ли «вором в законе»[23], то ли «смотрящим»[24] – в общем, высокой иерархии чувак. А в третьей комнате жил Костик – такая детина двухметровая с усами, похож на почтальона Печкина. И мы у Санька каждый вечер, потому что у него есть магнитофон, можно выпить и устроить танцы. Ну и как-то раз чего-то мы с Костиком туда-сюда, он: «А ты где работаешь?» – Я говорю: «А я нигде не работаю. Вот у меня срок сейчас закончился». Он: «О! Ты чего? Иди ко мне в бригаду». Я говорю: «А в какую бригаду?» – Он: «Да ты что, вот знаешь здание напротив? Что это такое?» – Я: «Не знаю». Он: «Это строительное управление, а я там бригадир. Я получаю 600 рублей». Представляете?! Восемьдесят седьмой год – 600 рублей! Он: «Ну тебе таких денег, конечно, не получить, но рублей 270–280 обещаю». Я думаю: «Во поперло»! Я говорю: «Всё, беру трудовую книжку с этого ММЗ «Рассвет», бегу к тебе!» – Приезжаем на объект, в Кунцево. Я, естественно, никакой квалификации не имею строительной – я подсобный рабочий. Я же не понимаю – разнарядки, часы, то-сё. Меня сначала поставили просто раствор нагружать, потом сгружать, кирпичи носить, переносить. Потом смотрю – время к обеду. Мужики такие:
– Ну чего, как обычно?
– Давай.
– А кто в магазин-то?
– Ну, сёдня Петруха пойдет.
Все чего-то скидываются. А сухой закон, водку нельзя же купить. И он уходит, приходит – десять шкаликов одеколона! То ли «Север», то ли «Мишка на севере», то ли «Тройной», но чего-то такое. И вот эта шатия-братия – ну а я как? Я ж с братвой – нажираемся этого одеколона в хлам! И в этой бытовке начинается месилово![25] Просто месилово! И не потому, что… Это традиция такая, как я потом понял! Потому что это повторялось каждый день! Костику выбивают зуб, подбивают глаз, потом он оказывается никаким не бригадиром… И в общем я со своей зарплатой в 60 рублей максимум, работая на этой… Ну обычная стройка, как сейчас гастеры работают зимой. Поднимаешься, ветрила, где-нибудь на девятом этаже, никаких ограждений, ничего! Но деваться было уже некуда. Одеколона было выпито немало… В драках я не участвовал – старался разнимать. Ну представляете? В бытовке 10–12 потных, пьяных – одеколон же дурманит – дебилов, натуральных дебилов! Которые не просто бьют друг друга, а пытаются ломом проткнуть кому-то глаз, кто-то кому-то руку отрубить лопатой! А действие кратковременное. Проходит минут пятнадцать, а никто… Понимаете, никто никому увечий не наносил, потому что тупо не мог попасть. Вот этот угар, он выветривался и все садились: «Фууу, хорошо сегодня».
– И долго вы там, в таких условиях, проработали? – уточнил Авдеев, что-то записывая и рисуя какие-то схемы.
– Почти год. А потом ушёл в армию. Проводы тоже были весёлые. Как тётка говорит, я подрался со своим, ныне покойным, двоюродным братом, хотя я этого не помню. Но у меня всю жизнь болит один зуб. Она говорит: «Он тебе его выбил». А он у меня болит, шатается – всю жизнь. Я помню, двенадцатого ноября вроде уходил. Я отогнал мотоцикл свой в гараж к товарищу. Мотоцикл вместе с гаражом благополучно исчез – на этом месте высотка сейчас у Сокола стоит.
Володя сделал паузу, немного подумал и продолжил:
– Хочу всё-таки ещё вернуться к допризывному периоду, когда в этой коммунальной квартире, где жил Вадик Озанянц… Почему я хотел бы вернуться? Потому что это некая ситуация, которая в моей жизни сыграла в дальнейшем роль. То есть в этой коммунальной квартире, в одной комнате у Санька мы пьянствовали и веселились, потому что… Ну… других развлечений мы не знали. То есть у нас это было дополнительным развлечением… Мы могли кататься на мотоциклах, если это был период мотоциклетный. Правда, мотоциклы у нас появились совсем поздно. А так у нас были мотороллеры. С этим, кстати, тоже очень смешной случай связан. Все себе купили по мотороллеру Вятка «Электрон» – Риф, Дима, а я опять решил выпендриться и купил мотороллер «Чезет». Отличительной его особенностью было то, что, во-первых, к нему не было никаких запчастей – и в принципе быть не могло, а во-вторых, у него бак находился в переднем крыле. То есть это такая штука с системой самоподрыва, если что. Ну и мой «Чезет» с горем пополам ездил. А мы стали ездить в походы на мотороллерах в шестнадцать лет, не имея прав, конечно же. А сначала были байдарки. Про первый опыт с байдарками я рассказывал, потом был более приличный. Вдвоём с другим парнем мы поехали по тому же маршруту, но взяли с собой просто тридцать литров пива и никакой водки. Нам удалось спустить байдарку на воду и было очень интересно. Потому что по реке Дубне, которая начинается у станции Вербилки, мы дошли до Большой Дубны, то есть до слияния Дубны и Волги. Дошли за три дня или за четыре. Причём, когда мы выхлебали половину пива, оно прокисло. Мы прокисшее пиво поменяли каким-то пионервожатым на кастрюлю гречки с тушёнкой. И они были очень рады прокисшему пиву, и нам жрать хотелось. Ну, в общем, это было приключение со знаком плюс. Потому что уже на тот момент у меня в характере… Я ещё не очень отдавал себе отчёт, но у меня вырабатывались такие вещи, как… Вот некая ситуация – она со знаком плюс. То есть она приносит радость, не вызывает во мне негативных эмоций. Это как поливать грибочек. А есть ситуации, которые, блин, со знаком минус. Это всё, что касается любого насилия, какого-то воровства, плохих поступков… ну не знаю. Я не понимал – просто в душе это откладывалось. Как две чаши весов – сюда плюсики, сюда минус. И никогда не было перевеса никакого, ни в какую сторону. То есть всегда я как-то метался между плюсом и минусом. Либо стать совсем положительным героем – но я не знал, как. Стать отъявленным негодяем? Я не знал, как.
– И вы реально об этом задумывались тогда? – поинтересовался Авдеев.
– Тогда? Тогда – нет… Если бы задумывался, может, было бы по-другому. Тогда в этой квартире, где мы у Санька бухали и пьяные плясали… Этот Вадик Озанянц – это такая отдельная история, и действительно, тогда надо было бы подумать. Он долго-долго присматривался ко мне, а потом мы как-то на кухне с ним оказались вдвоём. То ли курили, то ли ещё что-то. Ну и он начал постепенно – чего, как? В общем, смысл в том, что он мне предложил подрабатывать. Подработка, для начала, заключалась в том, что, по его словам, его хорошие друзья шили очень хорошую обувь в Армении и он мог бы её привозить, а моё дело – её продавать. Оказалось, что это женские туфли, но сделанные из полиуретана целиком и полностью – отлитые. Они были с открытым носом в виде сандалий. Он мне их отдавал по шесть рублей, а я продавал по восемь – и они разлетались как горячие пирожки. Потом пошла какая-то кожаная обувь. Потом он стал мне говорить: «Слушай, а вот ты работаешь, может, с кем-то общаешься, может, кто-то продаёт иконы или какую-то церковную утварь?» – И он мне всё время намекал на то, что он не очень простой человек, что у него большие связи – ну, как многие армяне любят делать. Действительно, я был в гостях вместе с ним в таких квартирах, которые я до тех пор не видел. Огромные квартиры в сталинских домах, в хрустале и в мебели, и к нему там всегда очень уважительно относились. Я не видел на нём ни одной татуировки, кроме двух звёзд на плечах. Я не понимал, что это такое. Потом мне кто-то шепнул, что это «вор в законе» Вадик «Бакинский». Хотя я уже гораздо позже перерыл весь интернет – такого вора не нашёл. А потом я совершил грех, то есть поступок со знаком минус. Мне совершенно случайно попались иконы, причём иконы, видимо, очень ценные, потому что они были в серебряных окладах. И Вадик, как только их увидел – у него глаза загорелись, и он мне выдал мою долю за эти две небольшие иконы – сто пятьдесят рублей. То есть это месячная зарплата инженера советского. Видимо, он их продал гораздо дороже. Ну и в конце концов Вадик… Я узнал, что он наркоман, и мне как-то даже удалось по его просьбе достать ему ампулы с морфином – три ампулы я ему притащил. И он был безумно рад. После этого я его неделю не видел. Но он внёс в мою жизнь ещё некоторое направление. Мы очень много разговаривали о жизни, о правилах. Но я так сейчас понимаю, что он меня пытался подтолкнуть в блатной мир. И как люди живут по понятиям[26], и почему это – правильно, а это – неправильно… И в мою детскую голову, которой и восемнадцати лет не было, очень засела эта тема, которая потом получила продолжение в девяностые. То есть мой характер складывался из таких составляющих… Приличная семья, приличный мальчик с неглупой головой, но с повадками павиана и хулигана. Который со второго класса живёт… Вроде он хочет поливать белый грибочек, а вырастает поганка. Но нужно же всем доказать, что это белый гриб-то, понимаете?! Наверное, это характер и закалило, да! Впоследствии было ещё хуже, ещё веселее и так далее… Вот как-то так – неспокойно, несвободно. Не ходил просто в музыкальную школу, а, блин, ходил на бокс и в музыкальную школу. Почему-то это так происходило. Но это всё были шуточки и прибауточки, всякое это пьянство…
Довганик, задумавшись, затих. Авдеев и Молчун просто ждали, когда он вернётся из охвативших его мыслей. Звонарь сидел, взявшись за голову руками. Спустя пару минут Володя продолжил:
– Всё бы хорошо, если бы не сломанная в сторону блатной жизни голова. Потому что я к тому моменту, когда уходил в армию, уже хорошо разбирался в блатном жаргоне, достаточно хорошо понимал, что западло[27], а что нет, и, грубо говоря, мне осталось только сесть в тюрьму, чтобы пойти по этому пути. Но я в тюрьму не сел, а попал в стройбат. Что, в принципе, было практически равнозначно. Потому что у нас в стройбате во времена, в которые я служил, 87–89 год – по крайней мере, в моей роте – было процентов 85–90 судимых, реально отсидевших. И я туда попал тоже из-за своей судимости. А сами по себе проводы – ничего необычного. Пожрали салата, выпили вина, подрались, разбежались. В советское время это было принято. Это даже в художественных фильмах показано, как в деревнях собираются. У меня было всё то же самое, были друзья на проводах, родители. Ну и с утра грустная история. В том плане, что я проснулся и понимаю, что вот, настал тот день и час, когда мне нужно брать рюкзак – папа выделил старый рюкзак, с которым он за грибами ходил. У меня был военный бушлат, тоже он откуда-то притащил. И он сказал мне: «Ты, сынок, когда у вас вещи все заберут», – ну, он знал эту процедуру, – «Когда вас оденут в форму, у вас будет возможность вещи отослать обратно домой, кто захочет – ты этой ерундой не занимайся. Скажи, «мне ничего не надо», пускай порубят и сожгут, что хотят делают. Потому что всё равно эти вещи растаскивают, они, как правило, приходят в непотребном виде, и нам это не нужно». Ну, это было просто небольшое напутствие. И пошли в военкомат – я, папа, мама и Таня. Ну и единственное воспоминание – нас всех посадили в автобус, я сел у окна, он медленно тронулся, и все провожающие пошли параллельно двигающемуся автобусу. Машут руками, кто-то улыбается, кто-то плачет. Мамину и папину реакцию я не помню. Я помню Таню – она смотрит, и я понимаю, что этого, как я считал, родного для меня человека я вижу в этом качестве в последний раз. У неё были очень грустные глаза. Она не плакала, но у меня даже сейчас слёзы наворачиваются… Я просто вижу эти глаза, которые… Они были полные безнадёги и тоски, просто вот полные безнадёги и тоски.
Глава седьмая
Владимир лежал на кровати, глядя в потолок. После третьей встречи с Авдеевым прошло, наверное, уже пару часов. Он успел пообедать и теперь в полной мере ощущал хаос в голове. С головокружением, тошнотой и чувством падения Довганик уже более-менее свыкся, но терпеть звонаря, старательно долбившего колоколом по мозгам, сил уже не было.
– Когда ж ты, тварь, прекратишь! – в полный голос прокричал Володя.
– Все мы твари Божьи, – внезапно раздался слегка дребезжащий, скорее высокий, ироничный мужской голос, – помнишь, как у Бунина?
Все под небом ходим:Застекляем лоджии,Ищем и находим,Спим, едим, работаем,На гитаре брякаем,И «по фене ботаем»,Писаем и какаем.Любим, судим, лечимся,Пиво пьём, мечтая —Мы по жизни мечемсяГрязью обрастая.Но наступит время(Раньше или позже)Жизни скинем бремя —Смерть натянет вожжи…Тело сбросив тесное,В Небо поднимаясь,Станут бестелеснымиДушиИзливаясь…Вова пружиной подлетел вверх и мгновенно сел, свесив с кровати ноги. Мозги как будто несколько раз подпрыгнули внутри черепной коробки и вернулись на место, сопровождая свою активность жуткой головной болью. В глазах потемнело, и картинка больничной палаты резко пропала. Вместо этого очень отчетливо перед ним появилась скамеечка из нестроганых досок возле древней, заросшей мхом белой кирпичной кладки. На ней сидел какой-то худощавый мужик лет сорока, с русыми взъерошенными волосами и с короткой, неаккуратной бородёнкой. В чёрном грубом монашеском облачении, подвязанном простой верёвкой, он сидел, облокотившись локтями на колени и внимательно смотря Довганику в глаза.
– Давай знакомиться, что ли, – продолжил мужик. – Я Звонарь. Так ты вроде меня называешь.
– Это что за хрень, глюки?
– Ну вообще, всё что ты когда-либо видел и слышал, и трогал, и нюхал, и ел, и пил – это всё, в некотором роде, как ты говоришь, глюки. Всё создает твой мозг, интерпретируя информацию с твоих органов чувств, рецепторов. А у некоторых там такая интерпретация бывает – диву даёшься. Чудеса, одним словом.
– А… этот стишок твой… Ты там что имел в виду? Я что… умер?
– А мне-то откуда знать? Умер ты, или ты живой, или ты в компьютерной игре. Я же по твоей версии глюк. Давай-ка ты сам с этим разбирайся. Реальность такая вещь – непростая.
Володя огляделся. Он тоже сидел на деревянной скамейке, только не в палате, а как будто внутри какой-то древней башни. Справа обнаружилась хлипкая деревянная лесенка, ведущая в дыру в деревянном потолке.
– В колокольне мы, – пояснил Звонарь. – Вот, спустился я отдохнуть. Думаю, вдруг ты поговорить захочешь, а коли нет, так я обратно за работу.
– Не-не, давай поговорим! – Испуганно почти крикнул Вова. Он даже вскочил со скамейки, потянувшись к Звонарю, но взял себя в руки и сел обратно. – Давай лучше поговорим. Очень уж твой колокол меня достаёт.
– Неведомо нам, как за дела наши земные кому воздастся… Э-хе-хе, – задумчиво пробормотал Звонарь, опустив глаза. – У тебя-то, я слышал, всякое в жизни было.
– Это ты, считай, и не слышал ещё ничего…
Лицо Владимира побледнело. На шее выступили бордовые пятна. Он сидел, опустив глаза в пол. Отстранённый взгляд застыл на разбросанной под ногами соломе.
– А доктор-то был прав, похоже. Жалко себя? – Володя вздрогнул, подняв глаза на Звонаря. – Да вижу, жалко. Так жалко, что аж в гробу себя лежащим представляешь? – Голос Звонаря стал жёстче, глаза чуть прищурились и неотрывно следили за лицом собеседника. – Стоят вокруг все, плачут? Жена, дети, начальник, друзья-товарищи. Говорят, какой ты хороший, зачем ушёл так рано?
Довганик всем телом подался назад, словно пытаясь отодвинуться от Звонаря, вжимаясь спиной в холодную влажную стену.
– Да ты куда пополз-то? – заулыбался тот, вернув свою прежнюю ироничную интонацию. – Не ты первый такой, и после тебя таких будет столько, что не сосчитать.
Звонарь немного помолчал, словно уйдя в себя и собираясь с мыслями, а затем продолжил:
– Жалость, брат, это такая штука… Общественная мораль категорична – если кому-то плохо, его полагается пожалеть. Такой… шаблон хорошего поведения. Если кто-то умер – его полагается жалеть тем более. А тому, кто умер, зачем жалость? Плохо тем, кто жив – его близким. И вот они рыдают, но жалеют-то они сами себя. Ну, может быть, ещё друг друга… Такой вот круг взаимной жалости. Но жалость – это не просто боль. Это наркотик, спрятавшийся за маской морали. А в шприце как будто нежность, якобы забота и вроде как тепло. На упаковке жирными буквами написано «любовь», но нет – это уловка производителя. Там вообще весь состав – сплошная уловка. Вот кому-то плохо – вроде же как-то надо среагировать? Как бы по-быстренькому, не вникая, не прикладывая сил на реальную помощь? А то ведь неровен час назовут безжалостным и чёрствым… Может, укольчик? Вот и славно. Побегу дальше… И стало хорошо – тебя пожалели. Доза суррогата путешествует по венам и… заканчивается. Ну где вы все бегаете? Я же хочу ещё! Но за что ты получил прошлую дозу жалости? За собственную слабость? За беды, болезни и несчастья? И вот этот момент настал – ты, как и многие, понял, что, оказывается, уколоться-то можно самому и в любое время! Представить себя смертельно больным, несправедливо обиженным, тем, кого никто не ценит и не понимает, не любит… А ампулы заботливо оставлены рядом на тумбочке. И шприцы, конечно, тут же… Теперь можно бесконечно умирать и рыдать над собственной смертью. Ублажать свои слабости – ты же одинокий, никому не нужный неудачник! А не получается – добавить алкоголь. И это уже беспроигрышный вариант. С ним легко можно зажалеть себя до полного разрушения собственной жизни и продолжать жалеть уже за это. Потому что вокруг столько бесчувственных и жестоких людей, которые тебя не оценили и не помогли – родители, дети, супруги, коллеги… Ну конечно… наверное, такая Судьба…
Звонарь снова замолчал, внимательно глядя на Володю:
– Вот сейчас каждый сказал бы: «На тебя жалко смотреть». Но я не скажу. Мне тебя не жалко. Жалко слабого или несчастного, а ты просто не знаешь, какой ты. Не веришь в себя. Не принимаешь такими, какие они есть, ни себя, ни своих близких… Когда всё началось? Давным-давно. Как ты говорил? Тебя обожали все. Мама – своей интеллигентной любовью и опекой с малых лет. Отец, как мог, выражал всяческую ласку и заботу. И поэтому ты рос достаточно избалованным ребенком. Все с тобой носились, как с писаной торбой. Но ты был очень слаб здоровьем. Одиннадцать раз болел воспалением легких. Тебя постоянно таскали по больницам, и вся родня ограждала от всякого геморроя… Не сомневаюсь, что тебя, как ты выразился, болезненного ботана, все сильно и постоянно жалели. Ты был их центром Вселенной. Ты не понимал, но привык к роли жертвы, окружённой заботой. А дальше… Дальше, продолжая тебя жалеть и, конечно, заботясь о твоём здоровье… Тебя выкинули. На другую планету. Лесная школа здесь ни при чём. Ни при чём длинный тощий воспитатель, бивший тебя черенком по голове. Ни при чём братья-близнецы, разбившие тебе нос. Родители твои, находившиеся в рамках моральных и идеологических стереотипов, тоже ни при чём… На другую планету. Тебя, наркомана со сформированной зависимостью от жалости, разом лишили всего – жалости, внимания, заботы. И ты пытался всё это получить теми способами, которые смог придумать и которые были доступны в новых условиях. Ты же артист, тебе нужно внимание публики… А потом ты перестал болеть. Вернулся. А тебя не привыкли любить – тебя привыкли жалеть. Любовь содержит в себе и жалость, но одна только жалость – это не любовь. Жалеть тебя уже было не за что. А жалеть себя можно всегда. И знаешь, что я думаю? Нет никакого мальчика, который любит выращивать грибок. Ты и есть этот грибок. Твоя первая попытка вернуть и сохранить заботу и жалость. Как маленькие девочки играют с куклами, так и ты выбрал себе достойный жалости объект в надежде вернуть искомые чувства. Ты, желая видеть себя прекрасным лебедем, надеялся из свинушки вырастить белый гриб. Но свинушка вырастет только свинушкой. Она такой родилась. И ты ненавидишь её за это. Ненавидишь себя за это – ненавидишь и жалеешь. Ты из каждого пытаешься вырастить белый гриб, вместо того чтобы увидеть, что хорошего есть в свинушке. В каждом человеке есть что-то своё, уникальное, важное, ценное… а может, и бесценное. Но если прилепить перед своим носом красивую картинку, слепо и варварски копаться в человеке, выбрасывая всё, что на ней не нарисовано, ты уничтожишь и лишишь себя всего, что в нём было… Ценного и бесценного, уникального и важного… Естественно, не найдя того, что ты искал – просто потому что его там не было… Понимаешь, почему ты рыдал, когда узнал, что умер Брежнев? Это был звездный миг твоей болезни. Вся огромная страна одновременно сопереживала и жалела его. Невероятная энергия. Момент максимальной драмы. Катарсис. Возможно, ты даже неосознанно ему завидовал. Скорее всего, не только ты. Понимаешь, почему плакала учительница, слушая твоё стихотворение? Ты выбрал сам то, что тебе ближе. Не героизм, не радость победы. Ты выбрал боль и драму. Ты переложил на себя тот холод и ужас, пережил это, рассказывая стихотворение, и получил заслуженные слёзы и заслуженную жалость… к себе. Но заставить плакать гораздо легче, чем радовать. Причинить боль проще, чем её потом унять… Ладно, мне пора за работу, – Звонарь медленно поднялся со скамейки, отряхнулся от налипшей соломы и побрёл к лестнице, ведущей в дыру в потолке. Но остановился и, обернувшись, посмотрел на страдающее лицо Владимира. – Больно тебе от моего колокола?




