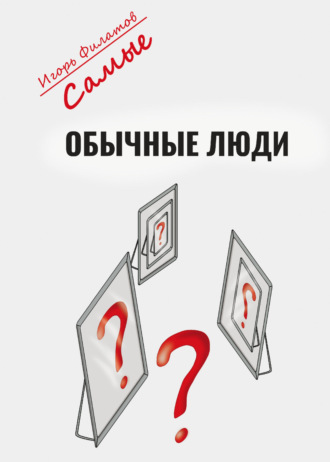
Полная версия
Самые обычные люди?
– Больно… невыносимо больно, – с трудом прошептал он пересохшими губами.
– Колокольный звон в своей силе, мощи и красоте лечит душу и тело. Сможешь принять его с радостью и любовью в сердце – тогда и тебя коснётся частичка Божьей любви… Поспи пока.
Часть вторая
Глава первая
Владимир проснулся. Снова в больничной палате. А может и нет. Ощущение понимания реальности исчезло. Где и когда эта реальность? Умер? Или сошёл с ума? Или на самом деле – в обычной психиатрической клинике на экспертизе? Или… Твою ж мать! Ответов нет. В голове только каша и тяжёлый колокольный звон. Кто ты, Звонарь?!
А амбалы уже заходят и бесцеремонно грузят обмякшее тело в коляску. Снова везут в кабинет Авдеева. Тот беззвучно шевелит губами. Переводит растерянно-озадаченный взгляд на Молчуна и оба, наверное, что-то говорят Володе. Он их не слышит – не хочет и не слышит. Облокотившись локтями на колени, он просто закрыл уши ладонями. Закрыл глаза. Сознание взбунтовалось, отказываясь понимать, ощущать, отделять одну реальность от другой. Амбалы выгрузили обмякшее тело обратно в кровать. Снова в больничной палате. А может, и нет.
Запах свежескошенной травы. Что-то колет сквозь одежду. Чья-то рука трясёт за плечо. Вова открыл глаза и сразу их прищурил, защищаясь от прямых солнечных лучей. Он лежал в небольшой куче сена. Тёплый мягкий ветер обдувал лицо. Звонарь перестал его трясти, не спеша отошёл и сел на очередную скамеечку. Довганик «на автомате» немного утрамбовал сено и сел поудобнее. Теперь он был снаружи. Колокольня уходила с холма ввысь мощными белокаменными линиями. Вокруг тянулись бескрайние поля.
– Эка тебя накрыло-то, – улыбаясь заговорил Звонарь. – Не думал я, что ты такой впечатлительный.
– Я ничего не понимаю. Что происходит? У меня мозг взрывается!
– Скорее всего, с мозгом у тебя всё более-менее нормально. Это у тебя сознание протестует. А мозг-то, он что? Он художник – пишет картину твоей реальности. Мазок цветом, мазок запахом, мазок звуком, чем-то ещё и ещё. Все твои ощущения – это его творческий взгляд. Перестань прятаться. Как сказал Теодор Рузвельт: «Делай что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». Только так ты сможешь понять, где ты и зачем. Только так ты сможешь попасть куда-то в другое место – если найдёшь в себе силы для движения. Ты попал в реальность, из которой только один путь – твой жизненный путь, который требуется пройти заново, шаг за шагом. Где-то на этом пути тебя наверняка ждёт эта точка – выход из твоего прошлого в твоё настоящее и будущее.
– Почему это со мной происходит?
Звонарь задумчиво склонил голову, разглядывая травинки у своих ног:
– Каждый видит в мире и людях то, что искал и что заслужил. И к каждому мир и люди поворачиваются так, как он того заслужил. Но чего бы ты ни заслужил, о прошлом нельзя жалеть. Это твой опыт. Это твой груз, от которого уже не отказаться, его вес не уменьшить. Но что ты в него добавишь – решать тебе. Решать снова и снова, с каждым новым шагом. Как на тебе отразится его тяжесть – решать тебе. Натренироваться, стать сильнее и чувствовать его легче, либо быть раздавленным – решать только тебе. В общем… В общем, как говорится, соберись, тряпка! – улыбнулся Звонарь. – Давай, хочу уже послушать, что у тебя там дальше произошло.
Глава вторая
Володя снова сидел в кабинете Авдеева. Ему удалось настроить себя на продолжение игры, в которую он угодил.
– Как вы сегодня себя чувствуете? – поинтересовался доктор. В голосе слышались озадаченные интонации.
– Всё нормально, спасибо, я вполне готов продолжать. Вчера на меня что-то накатило… Жутко голова болела. Может, погода. Да и как-то… распереживался я от этих воспоминаний. Эти Танины глаза… Но я уже в порядке.
– Тогда давайте дальше, раз готовы.
Довганик поёрзал в кресле, мысленно возвращаясь в отъезжающий автобус:
– Ну и всё, автобус уехал. Тогда в Москве был один единственный КСП[28], на Угрешской улице. Здание типа школы, только обнесённое забором и колючей проволокой, которое охраняли солдаты. Заезжал автобус, и всю эту полупьяную нестройную толпу загоняли по классам. У сопровождающих из военкомата на руках были личные дела, и они – этот налево, этот направо, туда-сюда. В общем, всех разгоняли. А у каждой двери стоит солдат, и закрыта она на ключ. Открывается ключ, меня туда, и за мной дверь запирают. И я вижу реально помещение класса, но вместо парт стоят топчаны[29], такие жёсткие топчаны, обитые коричневым дерматином. И практически на всех топчанах кто-то ворочается, спит, играет в карты, рассказывает анекдоты, бухает… Я бы сказал, такая вот животная масса. Потому что на людей эти призывники похожи не были. Потому что я думал, что это мы вчера нажрались. Нет, мы не нажрались – мы культурно выпили. А многие, во-первых, нажрались на самом деле, потому что призыв-то был не только восемнадцатилетних – призывали до двадцати семи лет. И были те, которым через месяц двадцать семь, а их забрили. Во-вторых, потом оказалось, что это команда, которая набирается в стройбат. Были люди просто как в фильме «Джентльмены удачи», когда Леонов сидит на шконке[30], руки в боки и из себя пахана изображает. Были и такие – с голым торсом, все синие, в татуировках… Многие притащили с собой спиртное, закуску. Вот реально большая тюремная камера. Я понял, почему стоит солдат, почему всё это закрыто на ключ. Потому что в туалет можно только за взятку солдату. То есть – ну человеческая надобность, но никого это не волнует. Плати солдату две сигареты или три сигареты, я не помню. Я чего-то ещё хочу? Тоже каких-то денег стоит. Все эти солдаты, которые служили там на КСП – это были, по-моему, очень состоятельные люди. У них было всё. А в армии что ценится у солдат? Гражданская одежда. Им на гражданскую одежду тоже много что меняли – ну, чтобы в самоходы[31] ходить. Соответственно, деньги. За деньги можно было его и в магазин послать. И даже вечером была предложена услуга: кто хочет на ночь домой – пятьдесят рублей. Пятьдесят рублей было не у всех, да и потом – это большие деньги, но это была беспроигрышная лотерея.
Потому что призывник если не возвращался, то солдат, охранявший этот класс, говорил: «Ну а чего? Я его в туалет отправил, а он вылез и убежал. Не знаю, где он». А если вернулся – ну, значит, вернулся. Но находились такие, у которых были бабки[32], и они на ночь ездили домой. В общем, в этом… спецприемнике мы пробыли трое суток. На этих топчанах, в этой жаре и вони, в этом перегаре. В конце концов, алкоголь и деньги начали заканчиваться. Единственное – категорически пресекалась информация о том, куда мы едем. То есть это была типа военная тайна. Я помню, один парень, отпросившись в туалет, где-то что-то услышал, прибегает: «Я знаю, куда мы летим. Мы летим в Красноярск». И тут же старшина, который стоял у него за спиной, взял его за шиворот и так, уже очень грубо: «Боец, где твои вещи? Бери вещи, на выход!» – и больше мы его не видели.
Вова постепенно возвращался в комфортное состояние – когда его слушали, когда он притягивал внимание, вызывал улыбки Авдеева и Молчуна. Рассказ отвлекал от непостижимых и тревожных событий, связанных со Звонарём. Пока сюда, в своё прошлое. И как он там сказал? Может, и найдётся выход.
– Но я не думаю, что его съели или закопали, просто его перевели, наверное, в другую команду. Не знаю, чем руководствовались военные, но вот так было. Больше никто слухов не распространял. На третьи сутки приехал так называемый «покупатель» – это офицер, сопровождающий команду призывников к месту дальнейшего прохождения службы. И действительно, мы прилетели в Красноярск. Зима, ночь, стояли автобусы. Нас уже таких немножко… Алкоголь, спесь и вообще… Ну, поубавилось. Хотя с нами эти офицеры сопровождающие достаточно нормально общались. Я понимаю, почему. Потому что для них это было неким отпуском. Они из своих частей, где они несли службу, побывали в Москве, походили по магазинам. И плюс они понимали, что командовать нами бесполезно, потому что это было стадо баранов. А я уже говорил, что это за стадо было. Единственное, что… Ну не разбегались, садились в автобусы. Но в автобусах уже нас встречали офицеры и сержанты той части, куда нас везли. И там уже всё резко поменялось. Прям резко поменялось! Уже к тебе если и обращались, то только криком и называли тебя только, допустим, «Эй, боец! Бегом сюда!» – Мы резко поняли, что… Вот гражданка, вот он аэропорт, вот самолёт, а это – автобус. И уже даже в этом автобусе совсем другая жизнь. Там уже матёрые сержанты, в таких полушубках, офицеры, прапорщики, которые тебя за человека не считают. Ты для них – мясо. Просто мясо! И был прецедент такой, я, правда, его наблюдал со стороны. Чувак один какой-то, ну такой, весь распальцованный[33], сержант ему что-то сказал, а тот: «Да пошел ты!» – типа того. Он: «Чё ты сказал?» – Подходят два сержанта таких крупных к этому призывнику. Ударом под дых уложили его на землю и: «Десять раз отжался!» – А это зима, руки у него на льду, на снегу. Тот, значит: «Не буду». Каблуком сапога он получает по затылку, потом разбивают ему нос, он понимает, если он ещё что-то скажет, будет только хуже. Ну это было так, показательно, для всех. После этого никакого шума, никакого гама, никаких проявлений неповиновения не было. И нас повезли в неизвестном направлении на этом автобусе. Было темно, окна в автобусах – замёрзшие. Но мы дышали на них, стёкла оттаивали. Единственное, я помню, мы Енисей проезжали. Поразило, какая огромная это река! А всё остальное время был лес, лес, лес…
Внезапно лес расступился. Автобусы выехали на заасфальтированную площадь невероятных размеров! Резко стало светло! Как будто кто-то щёлкнул тумблером и включил солнце – хотя, скорее, даже сразу два – десятки прожекторов справлялись не хуже. Фраза «мышь не проскочит», похоже, обретала здесь буквальный смысл. Гигантская шахматная доска! Вместо фигур – противотанковые и прочие заграждения, которые колонне пришлось объезжать по затейливой траектории. А впереди – настоящая крепость, одна из многих, в мощнейшем кольце охраны – огромный контрольно-пропускной комплекс, как на границе с заклятым врагом.
Всех высадили и повели пешком. Автобусы отдельно – призывники отдельно.
Солдаты, собаки, рамки – досмотр, обнюхивание, «прозвон». Автобусы проверены и снизу, и сверху, и в салоне. Каждый сантиметр просканирован натренированным носом.
Обратно по автобусам – и в путь. Опять тайга и ночная зимняя дорога. Снова лес, лес, лес…
– Оказывается, нас привезли в закрытый город, Красноярск-26. А все закрытые города – так называемые, литерные города – они всегда были связаны либо с ракетостроением, либо с атомной энергетикой. Я служил в стройбате Министерства общего машиностроения, чтоб никто не догадался – это ракетчики стратегических ракетных войск, в том числе – несущих ядерные заряды. Мы проехали ещё десять-пятнадцать километров, и открылся уже сам город. Сейчас он называется Железногорск. Многие литерные города перестали существовать как спецобъекты. Красивейший город, просто красивейший! Была ночь, всё было залито огнями, как улица Горького в Москве. Чистейшие тротуары, витрины сверкающие. Просто меня поразило, что где-то в лесу, в тайге далёкой, такая прям жемчужина. Я так тогда и сказал – не город, а жемчужина.
Владимир непроизвольно попытался поймать взгляды Авдеева и Молчуна, словно желая убедиться, что они тоже видят сейчас эту красоту и разделяют его восхищение, и снова окунулся в картинки своих воспоминаний.
– Ну и где-то на окраине этой жемчужины располагалась войсковая часть. Нас из всех этих автобусов криком, матом и пинками загнали в актовый зал, приставили несколько военнослужащих – следить за порядком и оставили мариноваться часа на три-четыре. Я думаю, просто готовили обмундирование и баню. В процессе этого маринования произошёл очень интересный момент. Вышел на сцену то ли офицер, то ли прапорщик и сказал: «Есть у кого-нибудь музыкальные специальности?» – Кто-то протянул руку, в том числе и я. По-моему, всего нас было двое. Один парень играл на альте, а я почти закончил музыкальную школу по классу трубы. Диплома у меня на руках не было, но до пятого класса я доучился. Она пятилетка была, эта школа. Есть музыкальные школы, где инструменты преподают пять лет, а есть – где семь. Ну и я говорю: «А я по классу трубы». Этот дядька спустился, подозвал нас, отвёл в сторону и говорит: «Ребята, оставайтесь здесь. Потому что эта команда новобранцев – она поедет дальше. И неизвестно, куда она поедет. И вас могут разделить, и вы если даже сдружились за несколько дней – не факт, что вместе останетесь. Вы можете попасть в такое место, что будете проклинать всё на свете. А здесь – цивилизованная часть, у нас штатный оркестр». А я не понимал, что это. А штатный оркестр – это, оказывается, когда люди остаются на сверхсрочную службу и просто ходят на работу. Им даже дают общежитие или кому-то удаётся снимать жильё. Они живут обычной гражданской жизнью, только на работу ходят в воинскую часть, репетируют и выступают на всех торжественных мероприятиях города. Это же советское время, да? Нужно и гимн сыграть и марш на 9 мая – всё что угодно. И всегда, из каждого набора призывников отбирались музыканты-профессионалы. Такие как я или вот этот парень – у которых есть образование, которых не нужно с нуля учить. И таким образом пополнялся оркестр, потому что он чем больше, тем лучше. Он не мог быть, конечно, до безумных размеров, но партий для инструментов всегда хватало. Потому что у трубы есть, допустим, первая партия, вторая партия, третья партия, может быть, две первых партии. И так у всех инструментов… Но тут во мне ожил Вадик Озанянц. Я сказал: «Не. Я с братвой». Ну… Совершил, наверное, одну из… Вырастил очередную поганку в своей жизни. Он как-то так посмотрел, говорит: «Ты не понимаешь, чего теряешь». Хотя он всё объяснил. Во-первых, будет денежное довольствие, во-вторых, офицерская форма, жить не в казарме, а отдельно… Привилегий там… Нет, блин, я с братвой… Ну, с братвой так с братвой…
Довганик вздохнул и продолжил:
– Ещё какое-то время нас помариновали и повели дружною толпою в баню. Солдатская баня, я так понимаю, мало чем отличается от тюремной. Это огромное помещение, разделённое на душевые кабинки, кафельный пол, кафельные перегородки, и душ – с горячей водой, правда. Перед баней всех, естественно, подстригли налысо. Все эти машинки – они волосы где-то стригли, а где-то – просто выдергивали. Очень неприятные ощущения. Потому что я же всё время носил волосы – мне их было жалко… Потом процедура избавления от гражданской одежды. Прилавок такой, как у мясников, за ним стоят военнослужащие с топорами и с мешками. Забавное зрелище. И ты подходишь, неся свою одежду. То есть полностью ты разделся, ты голый, по кафельном полу, среди таких же голых чуваков. Причём что было очень гнетуще и неприятно – не было нормального освещения, всё в полумраке. И вот с этой одеждой, допустим, кто-то говорит: «Я хочу отправить домой». Ему дают мешок: «Пиши адрес». Он запихивает вещи в мешок, пишет адрес. Его забирают, кидают в общую кучу. Что дальше с этим мешком – никто не знает. Поедет он туда, куда написано, или не поедет… Всё, свободен. А я, помня наставления отца, просто подошёл и сказал: «Мне ничего не надо». Они очень обрадовались, потому что у меня был абсолютно новый офицерских бушлат, и чего-то ещё им понравилось. И я смотрю – они бушлатик в сторону, а остальное топором – хрясь, хрясь и в кучу. Типа, утилизировали. Потом вот эта самая помывка… Мыло хозяйственное, которым очень «приятно» мыться. Запах после него такой… «ароматный». Причём, так сказать, «воспитание» началось уже с этого момента – и с каждым действием гайки затягивались. То есть из нас начинали делать мужчин. Видя, что бо́льшая часть намылилась, сержант скомандовал громогласным голосом: «Прекратить помывку!» – и перекрывает воду. Все: «Ууу!» – а никого не волнует. Всё! Воду перекрыли. Нет воды! Кто-то успел смыться, кто-то нет. Бо́льшая часть в этом мыле так и высохла. Потом кастелян выдаёт нижнее бельё. А поскольку погода не африканская, выдавали два комплекта – кальсоны и рубаха такая, без пуговиц, с треугольным вырезом. А размер он оценивает на глаз! Тебя никто не обмеряет, мерки не снимает, ничего. То есть ты мог получить кальсоны – слава богу, если они тебе длинные – их можно подвернуть. А если они тебе чуть ниже колена? То же самое с обувью… И надеваешь эти два комплекта – сначала «хэбэшку», поверх неё – фланельку. И вот как эти размеры – совпадут или не совпадут, будут ли какие-то заломы, натрет ли ноги, жопу, шею, подмышки – это вообще никого не волновало, кроме тебя. Никак не волновало! А потом ещё и тебя переставало волновать, потому что начинали появляться проблемы более серьёзные. Вот у нас был парень – он был очень толстый, видимо, из-за какой-то болезни, поэтому в строевую часть не попал. Но его всё равно взяли в стройбат. Оказалось, что у него родители какие-то известные учёные, вот прям учёные из Академии наук, и они решили отправить его в армию. И ещё у него были очки – мало того, что линзы с какой-то жуткой кратностью, так ещё и тонированные. То есть было у него какое-то заболевание глаз, когда солнечный свет очень губителен. И всё, что ему дали, ему, естественно, не подошло и разошлось по швам. Но он всё это как-то надел и говорит: «А как же я? Я в сапоги не влезаю». У него икры не влезали в сапоги, хотя ему дали самый большой размер. Старшина просто вытащил штык-нож, разрезал ему голенище на сапогах и сказал: «Иди. Теперь нормально?» – И вот, когда нас нарядили, это был тоже жуткий стресс. Ты ни о чём не думаешь, понимаешь, что буквально ещё несколько дней назад ходил с волосами, виделся с друзьями, мог пойти куда-то погулять. А тут на тебе шинель, которая тебе не по размеру, которая сковывает все движения. Ремень такой, как пластиковый, который дубел на морозе и превращался в железный обруч. Сапоги, в сапогах ноги, обутые в портянки. А портянки никто толком не умел наматывать, потому что показали один раз. Твоё дело – запомнил, не запомнил… И самое главное, что вокруг тебя люди, которых ты абсолютно не знаешь, но эти люди… Ещё раз говорю, это не строевые войска, это стройбат – это отбросы…
– У меня возник вопрос, – прервал Вову Молчун, – вы сказали, что вы с братвой. А с кем-то отношения уже наладились из этой братвы, так сказать? Или вы просто так, абстрактно с братвой? Или вы толком и не знали их – как зовут, кто они, откуда?
– Смотрите, не, не, не. Кто-то уже с кем-то перезнакомился, но ещё чёткой иерархии не было выстроено. Как знаете, в тюрьме живут так называемыми «семьями», то есть объединяются и вместе ведут какой-то быт. И они друг другу «семейники». То же самое было и там. Потому что, ещё раз говорю, 85–90 процентов коллектива были судимые и сидели, многие – по 3–4 года. Я, конечно, познакомился с некоторыми ребятами, с которыми мы держались вместе. Один из них был наполовину армянин, наполовину русский, его потом перевели служить в Москву. Ещё был парень из Москвы – я так и не понял, за что он попал в стройбат, но говорил, что судим не был. И ещё один был Толя Барсуков, из Орехово-Борисово. У того была судимость. Он был такой широкоплечий, высокий, здоровый – но не прямо весь мускул-мускул, а просто высокий и здоровый. И мы держались вчетвером. Потому что блатные – они сразу друг друга нашли. По татуировкам, по повадкам, они сразу скучковались. Они уже знали, что надо делать какие-то общаковые[34] запасы – сахара, сигарет, того, сего. А мы то, даже если у нас и были судимости – они все были условными. То есть мы на зоне не были, не проходили эту школу. А то, что здесь практически весь контингент судим, я знал. Естественно, я знал. Потому что ещё сидя на КСП, помню, в пьяном угаре каждый орал: «У меня статья такая-то, а у меня такая-то!» – И короче все: «О, братва!» – И я поэтому и сказал, что я с братвой. Я не мог подобрать другого термина.
– Я имею в виду мотивацию. Вы хотели остаться с теми парнями вместе, поэтому так сказали? Или как протест, например?
– Мотивацию я скажу… Не протест, конечно. Скорее всего, мотивация была такая – эту толпу я уже хоть как-то знаю. А то, что предлагают – мне сейчас надо самому принять решение, и это совершенно неизвестные для меня вещи. Всё равно я остаюсь в армии, всё равно… Я не знаю… И поэтому я не мог оценить все «за» и «против». И ещё раз говорю, если была бы голова на плечах, если был бы жизненный опыт настоящий, а не вот этот вот показушный, который, в общем-то, всю жизнь и был, то, конечно же, я бы всё взвесил и остался в штатном оркестре. А так… Вот почти сто человек – те, которых я хотя бы в лицо знаю. Тем более, уже есть три-четыре кореша какие-то, которые с тобой общаются, с которыми можно пойти покурить и так далее… Вот такая мотивация была.
– Ну хорошо, – Молчун согласно покивал головой, показывая, что ответ его удовлетворил. – Вы продолжайте.
– Ну и вот… Вывели нас из бани всех на морозный плац[35], построили в колонны. Пинками объяснили, как надо стоять, как надо реагировать на команды, и повели в казарму. Там самое яркое впечатление было такое – всех распределили, это твоя койка, это твоя, это твоя. Кровати одноярусные были. Потом «Отбой!» – начинаешь раздеваться. – «Не, бойцы, так не пойдет. Отставить отбой! Одеться всем!» – в общем, главное было – быстро раздеться, и на табуретке прикроватной сложить форму так, как положено. Она складывается определённым образом для соблюдения последовательности, в которой ты будешь одеваться. Чтобы ты не путался в вещах и чтобы форма меньше мялась. Потому что нет ни прачек, ни глажек, а солдат должен выглядеть прилично. Вот этого добивались от нас старшины и сержанты.
– И как, получилось? – поинтересовался Авдеев.
– Раза с пятнадцатого… Что удивительно, потом я заснул мертвецким сном. То есть – чик, лампочку выключили. Потом её – чик, и тут же включили от дикого крика сержанта, который орал: «Рота, подъём!» – Он, видимо, настолько был поднаторевший, что не среагировать на это было невозможно. Но мозг мой не среагировал! А вся физика среагировала – я пружиной подорвался и как рыба, открыв рот, тупо по сторонам смотрю. У меня ещё рядом парень был. Он: «Давай, давай, одевайся быстрее». Он раньше сообразил и продолжает мне: «Одевайся быстрее». Я начинаю одеваться и вдруг понимаю, что мне очень, просто вот бывает такое, хоть ты тресни, но мне это сейчас надо – я очень хочу маминого вишнёвого компота! И я начинаю его искать в тумбочке. Я не отдаю себе отчёт! Просто в голове сбой какой-то! Вишнёвый компот, холодный! Вот сейчас очень хочу! Глоток хотя бы! Потом, естественно, от какой-то оплеухи или очередного пинка или тычка в спину я очнулся, оделся и встал в строй.
– Без компота? – рассмеялся Авдеев.
– Без него, – улыбнулся Довганик. – Ну а дальше понеслось. Строем в столовую. Это огромный зал. Все подходят к столам, никто не садится, ни к чему не притрагивается, пока не поступит команда ротного: «Приступить к приёму пищи!» – То, что там давали, есть было невозможно ни при каких обстоятельствах. Сначала, конечно, кто-то тупил, кто-то нос воротил, но в итоге всё выглядело так – с молниеносной быстротой черпаком разливалось первое по мискам. Оно, какое бы ни было, не важно – мясо со шкурой, с шерстью, картошка червивая, с глазками, чёрная, не очищенная – всё это сжиралось. Потом с такой же молниеносной быстротой в эти же миски этим же черпаком клалось второе. А второе – это та же самая небритая козлятина, только на комбижире и с какой-нибудь крупой – рисом или сечкой[36]. А если была гречка – это было счастье! И потом нечто похожее на чай, уже разведённое с сахаром, и кусочек белого хлеба с маслом. Это была кормёжка советского солдата в то время. А если у кого-то завалялась где-то печенька – это был праздник.
Владимир непроизвольно сморщился, вспоминая это меню, запил неприятные ощущения водой и продолжил:
– В армии, естественно, была градация. Например, после присяги тебе по заднице били черпаком из столовой двадцать четыре раза – по числу месяцев службы. Так производили в салабоны[37]. А это, я хочу сказать, не просто больно, а кожа слезает и задница становится чёрная, несмотря на то, что бьют через одежду – но наотмашь. А пока мы были вообще ещё никто – духи[38]. А дух – это совершенно бесправное существо! Но всё равно дух должен был выглядеть опрятно, поэтому старослужащие объяснили, как чего пришивать, подшивать. Естественно, навыка никакого не было. Ну и мы как-то ночью, потому что в наряд нас поставили с этим Барсуковым Толей… Я вперёд немного забегу. Он впоследствии, уже после армии, сел лет на двенадцать, по-моему. Ему то ли не давали водку, то ли у него не было денег, и он кинул боевую гранату в окошко коммерческого киоска. А так мы с ним очень мило разговаривали – как подворотнички подшивать, как чего, туда-сюда. Потому что утром нужно было принимать решение. Нам объявили, что призыв – вот эта команда – будет разделен на две части. Одна останется здесь, другая поедет дальше, в Ангарск. Мы, конечно, сидели и думали, где лучше, а где хуже. Тут-то плохо! Ну плохо! А может, там будет лучше?




