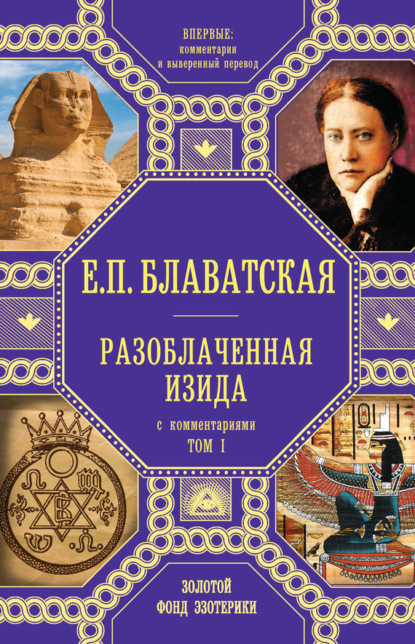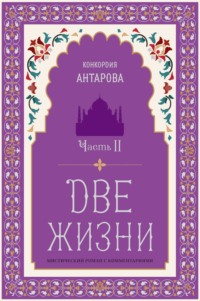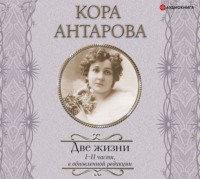Полная версия
Две жизни. Роман в четырех частях
Лишь по прошествии какого-то времени, когда я намечу свой путь в творчестве, найду силы крепко держать себя в руках, – только тогда я смогу быть нужным сэру Уоми, как ему нужны сейчас Иллофиллион и Ананда.
Я рад, что первое легкое испытание меня больше не расстраивает. Сколько бы времени ни прошло до нового свидания с сэром Уоми, я думаю только об одном: достойно прожить каждую минуту разлуки с ним, не потеряв ни мгновения попусту.
– Ты совершенно прав, друг; надо быть достойным всего того, что получено от сэра Уоми, Ананды и Иллофиллиона. Но ты теряешь только первого из них, я же теряю не только всех троих, но и тебя. С кем могу я теперь, после того как я понял глубочайший смысл жизни, поделиться своими новыми мыслями? Я и раньше был всегда замкнут и носил прозвище «ящик с тайнами». Кому же теперь я могу высказывать свои мысли и как мне искать тот путь единения, о котором говорят мои новые друзья?
– Я, конечно, ничего еще не знаю и мало что понимаю в жизни, капитан. Но я видел, что для вас стал понятен язык музыки. У вас есть теперь новая основа для понимания Лизы и ее матери. И вы сами как-то говорили мне, что много думаете о Лизе и написали ей письмо.
Это первое. Второе – разве между вами, мною и еще сотней обычных людей и нашими высокими друзьями лежит пропасть? Разве вы хоть раз видели, чтобы они показали людям свое превосходство, презирали кого-то или не помогли тем, кому могли помочь? Хоть раз вы их видели тяготящимися той или иной встречей? Так и мы: насколько можем, должны стараться следовать их примеру.
Третье, если я расстаюсь с сэром Уоми и Анандой, сохраняя близость Иллофиллиона, то из опыта потерь, разлук, разочарований и горя последних месяцев я понял только одно: люби до конца, будь верен до конца, не бойся до конца, – и жизнь посылает вознаграждение, откуда не ждешь.
– Мальчишка мой, милый философ! Пока я еще ни разу не любил до конца, не хранил верность до конца и не был храбрым до конца, а утешение от твоей кудрявой рожицы уже получил, – весело расхохотался капитан. – Ну, вот что. Скоро одиннадцать часов. Поедем-ка в оранжерею и привезем цветов, Левушка.
– Ох, капитан, у сэра Уоми в его собственном саду такие цветы, что лучше уж нам и не срамиться.
Капитан напялил мне на голову шляпу, мальчишески засмеялся и потащил на улицу.
Очень быстро мы нашли экипаж и покатили к его другу-садоводу. Подгоняемый хорошим вознаграждением, кучер забыл свою константинопольскую лень, и вскоре мы стояли перед самим садоводом.
Капитан оставил меня у деревца с персиками, которые хозяин любезно предложил мне есть сколько хочется, а сам ушел с ним в оранжерею.
Не успел я насладиться чудесными персиками, как он уже вышел, неся цветы в восковой бумаге. Хозяин уложил их в корзиночку с сырой травой, обвязал и подал мне. Она была довольно тяжелая.
Когда мы ехали обратно, я спросил моего спутника, почему он не показал мне цветы, словно это завороженная красавица.
– Цветы эти и есть красавицы. Они очень нежны и так чудесны, что ты немедленно превратился бы в «Левушку – лови ворон», если бы я тебе их показал. А у нас времени в обрез.
– Ну хоть скажите, как зовут ваших таинственных цветочных красавиц? – спросил я с досадой.
Капитана рассмешила моя раздраженность, и он сказал:
– Философ, их зовут фрезии. Это горные цветы, их родина – Индия. Но если ты будешь сердиться, они станут из белых черными.
– Ну, тогда вам придется подарить их Хаве; сэру Уоми еще черных красавиц не надо. Довольно и одной, – ответил я ему в тон.
Капитан весело смеялся, говорил, что я все еще боюсь Хавы и что, наверное, мое «не бойся до конца» относится к обществу Хавы.
– Очень возможно, – ответил я, вспоминая письмо Хавы, которое я получил в Б. – Но, во всяком случае, если она когда-нибудь и будет жить в моем доме, то я буду ее бояться меньше, чем вы боитесь сейчас Лизы и всего того, что должно у вас с нею произойти, – брякнул я, точно один из тех попугаев, которых разносят в Константинополе, чтобы они вытаскивали билетики «судьбы» и предсказывали любопытным их будущее в виде свернутого в трубочку билетика.
Удивление капитана превратило его в соляной столб.
Не знаю, чем бы это кончилось, если бы мы не подъехали в эту минуту к дому и не встретились с Анандой и Хавой, шедшими к сэру Уоми.
– Возьмите ваших красавиц, – сказал я, подавая капитану цветы.
– Каких красавиц? – спросил Ананда.
– Белых, для сэра Уоми, если они еще не почернели, – очень серьезно сказал я. – Если же почернели, то…
– Замолчишь ли ты, каверза-философ?! – закричал капитан.
Хава очень была заинтересована, каких еще красавиц не хватало сэру Уоми.
– Горных, – шепнул я ей.
– Нет, это невыносимо! Неужели вы притащили ему козленка? – смеялась она, обнажая все свои белые зубы.
– Вот-вот, из самой Индии, если только этот козленок не позавидовал вашей черной коже и не сделался черным.
– Левушка, ну есть же границы терпению, – воскликнул капитан, начиная чуть-чуть сердиться.
Ананда погрозил мне, взял из моих рук корзинку и развязал ее. Вынув цветы из бумаги, он издал восклицание восторга и удивления.
– Фрезии, фрезии! – воскликнула Хава. – Сэр Уоми очень хотел их иметь, чтобы развести у себя в саду! Это ему будет очень приятно. Да они в горшках, в земле и во мху! Ну, кто из вас выдумал такого козленка, тот счастливец. Если бы умела завидовать, непременно позавидовала бы удачнику.
– Пожалуйста, не завидуйте, а то вдруг они и вправду почернеют, – сказал я, любуясь никогда не виданными роскошными цветами. Белые, крупные, как восковые, точно тончайшим резцом вырезанные, необычной формы колокольчики наполнили прихожую ароматом.
Капитан взял один горшок, дал мне другой. Когда я отказывался, уверяя, что идея и находка – его, он улыбнулся и шепнул мне:
– Одна фрезия – я; другая – Лиза. Вы шафер. Идите и молчите наконец.
– Ну, уж Лиза фризия, – куда ни шло. Но вы, вы ужасно любимая, но просто физия, – так же шепотом ответил я ему.
– Эти китайчата будут до тех пор разводить свои китайские церемонии и топтаться на месте, пока не опоздают, – сказал Ананда с таким веселым юмором в голосе, что мне представилось, будто его тонкое, музыкальное ухо уловило наш шепот. Я не мог выдержать, залился смехом, которому ответил смех сэра Уоми, отворившего дверь своей комнаты.
Увидав наши фигуры с горшками цветов, имевшие, вероятно, довольно комичный вид, сэр Уоми сказал:
– Да это целая свадьба! – Он ласково пригласил нас в комнату, взял у каждого из нас цветок и обоих нас обнял, благодаря и говоря, что разведет по клумбе фрезий в своем саду, присвоив каждой название морской и сухопутной.
Очень внимательно осмотрев цветы, сэр Уоми позвал своего слугу и вместе с ним упаковал их в нашу же корзинку, обильно полив водой и цветы, и прикрывавшую их траву и приказав завернуть корзинку в несколько слоев бумаги и в грубое мокрое полотно. Слуга исполнил приказание и вместе с вынырнувшим откуда-то верзилой, взявшим чемодан, пошел вперед на пристань.
Много народа было в комнате. Были и такие лица, которых я совсем не знал; кое-кого видел мельком, а из хорошо знакомых мне были только турки, Строганов и князь.
Для каждого у сэра Уоми находилось ласковое слово. Мне он сказал:
– Ищи радостно, – и все ответит тебе. Цельность чувства и мысли скорее всего приведут тебя к Флорентийцу. О брате не беспокойся. Выработай ровное отношение к нему. Наль – не Анна.
Я приник к его руке, ошеломленный его словами, как бы ответом на самые затаенные мои мысли.
Все проводили сэра Уоми до коляски; в нее сели также Иллофиллион, Ананда и Хава. Я спросил Иллофиллиона, не навестить ли нам с капитаном Жанну, на что он ответил одобрением, сказав, что зайдет к ней за нами вместе с Анандой.
Экипаж завернул за угол и скрылся из глаз всех провожавших. Вздох сожаления вырвался у всех, а князь плакал, как ребенок. Я подошел к нему и предложил пойти с нами к Жанне, говоря, что туда приедут Иллофиллион с Анандой, как только проводят сэра Уоми.
Он согласился, видимо, обрадовавшись случаю не быть сейчас дома, и попросил подождать его несколько минут. Я понимал его состояние, потому что у меня самого слезы подкатывали к горлу, и я подавил их с большим трудом. Как ум ни говорил мне, что надо сделать над собой усилие и перейти в иное, не унылое настроение, – состояние мое снова было близко к тому, которое я испытывал у камина в комнате брата, сжигая письма.
– Какая страшная вещь – разлука, – услышал я голос капитана, как бы отголосок собственной мысли.
– Да. Мы должны что-то понять, какой-то еще неведомый нам смысл всего происходящего. Научиться воспринимать все так, как говорит и делает сэр Уоми: «Не тот день считай счастливым, который принес тебе что-то приятное; а тот, когда ты передал людям свет своего сердца». Но для меня это еще так далеко, – сказал я со вздохом.
– Для вас далеко, – задумчиво ответил мне капитан, – а для меня, боюсь, и вовсе недоступно.
Князь вышел к нам, извиняясь, что задержал, и мы пошли по знойным, как раскаленная печь, улицам, ища тенистых мест, хоть это мало нам помогало.
В магазине мы нашли обеденный – или, вернее, связанный с жарой, как всюду в Константинополе, – перерыв. Анна сидела в кресле внизу у шкафа, за работой, а Жанна все еще лежала наверху, хотя уже поднималась ненадолго и пыталась работать.
Анна была бледна, похудела. Но в глазах ее уже не было убитого выражения и того отчаяния, какое я видел в них здесь же, во время ее разговора с сэром Уоми.
На низкий поклон капитана она приветливо улыбнулась ему и протянула левую руку, говоря, что не может оставить зажатых в правой руке цветов.
Он почтительно поцеловал эту дивную руку со сверкавшим на ней браслетом. «Боже мой, – думал я. – Как страдание и соприкосновение с людьми, одаренными силой высшего знания, меняют людей! Еще так недавно я видел эту гордую красавицу возмущенной откровенным мужским восхищением капитана. И он, стоящий теперь перед ней с таким уважением, с кроткими и добрыми глазами, – куда же девались капитан-тигр и Анна с иконы? Тех уже нет, нет до основания, а живут новые, – вместо тех, умерших».
Я превратился в «Левушку – лови ворон», мысли закипели в моей голове, наскакивая друг на друга, одна другую опрокидывая, не доходя ни в чем до конца и точно решая вопрос – надо ли, так меняясь, умирать людям, превращаясь в совершенно другие существа? Зачем?
Мне казалось, я вижу и слышу вопли и стоны тысяч душ, мечущихся в хаосе и оплакивающих свои заблуждения и непоправимые ошибки, и молящих о помощи.
– Левушка, что с вами? – услышал я нежный и слабый голосок Жанны.
– Ах, это вы, Жанна? – вздрогнул я, опомнившись. – Я хотел к вам подняться, да по обыкновению задумался и заставил вас спуститься сюда, – ответил я, здороваясь с Жанной.
– О, это ничего. Князь мне помог сойти. Ах, Левушка, как же вы переменились после болезни. Вы ничуть не похожи на господина младшего доктора, который утешал меня на пароходе. Дети спят, а то, пожалуй, они бы вас сейчас не узнали. Вы совсем, совсем другой, только я не умею сказать и объяснить, в чем изменение, – говорила Жанна, усаживая меня и князя в углу магазина.
– Человеку всегда кажется, что изменились именно окружающие его люди, потому что перемены в самом себе он замечает с трудом. И только тогда, когда что-нибудь очень важное входит в его жизнь, он отдает себе отчет в том, как он сам изменился, как выросли его силы и освободился дух.
Вы, Жанна, кажетесь мне не только изменившейся, но вы вся точно сгорели; и вместо прежней Жанны я вижу страдающее существо. Что с вами, дорогая? Ведь нет никаких причин вам так тосковать и плакать, – нежно целуя крохотную, детскую ручку Жанны, сказал я.
– Ах, если бы вы знали, вы бы не поцеловали моей руки, – вытирая катившиеся слезы, ответила мне Жанна. – И перед князем я виновата, и перед Анной, и перед Иллофиллионом. Ах, что я наделала, и как теперь мне все это исправить? – сквозь слезы бормотала бедняжка. – Я бы уже выздоровела, если бы раскаяние меня не терзало. Я нигде не нахожу себе покоя. Только когда лежу в кровати, на меня будто веет успокоением от полога, которым доктор Иллофиллион закрыл мой уголок. Когда мне бывает очень плохо, я прижмусь к нему лицом – и станет на сердце тихо!
Я случайно взглянул на Анну и поразился перемене в ней. Склонившись вперед, глядя неотрывно на Жанну, точно умоляя ее замолчать, она сжимала в руках шитье, а слезы капали ей на грудь одна за другой. Я понял, какую муку она испытывала, как оплакивала предназначавшийся ей, но так и не полученный хитон, наш отъезд без нее и свои неправильные, вплоть до сей минуты, поступки.
– Анна! – крикнул я, не будучи в силах выдержать ее муки. – Отсрочка – не значит потеря. Анна, не плачьте, я не в силах видеть этих слез, я знаю, что значит безумно рыдать в тоске, видя себя точно на кладбище.
Не думайте сейчас о себе. Думайте об Ананде, о том огромном горе, разочаровании и необходимости отвечать за вашу ошибку, которые легли на него, – упав перед ней на колени, говорил я. – Совсем скоро Ананда и Иллофиллион придут сюда. Неужели возможно встретить их таким убийственным унынием после того, как они проводили сэра Уоми?! Неужели ваши любовь, благодарность и радость о том, что они живут сейчас с нами, могут выражаться только в слезах о себе?
– Встаньте, Левушка, – обнимая меня, сказала Анна. – Вы глубоко правы. Только горькая мысль об одной себе заставила меня опять плакать. А между тем я уже все поняла, и все благословила, и все приняла.
Посидите здесь возле меня минутку, друг Левушка. Поверьте, я уже утихла внутри. Это отголосок бури, который вы вовремя помогли мне прервать. Много лет я думала, что в сердце моем живет одна только светлая любовь. А недавно я убедилась, что там еще лежала, свернувшись, змея ревности и сомнений.
Слава богу, что она здесь развернулась и раскрыла мне глаза. Ананда получил удар, но все же мог удержать меня возле себя так, чтобы я не выпустила его руки из своей. Вы напомнили мне, что мои слезы задевают все его существо, что он их чувствует как слезы гноя и крови. Я больше плакать не буду; благодарю за ваши слова – они помогли мне.
Она отерла глаза, подошла к Жанне и, нежно ее обняв, вытерла ее слезы платком сэра Уоми.
Надрыв, который я пережил, почти лишил меня чувств. Я неподвижно сидел в кресле; сердце мое билось как молот; в спине, по всему позвоночнику, точно бежал огонь; я с трудом дышал и, как мне казалось, падал в пропасть.
– Левушка, ты всех здесь напугал, – услышал я голос Ананды и увидел его возле себя. – Выпей-ка вот это; я думал, что ты уже сильнее, а ты все еще не совсем здоров, – и он подал мне рюмку с каплями.
Вскоре я совсем пришел в себя, спросил, где Иллофиллион, и, узнав, что он прошел к Строганову и вскоре тоже придет сюда, совсем успокоился.
Я обвел всех глазами, заметил, что Хава пристально смотрела на меня, а все остальные имели смущенный вид. Я взял руку Ананды, неожиданно поднес ее к губам и сказал:
– Простите меня, Ананда. Я немного половиворонил, чем всех расстроил и привел в такое состояние, что они стали похожи на утопленников. Вот, вы тоже думали, что я крепче, и я обманул ваше доверие. Я очень сожалею об этом и постараюсь быть сильнее. Но ведь это все пошло от вашей дервишской шапки, – улыбнулся я.
– Нет, мой мальчик, ты ничьего доверия не обманул. Никто здесь не мог обмануть, и не обманул меня. Все, что вышло не так, как я предполагал, совершилось только потому, что я был в старинном долгу у людей и хотел поскорее вернуть мой долг сторицей. Я не заметил, что не надо было так усиленно продвигать людей вперед. Зов дается однажды; я же дал его дважды, за что и дам теперь ответ.
Я не все понял. Какой, когда и зачем дается зов? Но я понял, что он дал его вторично Анне и что этого не надо было делать.
Голос Ананды – всегда неповторимо прекрасный – нес в себе на этот раз особые нежность, утешение и такую искреннюю доброту, что все утихли, всем стало легко и радостно. Лица у всех прояснились и стали светлее. Каждый точно вобрал в себя искру энергии самого Ананды, и когда через некоторое время вошли Иллофиллион и Строганов, ни на одном лице уже не было ни тени уныния и слез.
Разбившись группками, я и Жанна, князь и Иллофиллион, капитан и Строганов, Анна и Ананда, – все как будто окрыленные и обновленные, обменивались простыми словами, но слова эти получили какой-то новый смысл от сияния мира в каждом сердце.
– Друзья мои. Через день нас покинут капитан и Хава. Завтра мне хотелось бы, прощаясь с ними, угостить их музыкой. Можно ли располагать вашим залом, Анна? – спросил Ананда.
– Как вы можете спрашивать об этом? Для всех ваши песни и игра несут столько счастья! Мне же сэр Уоми велел играть и петь людям как можно больше. А уж о своем восторге играть с вами я и не говорю, – ответила она.
Перерыв в работе кончился. Радуясь завтрашней музыке, мы покинули магазин, где с его хозяйками остался только Борис Федорович.
Иллофиллион с Анандой и князем не страдали от жары и шли довольно быстро, оставив нас с капитаном далеко позади. Я же еле двигался; зной, к которому я еще не привык, меня всего истомил, а капитан отстал вместе со мной, желая что-то сказать. Когда расстояние между нами и нашими друзьями увеличилось настолько, что расслышать нас было нельзя, он сказал:
– У меня к вам просьба. Я получил сейчас из дома так много денег, что их мне девать некуда. Я хочу половину их отдать Жанне с тем условием, чтобы она никогда не узнала, кто ей их дал. Я знаю, что Иллофиллион финансово обеспечил ей первые годы работы, знаю и то, что княгиня, до некоторой степени, позаботилась о детях. Но мне хотелось бы влить уверенность в это бедное существо, которое страдает, страдало и – не знаю почему, как и откуда, но я ясно это сознаю, – будет еще очень много страдать.
За свою скитальческую жизнь я видел таких людей, которые – по каким-то неуловимым для моего понимания законам – страдают всю жизнь, даже когда нет на то особых, всем видимых причин.
Сам я уже не успею положить в банк на ее имя деньги, так как эта операция займет не менее двух часов. А дел у меня будет масса, поскольку я прогулял почти весь день сегодня.
Вторую же часть денег я прошу вас взять в свое распоряжение. И если встретите людей, которым моя помощь может быть оказана вашими руками, – я буду очень счастлив.
Ну вот мы и у калитки. До свидания, дружок Левушка. По всей вероятности, мы увидимся только завтра вечером у Анны. Возьмите деньги.
Он сунул мне в руки сверток, довольно небрежно завернутый в бумагу, и мигом скрылся.
В комнате я застал Иллофиллиона, посоветовавшего мне освежиться душем. Но я чувствовал такое сильное утомление от зноя, что еле добрел до кресла и сел в полном изнеможении, нелепо держа сверток в руках и не зная, что с ним делать.
На вопрос Иллофиллиона, почему я не положу свой сверток куда-нибудь, я рассказал ему, что это деньги капитана, упомянув о том, как он велел мне ими распорядиться. При этом я передал все, что думал капитан о будущем Жанны.
– Молодец твой капитан, Левушка. Что касается денег для Жанны лично – то он предупредил желание сэра Уоми, который велел мне обеспечить ее. Как капитан угадал мысль сэра Уоми о фрезиях, так и вторую его идею он реализовал, никем к тому не побуждаемый!
Что же касается денег, отданных в твое полное распоряжение, думаю, что капитан хотел их подарить тебе, дружок, чтобы и ты чувствовал себя независимым в дальнейшем, пока сам не заработаешь себе на жизнь.
– О нет, дорогой Иллофиллион. Капитан в очень простых отношениях со мною. И если бы он хотел отдать их лично мне, он поступил бы как молодой Али, оставив их в письме. У меня нет сомнений в этом, и лично себе я бы их не взял никогда. Я думаю, что я так малоопытен, что сам едва ли сумел бы распорядиться ими как следует. Но при вас эта проблема отпадает. Одно ясно мне, что деньги эти я употреблю – во имя Лизы и Анны – на покупку инструментов талантливым беднякам-музыкантам, если таких встречу до нового свидания с капитаном. Если же не встречу или вы не укажете мне иного применения этим деньгам – они вернутся к нему. Я очень хотел бы, Лоллион, услышать ваше мнение об этом.
– Поступи как считаешь нужным, дружок. Запрета здесь нет никакого. Но почему ты решил, что лично себе не оставишь этих денег? Разве твой брат не мог бы нуждаться в них?
– Мой брат – мужчина и чрезвычайно благородный человек. Если он решил жениться – значит, он не настолько беден, чтобы не иметь возможности обеспечить жену. А если бы я узнал, что он нуждается, то пошел бы в какую угодно тяжелую кабалу, но послал бы ему только то, что смог бы заработать сам. Я и так в бесконечном долгу у вас, у Флорентийца и у молодого Али. Конечно, я в долгу и у брата. Но если я могу еще рассчитывать возвратить ему свой долг, то уж вам я никогда не смогу вернуть и сотой его доли.
– Все это предрассудки, Левушка. Человек закрепощает себя в долгах и обязанностях. Иногда он так утопает в мыслях о своих нравственных долгах, что положительно похож на раба, подгоняемого со всех сторон плеткой долга. А смысл жизни – в освобождении. Только то из добрых дел достигает творческого результата, что сделано легко и просто.
Принимай все, что посылает тебе жизнь, совершенствуйся, учись и рассматривай себя как канал, как соединительное звено между нами, которых ты ставишь так высоко, и людьми, которым сострадаешь. Передавай, разбрасывай полной горстью всем встречным все то, что поймешь и примешь от нас и через нас. Все высокое, чего коснешься, неси земле – и выполнишь свою задачу жизни. Но то будет не тяжкий и скучный долг добродетели, а радость и мир твоей собственной звенящей любви.
– Далеко еще мне, Лоллион, до всей той мудрости, которую я слышу и вижу в вас. Я самых простых вещей не умею делать. Все раздражает меня. Иногда даю себе слово помнить о вас, о Флорентийце, поступать так, как будто бы вы стоите рядом, – и при первой же неприятности спотыкаюсь, горячусь – и все летит вверх дном.
– Пока ты будешь повторять себе – умом, – что я рядом с тобой, всегда твое самообладание будет пороховой бочкой. Как только ты почувствуешь, что сердце твое живет в моем и мое – в твоем, что рука твоя в моей руке, ты уже и думать не будешь о самообладании как о самоцели. Ты будешь его вырабатывать, чтобы всегда быть готовым выполнить возложенную на тебя задачу. И времени думать о себе у тебя не будет…
Иллофиллион помолчал, думая о чем-то, и продолжал:
– Сегодня мы с тобой не будем обедать с князем, которому надо очень о многом переговорить с Анандой. Если ты отдохнул, мы можем с тобой поехать к нашему другу кондитеру, заказать ему пирожные к завтрашнему вечеру и у него же поесть. Но предварительно мы можем заехать в банк; у меня там есть один знакомый, который быстро сделает все, что нужно, и уже завтра Жанна будет извещена, что она владелица определенного состояния. При ее буржуазной психологии это будет для нее огромным облегчением в жизни.
Я был очень благодарен Иллофиллиону за его неизменную доброту ко мне. У меня вертелся на языке вопрос о Генри, о Браццано, хотел бы я спросить кое-что и о Хаве, – но ни о чем не спросил, пошел в душ, и вскоре мы уже были в огромном зале банка, где сотни спускающихся с потолка вращающихся вееров не могли умерить жары.
Одна часть денег была положена на имя Жанны, с правом пользоваться ею как угодно. Вторая была переведена на мое имя по адресу, указанному мне Иллофиллионом, с какими-то мудреными индусскими названиями, никогда мною не слышанными.
Пока мы сидели в банке, ожидая исполнения нашего заказа, я поделился с Иллофиллионом своей печалью, что ничего не могу подарить капитану, оставившему мне на память такое великолепное кольцо.
– Не горюй об этом. Капитан очень счастливый человек. Он получил от Ананды кольцо, как залог их вечной дружбы. Ананде капитан вернул вещь, имеющую для него очень большое значение. Вообще теперь путь капитана не будет одиноким, и Ананда всегда сможет помочь ему.
Тебе же я могу дать платок сэра Уоми, точно такой же, какой он передал Анне. Если хочешь, – подари его капитану и заверни в него книгу, которую я тоже дам тебе для него. Ты можешь написать ему письмо, а потом положить все к нему на стол. Он вернется и будет радоваться твоему подарку больше, чем всем драгоценностям, которые ты мог бы ему подарить.
Я от всей души поблагодарил Иллофиллиона и сказал ему: «Опять все от вас!»
Через некоторое время нас вызвали к кассовому окошку, все было оформлено и мы пошли к кондитеру, покинув банк почти в минуту его закрытия.
На улице уже не было удушливой жары, слегка повеяло влагой с моря – и я ожил.
– Трудно тебе будет привыкать к климату Индии, Левушка. Надо будет пообщаться с Флорентийцем и получить его указания, как укрепить твое здоровье, – задумчиво сказал Иллофиллион, беря меня под руку.