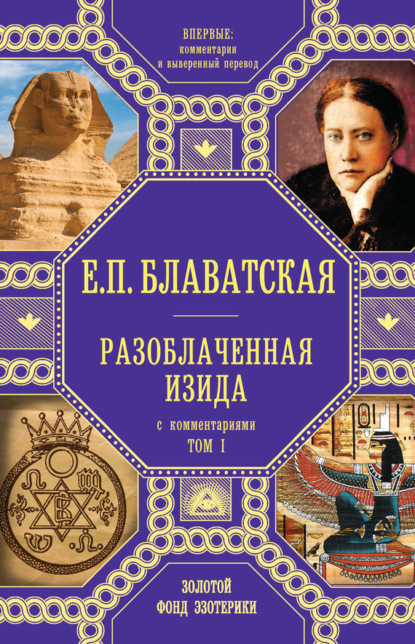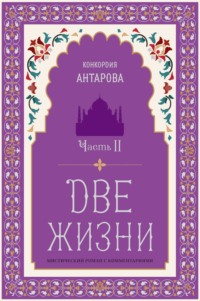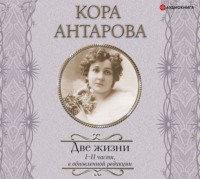Полная версия
Две жизни. Роман в четырех частях
– Вам не о чем меня просить, княгиня. Это я пришел поблагодарить вас за бедных детей, которых вы облагодетельствовали. Я ведь вам ничего не говорил о них. Я только указал вам, что вы обидели их мать на пароходе. А вы не только осознали свою ошибку, но и творчески исправили, положив на каждого ребенка по десять тысяч. Знаете ли вы, как ценен ваш дар именно потому, что никто у вас его не просил, а вы сами оказали бедным детям такую помощь? Если бы вы спросили совета у десяти мудрецов, то и тогда вы не поступили бы правильнее и умнее.
– О, сэр Уоми. Во время моей болезни ваши помощники так много дали мне, и не только в физическом смысле. Из их разговоров со мною, таких терпеливых, любовных, мудрых, я поняла весь ужас, в котором прожила жизнь. И то, что вы говорите мне слова благодарности, тогда как им и вам я обязана более, чем жизнью, – я просто не могу перенести.
Княгиня закрыла лицо руками, немощными и узловатыми, и горько плакала.
– Не плачьте, княгиня. Непоправимо только то, чего человек не понял до самой смерти и так и ушел с земли.
Выслушайте меня. Если вы осознали, что вы обидели Жанну, – позовите эту милую и, поверьте, очень несчастную женщину и извинитесь перед ней.
Дар сердечной доброты – вот все, что необходимо человеку изливать в своем трудовом дне. И если вам кажется, что вы уже стары и больны, что ваше время для труда безвозвратно прошло, то это полнейший предрассудок. Можно быть обреченным на неподвижность, лишенным рук и ног – и все же не только трудиться, но и творчеством своей любви и мысли вдохновлять множество людей.
Наивысшая форма труда мудрости, какая известна мне, несет миру вдохновение и энергию одной силой мысли, оставаясь сама в полной внешней неподвижности. Но мысль этой неподвижной мудрости составляет огромную часть движения Вселенной. И каждому человеку – в том числе и вам – важно жить, не выключаясь из этого вечного движения, не останавливаясь, но все время идя в нем, как солнце и лучи, неразлучно.
Прост ваш день труда. Обласкайте каждого, кто войдет к вам. Если к вам пришел одинокий, отдайте всю любовь сердца, чтобы, уходя, он понял, что у него есть друг. Если придет скорбный, осветите ему жизнь вашей радостью. Если придет слабый, помогите ему знанием того нового смысла жизни, который вам открылся. И жизнь ваша станет благословением для людей.
Уймите слезы, друг. Постарайтесь спокойно, без обиды, стыда или раздражения вдуматься в то, что я вам скажу. Я не читаю вам проповедь, не поучаю вас условной морали земных кодексов. Я хочу помочь вам войти на иную ступень жизни, где вы сами могли бы раскрепоститься от тех страстей, в которых вы провели жизнь и от которых сами же больше всего страдаете.
Сейчас вы брезгливо отворачиваетесь, когда в ваших воспоминаниях встают те или иные образы. За всю вашу жизнь вы только один раз поверили в безусловную честность человека, в честность вашего мужа.
Не буду сейчас входить в подробности, так ли это было на самом деле, действительно ли вам встречались люди не слишком честные, или это вы сами так воспринимали людей и жизнь. Но – даже и в этом единственном случае – до конца ли вы доверились человеку? Разве вы ничего от него не утаили? Разве он знает истину, хотя бы о ваших денежных делах? Проверьте, ведь вы – как скупой рыцарь – боитесь открыть кому-либо тайну истинных боготворимых вами сокровищ, хотя вам и кажется, что вы уже победили свою жадность и скупость.
Зачем вы продолжаете жить во лжи?
Не существует одной земной жизни, вырванной из всей атмосферы Вселенной, а есть единая жизнь, неразделимое зерно духа и материи – общее колесо живущих в трудах неба и земли. Это колесо основано на единых принципах, общих для земли и неба, не терпящих лжи и лицемерия, не изменяющихся по воле и желанию людей, а действующих целесообразно и закономерно для всего мироздания. Пока вы окончательно не поймете этого, вы не найдете радости жить.
Сколько бы вам ни оставалось еще жить – вас неизменно будет преследовать страх, пока вы будете думать о каждом своем дне как о мгновении только одной вашей земной жизни.
Если не осознавать свою нынешнюю жизнь как связь вековых причин и следствий, то смысл ее сводится к нулю. Ради одних лишь страстей и желаний, и без знания, что свет горит в каждом человеке всего человечества Вселенной, жить творчески нельзя. Кто живет, не осознавая в себе этого света, тот примыкает к злой воле, стремящейся покорить мир, заставив его служить своим страстям, своим наслаждениям.
Когда умолк голос сэра Уоми, княгиня все еще сидела, закрыв лицо руками.
– Как могли вы так узнать все, сэр Уоми, словно я сама рассказала вам о своей жизни? – раздался голос княгини.
И какой это был голос! Точно ей стоило невообразимого труда каждое слово. Казалось, у нее схватило, как клещами, сердце и она преодолевает боль.
– Это не важно, княгиня, как я узнал о ваших тайнах. Не важно и то, что это я принес вам какую-то весть. Важна сама весть, которая дошла до вас, и то, как вы ее приняли. На Востоке говорят: «Нужно, и муравей гонцом будет», – ответил ей сэр Уоми. Но уже поздно, и вы утомлены. Примите лекарство, которое вам сейчас даст Иллофиллион, посидите с вашим милым мужем и обдумайте вдвоем все, что я вам сказал.
Мы еще некоторое время пробудем в Константинополе, и еще не раз я побеседую с вами. Помните только, что раскаяние, как и всякая жизнь в прошлом, не имеет смысла, так как лишено творчества сердца. Жизнь – это «сейчас». Это не «завтра» и не «вчера». Одно неизвестно, другого уже не существует. Старайтесь научиться жить летящим «сейчас», а не мечтой о завтра, которого не знаете.
Сэр Уоми встал, ласково простился с супругами и вышел к нам. Вместе мы пробыли недолго, сэр Уоми предложил нам с капитаном быстро переодеться в свежие костюмы и объявил, что мы сейчас поедем к Строгановым.
Он спросил нас, не изменилось ли наше решение помогать ему в деле разоблачения да-Браццано и освобождения несчастной семьи Строгановых от его гипнотической власти. Оба мы подтвердили, что остаемся верны данному слову, и сказали, что отдаем себя в его полное распоряжение.
– Друзья мои, – ласково сказал нам сэр Уоми, – есть такие стадии духовного развития, на которых некоторые земные дела уже невозможны для высоко продвинувшихся в духовном плане людей. Точно так же, как и некоторые дела на духовном плане, вибрации которого гораздо выше земных, недоступны обычным земным людям.
Сегодня не раз возникнет такая ситуация, когда ни один из нас не сможет прикоснуться к тому, что надето на людях, без риска причинить им сильный энергетический удар из-за воздействия на них наших более высоких вибраций, которых не смогут вынести их физические тела. Они могут заболеть и даже умереть от нашего прикосновения.
И вам придется действовать за нас, чтобы спасти этих людей. Будьте очень внимательными. Ничего не бойтесь. Слушайте то, что я буду вам говорить или что будут тихо передавать вам Иллофиллион или Ананда. Действуйте немедленно, как только получите приказание, выполняйте его точно и думайте только о том, что делаете в настоящий момент.
Теперь идите, лошади уже нас ждут; возвращайтесь сюда же, времени у вас двадцать минут.
Мы помчались к себе, быстро переоделись в новые костюмы и через четверть часа уже входили к сэру Уоми.
Наши друзья были облачены в плащи, а мы с капитаном взять их не догадались. Но слуга сэра Уоми, улыбаясь, подал и нам такие же плащи, и мы вышли к калитке.
Здесь нас ждал вместительный экипаж, мы уселись и поехали к Строгановым.
Я ожидал, что перед подъездом будет много экипажей, но оказалось, что пока была только одна коляска, из которой выходили Ибрагим с отцом.
Весь дом был освещен, но гостей нигде не было видно, комнаты были безлюдны. Мы с капитаном удивленно переглянулись, решив, что съезд еще, очевидно, не начался.
В гостиной мы застали всю семью Строгановых. Она была весьма многочисленна; я уже знал в лицо всех ее членов, но имен положительно не помнил.
Жена Строганова была в каком-то переливчатом, точно опал, платье. Она куталась в белый шелковый платок. Мне казалось, что причиной этого была не сырость от дождя, как она говорила, а ее стремление скрыть руки и шею, на которых не было ее прежних украшений. Вид у нее был смущенный и растерянный.
На Анне было синее платье с белыми кружевами, которое по цветовым сочетаниям напомнило мне платок сэра Уоми. Бледность ее лица меня поразила. Она была совершенно спокойна, и какая-то новая решимость чувствовалась в ней. На ее прелестной руке сверкал браслет Браццано.
Сам Строганов выглядел так, будто недавно встал после изнурительной болезни.
Что касается сына-любимчика Строгановой, вид которого в магазине Жанны внушал мне ужас и отвращение, то теперь на лице его было обычное свойственное ему презрительно-снисходительное выражение «неглиже с отвагой». Только иногда по его лицу пробегала легкая судорога, и он хватался за свою феску, точно желая удостовериться, на месте ли она. Я заметил, что страх, даже ужас, мелькал у него порой в глазах, когда он смотрел на сэра Уоми.
Словом, я окончательно превратился в «Левушку – лови ворон», в результате чего Иллофиллион взял меня под руку. Опомнившись, я увидел да-Браццано, входившего в комнату. На его адской физиономии было выражение такой наглой, самодовольной уверенности, точно он говорил: «Что, взяли? Да разве я был когда-нибудь скрючен или лишен способности говорить?»
Он развязно, как к себе домой, вошел в комнату. Фамильярно целуя руку Строгановой, он как будто чуть-чуть удивился ее равнодушию, но тотчас же, изображая из себя лорда высшей марки, направился к Анне. «Посмотрел бы ты на лорда Бенедикта», – мелькнуло в моей голове.
Склонившись перед Анной, но при этом нагло глядя на нее, как на свою собственность, он ожидал, чтобы она протянула ему руку. Не дождавшись и, очевидно желая скрыть досаду, он делано рассмеялся и сказал:
– Дорогая Анна, ведь вы же по-европейски воспитаны. И я не собираюсь устроить в своем доме гарем, хотя я и турок. Протяните же мне вашу прелестную ручку, на которой я вижу залог вашего согласия стать моей женой.
– Прежде всего я для вас не Анна, а Анна Борисовна. Что же касается каких-то залогов, то я их от вас не принимала и слов вам никаких не давала, – прервала она его так резко, что даже этот злодей опешил.
Не знаю, чем бы кончилась эта стычка, если бы Строганова не вмешалась, говоря ему:
– Браццано, что же вы не поздороваетесь с сэром Уоми и не познакомите нас с вашим другом?
Вместе с Браццано пришел человек высокого роста, широкоплечий, но с такой маленькой головой, что невольно вызывал представление об удаве. Лицо его, то ли из-за кожной болезни, то ли из-за злоупотребления спиртным, было ярко-красным, почти таким же, как его феска, с фиолетовым оттенком на щеках и носу, а маленькие черные проницательные глаза бегали по сторонам и шарили по всему, на чем останавливались.
Когда Анна обрезала Браццано, мне показалось, что на этом грязном и противном лице мелькнуло злорадство.
Браццано представил хозяйке и обществу своего друга под именем Тебальдо Бонда, уверяя, что красота Анны заставила его сегодня забыть все правила приличия.
– Впрочем, – прибавил он, поглядев на Анну и ее мать, – сегодня такой важный в моей жизни день, день побед, и власть моя сегодня возросла как никогда. В силу этого не имеет смысла так строго придерживаться условного этикета.
Он хотел снова подойти к Анне, но его задержала старая Строганова, сказав, что все мы ждали более получаса только его одного, чтобы сесть за стол, и что он опоздал свыше всякой меры, хотя и знает, что в этом доме – по любви хозяина к порядку – соблюдается точность начала всех трапез, что ему, Браццано, хорошо известно.
Браццано, привыкший видеть в Строгановой беспрекословно повинующуюся всем его капризам рабу, окаменел от изумления и бешенства.
Но не один он был потрясающе изумлен. Сам Строганов пронзительно посмотрел на свою жену и перевел вопрошающий взгляд на сэра Уоми. Тот ответил ему улыбкой, но улыбнулись только его губы. Глаза его, строгие, пристальные, с каким-то иным – несвойственным его всегдашней ласковости – выражением устремились на Браццано.
Побелевший от злости Браццано точно прошипел в ответ хозяйке дома:
– Я не привык выслушивать замечания нигде, а у вас в доме в особенности.
Он с трудом взял себя в руки, постарался улыбнуться, хотя вместо улыбки вышла гримаса, и продолжал уже более спокойно:
– Я простудился и был болен эти дни.
Внезапно он встретился взглядом с Анандой и точно подавился чем-то, кашлянул и продолжал:
– Лишь несколько часов тому назад я почувствовал облегчение, благодаря усилиям моего доктора, который меня сопровождает сейчас и которого я уже имел удовольствие вам только что представить, Елена Дмитриевна, – поклонился он Строгановой. – Пусть это печальное обстоятельство будет извинением моему опозданию. Смените гнев на милость и…
Тут он направился прямо к Анне, намереваясь вести ее к столу, и уже складывал свою правую руку калачиком, как ему опять не повезло. Откуда ни возьмись, вынырнула маленькая собачонка Строгановой, и Браццано, смотревший на Анну, а не себе под ноги, наткнулся на собачонку и едва не полетел на ковер.
Это было смешно: его грузная фигура точно до полу склонилась, полы его фрака задрались, да вдобавок он еще неловко зацепился за ножку стоявшего вблизи кресла и никак не мог разогнуться, – я не выдержал и залился смехом; мне вторили капитан, оба Джел-Мабеды, сам хозяин и все его многочисленные родственники. Только сэр Уоми и два моих друга хранили полную серьезность. Сэр Уоми подошел к хозяйке дома, поклонился ей и подал руку, чтобы вести ее к столу.
Я взглянул на капитана, чтобы поделиться с ним впечатлением от величавых, полных достоинства и спокойствия манер сэра Уоми, но взгляд капитана и так уже был прикован к нему – очевидно, он уже почувствовал на себе необычное обаяние сэра Уоми.
Пока доктор Бонда помогал Браццано выпрямиться, что произошло не без труда, Ананда подошел к Анне, точно так же поклонился ей, как сэр Уоми ее матери, слегка склонив голову, и подал ей руку.
Как прекрасны были они оба! Так же прекрасны, как в первый музыкальный вечер в доме князя, в день приезда Ананды. Я забыл обо всем, улетел куда-то, стал «Левушкой – лови ворон» и внезапно услышал голос Флорентийца.
«Ты видишь сейчас величие и ужас путей человеческих. Ты видишь, что всякий человек, идя своим путем, может прийти к истинному знанию лишь тогда, когда его верность избранным идеалам стала уже не просто качеством, а главной осью его существа – осью, на которой основывается и развивается все его творчество. Учись различать пути людей. И помни, что никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе Учитель».
Я рванулся было вперед, туда, где я слышал голос, но Иллофиллион держал меня крепко под руку, а капитан удивленно посмотрел на меня.
– Вам, Левушка, нехорошо? Чем вы расстроились? – тихо спросил он меня.
– Вот видишь, как надо быть внимательным. Держи руку Флорентийца в своей, как будто он здесь рядом с тобой, – шепнул мне Иллофиллион.
– Нет, капитан, я вполне здоров, – ответил я моему другу. – Это Бог меня наказал за то, что я так потешался над Браццано.
– Ну, если уж Богу стоит сюда вмешиваться, – возразил, смеясь, капитан, – то только разве затем, чтобы покарать этого наглеца и шарлатана, а никак не наказывать невинных младенцев за вполне естественный смех.
Между тем сэр Уоми уже входил – впереди всех следовавших за ним пар – в двери столовой. Уже и Ананда с Анной были много впереди нас, а Браццано со своим доктором все еще стояли в стороне.
Браццано, стоя в отдалении, тяжело дышал и что-то резко говорил по-турецки своему собеседнику, который старался его успокоить.
– Ваши лекарства что-то мало помогают, – вдруг насмешливо сказал он, подойдя поближе к нам. – Вот, говорят, доктор Иллофиллион обладает совершенно волшебными лекарствами, – нагло глядя на Иллофиллиона, продолжал он. – Не удостоите ли вы, доктор Иллофиллион, меня своим волшебным снадобьем? Весь Константинополь только и говорит, что о приехавших сюда новомодных докторах-чудотворцах.
– Не знаю, в какой степени испытали на себе влияние новой медицины те сплетники, что говорили вам о ней. Но, думаю, что вы сами имели случай испытать на себе силу нашего влияния. Мне было бы очень жаль, если бы вам пришлось подвергнуться силе опыта сэра Уоми. Это было бы для вас катастрофой, – очень вежливо и мягко, точно не замечая наглости Браццано, ответил Иллофиллион.
– Вы так думаете? – криво усмехаясь, вновь сказал Браццано, двигаясь вместе с нами в столовую. – У меня сегодня будет случай доказать вам, насколько вы заблуждаетесь, полагаясь на высокий авторитет вашего сэра Уоми, – продолжал он. – Я и шел сюда только затем, чтобы перемолвиться с ним словечком. Я оставляю это приятное удовольствие до ужина, по крайней мере, будет над чем повеселиться.
Когда он смотрел на Иллофиллиона, в его глазах была такая адская ненависть, точно он хотел испепелить его.
Мы вошли в столовую. Сэр Уоми уже сидел рядом с хозяйкой, возле него сидели Анна с Анандой, с другой стороны, рядом с матерью, были сын-любимчик со старшей сестрой, а затем все пять сыновей с женами и Ибрагим с отцом. Напротив сэра Уоми Иллофиллион посадил меня и капитана, сам сел возле меня, а направо от него сел Строганов, указав Браццано и его доктору место на узком конце стола.
Увидев отведенное ему место, Браццано засмеялся смехом, напоминавшим скрип ржавых петель отсыревшей двери.
– Сегодня все не так, как обычно. Не знаете ли, Елена Дмитриевна, почему это все навыворот сегодня? – обратился он к хозяйке, стараясь держаться в границах приличия и изо всех сил сдерживая бешенство. – Ба, да что это? Вы сегодня без вашего жемчуга? Ах, и браслеты вы сняли? Ведь вы же так любите драгоценности! Что же это значит?
– Я любила свои прекрасные, как мне казалось, драгоценности до вчерашнего дня, когда убедилась, как недостойно я была обманута одним человеком, который уверял меня в своей дружбе. Я ему заплатила большие деньги за его драгоценности, а они на самом деле оказались медью и стеклом, – ответила Строганова холодно и презрительно. – С сегодняшнего дня я дала себе слово носить только те вещи, что подарил мне мой муж. Они одни оказались истинно драгоценными.
Со всех сторон послышались восклицания изумления и негодования.
– Вы что-то такое говорите, чего сами, должно быть, не понимаете. Вещи, которые вы носили, выбирал я. А я-то – знаток, – дерзко ответил Браццано, швыряя вилку на стол.
Строганов встал с места, хотел вмешаться и призвать наглеца к вежливости, но сэр Уоми сделал ему знак, и он покорно, молча опустился на свой стул.
– Быть может, вы и знаток, но меня вы обманули, – тихо, но четко и твердо снова сказала Строганова.
– Это детские разговоры. За ваши драгоценности можно было купить княжество. Может быть, вы будете утверждать, что и эта вещь не истинная драгоценность? – ткнул он вилкой в сторону Анны, указывая на сверкавший на ее руке браслет.
– Эта вещь – истинная драгоценность. Но она никогда вам не принадлежала, – раздался спокойный голос сэра Уоми. – Она была украдена, и вы отлично знаете, где, кем и когда. Это вас не остановило, и вы отдали этот браслет одному из надувающих вас шарлатанов, чтобы он сделал на него любовный приворот. Судя по настроению обладательницы этого браслета, вы сами можете убедиться, насколько вы пользуетесь у нее симпатией и каковы ваши шансы сделаться ее мужем, – все так же спокойно продолжал сэр Уоми.
Браццано побагровел от ярости и заскрежетал зубами.
– Какой же это прокурор донес вам на меня? И почему же меня не арестовали, если я подбираю похищенные вещи? – дерзко выкрикнул он.
– О том, что вы похитили эту вещь, сказал мне ее владелец. А что касается ареста, то большинство вашей бесчестной шайки сейчас уже изловлено и главари ее бегут из Константинополя. Самый же главный ее представитель – вы – не можете не только ногами двигать, но и разогнуться в достаточной степени.
Браццано из багрового сделался белым, потом снова багровел и белел от видимых усилий встать, но сидел как приклеенный, склонившись неподвижно к столу и дико вращая головой, которая одна ему еще повиновалась.
– Вот финал вашей преступной жизни, – продолжал сэр Уоми. – Вы втерлись в прекрасную, дружную, честную семью. Чудесной чистоты женщину, Елену Дмитриевну, вы подло гипнотизировали день за днем. Пользуясь ее робостью и добротой, вы превратили ее в сварливое, отравлявшее жизнь всей семье, капризное существо. Вы развратили ее младшего сына, заманив его в сети дружбы, и сделали из них обоих прислужников вашему злу.
Вам было дано Анандой три дня на размышление. Вы еще могли выбраться из ада ваших страстей – иначе вашу разнузданную жизнь назвать нельзя.
Вы пленились красотой прекрасной женщины и решили заманить ее в любовные сети, вызвав на бой все чистое и светлое, что защищает ее. Мы пришли сюда по вашему призыву. И теперь доказываем вам, чего стоит вся власть, приносимая злом, обманом, воровством, убийством – та власть, которой вы так добивались.
Вам сказали правду. Все то, что было дано вами Елене Дмитриевне – как талисманы ваших знаний и власти, – все это вздор, уничтожаемый истинным светлым знанием. Как дым разлетелись ваши наговоренные побрякушки, оказавшиеся вдобавок медью вместо золота.
Вы уверяли Леонида, что его феска ни в каком огне сгореть не может, что его черная жемчужина и бриллиант – вечные ценности.
– И сейчас утверждаю это, – прокричал Браццано, перебивая сэра Уоми и нагло глядя на него.
– Хотите испытать силу ваших знаний? – спросил сэр Уоми.
– Хоть сию минуту, – раздувая ноздри, с видом бешеного быка орал Браццано.
– Левушка, сними феску с головы Леонида, а вы, капитан, снимите с его левой руки кольцо и положите все это – ну хотя бы на этот серебряный поднос, – сказал сэр Уоми, подавая мне через стол большой серебряный поднос, с которого он снял высокий хрустальный кувшин.
Пока мы с капитаном обходили длинный стол, чтобы подойти к любимчику Леониду, доктор, уже давно нетерпеливо ерзавший на своем стуле рядом с Браццано, тихо говорил ему:
– Оставьте, уйдем отсюда; не надо никаких испытаний. Ведь вы опять почти согнулись.
– Замолчите вы, или я сейчас пристрелю вас, – зарычал Браццано в ответ.
Я подошел к Леониду, имя которого узнал только сейчас, снял с него феску без всякого труда и положил ее на поднос.
Казалось, это очень удивило Браццано, он как будто ожидал, что феска не слезет с головы юноши. Я вспомнил, как напялил мне Флорентиец шапку дервиша, которую я действительно не мог снять с головы, и поневоле засмеялся.
Мой смех лишил Браццано последнего самообладания.
– Посмотрим, засмеетесь ли вы через час, – прошипел он мне.
Капитан что-то долго не мог снять кольцо с пальца Леонида, чем вызвал злорадный смех Браццано. Но сэр Уоми, перегнувшись, посмотрел пристально на Леонида, и кольцо в тот же миг лежало рядом с феской.
По указанию сэра Уоми я поставил поднос в широкий восточный камин. Он встал, обсыпал вещи уже знакомым мне порошком и поджег.
Вспыхнуло большое яркое пламя, как будто горела не одна маленькая феска, а целый сноп соломы. По комнате распространился ужасный смрад, напоминавший не запах горелой материи, а запах падали; это заставило всех зажать носы платками. Раздались два небольших взрыва, и пламя сразу погасло. Я распахнул окно, по указанию Иллофиллиона. Через некоторое время воздух очистился, и я подал сэру Уоми поднос, который он велел мне отнести к Браццано, что я и сделал, поставив его перед ним на стол.
Вернувшись на место, я полюбопытствовал, почему капитан так долго не мог снять кольцо с руки Леонида. Он ответил мне, что если бы не повелительный взгляд сэра Уоми, он и совсем бы его не снял. Глаза злодея Браццано жгли ему руки как огонь, да и кольцо сидело на пальце Леонида, точно его приклеили вечным клеем.
На подносе перед Браццано сейчас лежал жалкий, скрюченный обломок меди, осколки черного стекла и бесцветный камень, похожий на кусок граненого стекла. О феске не было и помину, если не говорить о горсти черной золы.
– Уйдемте, прошу вас, Браццано, или отпустите меня одного хотя бы, чтобы я мог привести вам помощь, – опять умолял его приятель.
– Вы попросту глупец. Разве не видите, что все это шарлатанство? Что могут сделать все эти шантажисты против моего амулета? – заорал Браццано, вытаскивая дрожащей рукой из жилетного кармана треугольник из золота, в котором сверкал огромный черный бриллиант.
По лицу сэра Уоми точно прошла молния. Снова его глаза стали ярко-фиолетовыми.
– Не желаете ли испытать силу вот этого талисмана? – спросил Браццано сэра Уоми, держа в руках дивный камень, сверкавший точно молния в огне ламп и свечей.