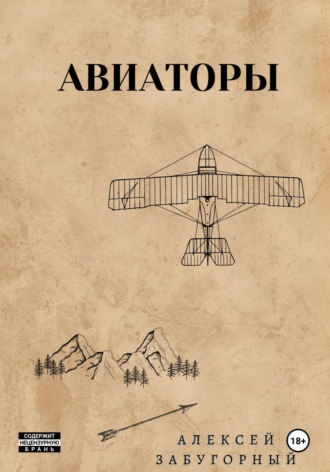
Полная версия
Авиаторы

Алексей Забугорный
Авиаторы
Глава 1
Гроза началась перед рассветом.
Ветер с такой силой трепал старые деревья под окном, что, казалось, вырвет их с корнем и унесет далеко за город, в степь. Он сотрясал крышу старенького дома, бился в оконную раму, стонал.
Плотные стены воды обрушивались с неба, вспениваясь мутными реками, которые неслись, увлекая с собою сломанные ветром ветви, мусор, и все, что было забыто во дворе с вечера: трехколесный велосипед, развешанное на детской площадке белье, газеты с кроссвордами, шахматные доски, радиоприемник, автомобильные покрышки, футбольные мячи, резиновые калоши, и даже чья-то стиральная машина, оставленная у мусорки, медленно, приставным шагом тащилась в потоке.
Никогда раньше не видал я такой грозы. Я лежал, натянув до верху одеяло, краем глаза наблюдая, как вспыхивает за окном слепящий, мертвенный свет, как угольная тень от герани, похожая на морскую гидру, возникает, дрожа, на полу и растворяется во мраке.
Вспыхивали и гасли глаза хрустальной совы на комоде – подарок отцу – профессору. Мне казалось, что вот сейчас она снимется со своего места и закружит по комнате.
Вслед за ливнем ударил град. Куски льда размером с кулак лупили по чем ни попадя, срубая уже совсем крупные ветви, смешивая с землей нежные цветы в клумбах, разбивая стекла не загнанных в гаражи машин. В грохоте ледового побоища шел поток по улице, заливая уже подвал и первый этаж, ломая заборчик палисадника, под вопли проснувшейся старухи-соседки снизу.
Я никогда не верил в существование Бога, но сейчас, сам того не понимая, начал молиться Ему. Не помню, о чем я просил. Слова сами слетали с дрожащих губ, и пальцы неумело осеняли лоб крестным знамением.
Еще немного – и домик мой, уютный и старенький, закружит, поднимет, унесет вихрем и бросит там, где его никто не найдет, где его все забудут, где я пропаду, исчезну бесследно…
– Господи… – шептал я, всхлипывая. – Господ-Господи.
***
Все закончилось так же внезапно, как и началось, с первыми лучами солнца.
Стена ливня за окном истаяла. Ветер стих. Молнии не слепили больше и раскаты грома, мирно ворча, раздавались уже где-то за городом, когда я, измученный пережитым страхом и бессонницей, оставил постель и выбрался на балкончик.
Двор был разгромлен. Все, что тащил поток, теперь было неподвижно, растерянно, подавлено. Ручьи, мелея, шумели в прорытых извилистых руслах. Древний, монументальный клен, который рос под моими окнами с сотворения мира, лежал, подмяв под себя соседский автомобиль, выставив к небу толстые, подагрические корни. Оборванные провода свисали со столбов освещения. Сломанные ветви, листва и сучья вперемежку с тающей ледовой кашей покрывали крыши гаражей и все пространство вокруг.
Вода все еще похлестывала из водосточной трубы, линейно капала с крыши, стекала с истрепанных крон, дробно стуча о поваленную бурей доску объявлений с размокшим, но еще читаемым листом «Бесплатная помощь алкозависимым и наркозависимым».
Воздух был по-зимнему стыл и свеж, и в воздухе этом, спускаясь с хрустального, первозданно-чистого после грозы неба, плыл низкий, нарастающий гул.
Я перегнулся через перильца балкона и увидел два аэроплана.
Один – темно-красный, другой – ярко-желтый, они шли низко, друг за другом, чуть покачивая крыльями, временами скрываясь за деревьями. Сверкающие дюралем, омытые нежностью рассвета, аэропланы были словно вестники некой новой, неизвестной доселе жизни.
Я наблюдал за ними, пока аэропланы, сделав круг, не ушли в сторону стадиона. Потом еще раз оглядел двор, вернулся в постель и уснул, не помня сам, как коснулся щекой подушки.
***
Делать мне было нечего.
Я просыпался поздно, завтракал, валялся на диване, одним глазом поглядывая в телевизор, другим – в книжку, взятую наугад из библиотеки отца, потом выводил из гаража велосипед и катил вниз по улице Джамбула в парк, где торчал у озера, глазел на прохожих, и снова катил куда-нибудь.
Друзей у меня было не много, поэтому большую часть времени я проводил в одиночестве, ничуть, впрочем, этим не тяготясь.
К обеду я обычно добирался до федоровского водохранилища, валялся на пляже, плавал с стылой, мутной воде, и опять колесил без цели по дворам, улочкам и проспектам, к вечеру возвращаясь домой, чтобы сидя на балкончике пожевать чего-нибудь из холодильника, пропустить стаканчик из отцовской коллекции вин, послоняться еще по комнатам и уснуть.
Так тянулось лето; последнее лето, когда я, выпускник университета, еще мог на законных основаниях бездельничать, и я наслаждался этим вполне.
Я не был ни амбициозным, ни честолюбивым. Особых талантов за мною тоже не водилось. Как говорила мать, – природа отдыхала на мне после отца-гения. Я не обижался.
– Зачем все это? – Удивлялся я вполне искренне, – если мы все равно помрем?
Именно искренность этого простого, в сущности, вопроса, ставила родителей в тупик.
Мать всплескивала руками, сетовала на судьбу, наградившую ее таким отпрыском, и уходила измерять давление. Отец мрачнел и тоже уходил.
Его самолюбие, конечно, страдало от того, что «отпрыск», – сын известного ученого, разработчика каких-то невиданных проектов, обладателя невиданных наград, почетного гостя невиданных научных сходок, словом – всеми уважаемого человека, преодолевшего все преграды, интриги и склоки этого мира на пути к успеху, оказался обычной посредственностью. В ранние мои годы он пытался привить мне любовь к наукам и честолюбие, но все его усилия неизменно разбивались о полное мое безразличие.
– Послушай, – говорил я, – я не издеваюсь. Я просто хочу понять. Кто решил, что мы все должны непременно к чему-то стремиться? Почему вообще всё, что ни есть в природе, жрет и топчет друг друга, от инфузорий до млекопитающих? Кому от этого выгода? Земле? Космосу? Высшему разуму? Богу, в которого так верит мать? Да им плевать на наши делишки, если хочешь знать мое мнение. Я в этом убежден, иначе мироздание устроено из рук вон плохо. Почему бы вообще не оставить весь этот бред, который мы называем нормальной жизнью? Зарабатывать лишь столько, сколько нужно, чтобы быть сытым, а в свободное время просто валяться в траве и наблюдать, как плывут по небу облака?
Отец ответил, что я – редкостный болван, и больше ко мне не лез.
Итак, я слонялся по комнатам с зелеными обоями, комнатам, обставленным мебелью темного дерева, креслами, торшерами, резными комодами, оттоманками, комнатам с лепниной под высоким потолком, комнатам с тяжелыми портьерами на окнах, по мягким коврам и паркету, мимо лимонного дерева в кадке, под бой старинных напольных часов.
***
Солнце было уже высоко. От мокрого асфальта поднимался пар.
Я двигался вниз по улице Джамбула, рассекая покрышками лужи, объезжая нерастаявшие ледяные заторы, куски сорванной с крыш черепицы и сломанные ветви. Аварийные бригады починяли оборванные бурей провода. Старушки охали над загубленными палисадниками. Мужики чесали в затылках у своих изуродованных градом авто.
Слева от меня тянулись облупившиеся двухэтажные домики, наглухо заросшие сиренью и кленами. Справа – дома частного сектора, тоже заросшие, за невысокими деревянными заборчиками.
Сочетание зноя и свежести приятно волновало, и еще что-то такое было в воздухе после грозы, что несмотря на картины опустошения, открывавшиеся кругом, я все же улыбался, одну руку положив на руль, другую уперев в седло за собою.
У перекрестка с улицей Гоголя, напротив автомастерской, я увидел группу подростков, тоже на велосипедах. Возбужденно переговариваясь, они летели в сторону улицы Сатпаева.
Изначально я, по своему обыкновению, собирался отправиться в парк, но так как вопрос этот был для меня вовсе не принципиальным, свернул направо, за подростками, уже издали наблюдая, как они отчаянно молотят педалями, спеша проскочить перекресток на зеленый свет.
За перекрестком дорога спускалась в низину, и выводила к высоковольтной линии, вдоль которой в овраге текла речка Букпа. Подростки миновали русло и свернули вдоль него влево, скрывшись за деревьями.
Почти пересохшее летом, русло вздулось теперь и разлилось, едва не затопив низкий берег у кронштадтской улицы. Мощный поток, закручиваясь пенными водоворотами, летел стремительно. Полиэтиленовые пакеты, тряпки, куски пенопласта, стекловата, доски и прочая прибрежная дрянь, захваченная водой, неслась по стремнине, трепетала, моталась и покачивалась, застряв в кустах прибрежной лозы.
Я постоял на мостике, наблюдая за течением, потом свернул на грунтовую дорогу, ведущую вдоль русла к пустырю. Дорогу развезло после грозы, поэтому я спешился и зашагал по травянистой обочине. По пути меня обогнала машина с опущенными стеклами, из которой высовывались головы каких-то ребятишек и их мамаши в светлых кудрях и темных очках.
За поворотом открылся вид на пустырь. Там пестрела толпа горожан. Подростки с велосипедами из-за спин стоящих во все глаза смотрели туда, где за толпой были два аэроплана: те самые, что утром пролетели над моим домом.
Никогда раньше я не видел аэропланов так близко. Самолеты, на которых мы с родителями летали «на моря», были не в счет: те были строги, неприступны и безупречны, а эти, пропахшие пылью дорог и небом, напоминали больших, дружелюбных насекомых. Солнце отсвечивало от перкалевых крыльев; лопасти винтов застыли в ожидании; большие колеса, к которым пристали комья глины и сухая трава, упирались в грунт.
Я приблизился.
– Катать будут! – раздалось из толпы.
– Бесплатно, говорят!
– Даже бесплатно не полечу!
– К кому подходить-то?
Рядом с аэропланами была установлена кемпинговая палатка. На стенке ее помещался матерчатый плакат, гласивший: «Воздушный цирк», и еще один: «Бродячие авиаторы». Рядом стояла другая палатка, поменьше.
У аэропланов ходил кто-то высокий и тощий. У него были впалые щеки, жесткие, щеткой, усы и пронзительно-голубые глаза, окруженные лучиками морщин.
Одет ходящий был в технические штаны и вытертую кожаную куртку.
– Видал? – послышалось рядом: «Бродячий цирк приехал».
Я обернулся. За моей спиной стоял высокий худощавый мужчина с бородкой, живший в соседнем доме, который как говорили, недавно вернулся в Караганду из столицы, где пробыл долгое время. Никогда раньше я не заговаривал с ним, лишь изредка встречал по утрам, выносящего мусор, или поздно вечером возвращающегося домой подшофе.
– Я их сегодня утром видел, – сказал я, указывая на аэропланы, – после грозы. Они прямо над нашим домом пролетели. Откуда они, не знаете?
Мужчина пожал плечами: «Понятия не имею. Главное – как они вообще долетели в такую непогоду?».
Тем временем из палатки вышел еще человек, невысокий и плотный, коротко стриженый, с темной округлой бородой, уже седеющей, одетый в такую же точно куртку, что и первый, штаны цвета хаки и стоптанные кроссовки.
Он оглядел присутствующих, сунул руки в карманы, покачиваясь с пятки на носок, что-то сказал усатому, потом ухватился за расчалку и поднялся на крыло желтого аэроплана.
– Товарищи! – сказал человек с крыла, как с трибуны: «Здравствуйте, товарищи!»
Толпа откликнулась нестройным приветствием. Плеснул даже аплодисмент.
– Мы рады, что вы пришли сегодня! – продолжал человек. – Мы, знаете ли, давно странствуем, и уже много где побывали. И вот сегодня, можно сказать, случайно (он поднял палец), не нарочно, так сказать, оказались в ваших краях. Что делать? – Человек усмехнулся. – Такова особенность нашего ремесла. Как говорится в одном детском стихотворении: «Сегодня здесь их видят, а завтра видят там».
– Добро пожаловать! – донеслось из толпы.
– Как вам погодка?
– Откуда вы?
– Спасибо, спасибо, – улыбнулся человек. – Погодка, конечно, была та еще, но – видали мы и похуже! А откуда – уж мы и сами не знаем. Сегодня здесь – завтра там, а после завтра вообще неизвестно где. Так что, можно сказать, что мы – из аэроплана!
Над толпой порхнул смешок.
– Да, товарищи! – говорил человек. – Поэтому лучше спросить – не откуда мы, а – чем мы занимаемся. Хотя вы и сами, наверное, догадались: летаем, товарищи! Летаем, и хотим, чтобы как можно больше людей узнало, что такое есть полет! Вы, конечно, многие уже летали на самолетах, – говорил он, – но это совсем другое. Это вам, товарищи, не на Айр-Астана какой-нибудь, или на Боинге, где и не поймешь, что летишь (сосед хмыкнул и покачал головой). Здесь все, товарищи, все по-настоящему. Все!
Человек рубанул рукой воздух.
– Увидеть родной город с высоты птичьего полета! Ощутить, как ветер бьет в лицо! Услышать, как ревет в лицо мотор! А может, – лицо его сделалось загадочным, – и самому взять в руки ручку управления и пошерудить ей туда-сюда! – Человек пошерудил в воздухе свободной рукой. – Почувствовать, так сказать, что это такое – самому управлять настоящим аэропланом!
– Че, правда, порулить дадите? – послышался из толпы молодой, ломкий голос.
– Будете хорошо себя вести – дадим, – благодушно улыбнулся человек.
– А сколько стоит-то?
– Хм… стоит… – человек на крыле погрустнел: «Конечно, полеты стоят денег, – продолжал он, – и мы их всегда берем. Ведь для полетов (человек стал загибать толстые, короткие пальцы) нужен бензин. Нужно ГСМ. Нужно техобслуживание. И кроме того, нам ведь и самим нужно что-то кушать! – Он коснулся рукой своего живота: «Но!»
Человек сделался торжественно-серьезен.
– Сегодня – особый случай. Потому что сегодня, товарищи, полеты будут бесплатными. Дело в том…, – глаза человека потемнели. – Дело в том, – продолжал он глухим, другим голосом, – что эти полеты мы посвящаем памяти нашего друга. Коллеги. Просто хорошего человека.
Толпа притихла.
Человек на крыле выдержал паузу.
– Не так давно… его не стало (снова пауза). Как я уже сказал, он был хорошим другом. Хорошим человеком. И – он был хорошим пилотом. Лучшим в своем деле. Лучшим. А лучшие, товарищи, уходят первыми (человек глубоко вздохнул). Вот и он ушел… от нас…
Толпа молчала. Молчал и человек на крыле.
– Для нашего, товарищи, друга, – продолжал он, – как и для всех нас, – но для него – в особенности, полет был не просто перемещение в пространстве. Полет для него был как-бы… (человек замешкался, подбирая слово) как будто душа просыпается и летит в небе. Он любил полет. Так пусть же там (человек поднял глаза к ясному небу) ему будет только ясное небо. Только попутный ветер. И пусть сегодня оттуда (человек снова поднял глаза), со своих небес… он услышит рокот наших моторов…
Человек сошел с крыла и замолчал, глядя в землю.
Толпа сочувственно склонила головы, которые уже начинало припекать летнее солнышко.
– Но! – вспомнил вдруг человек, – если кто-то захочет помочь нашему делу, то вы можете, товарищи, положить вашу помощь вот здесь! Он указал на открытый ящик из-под инструментов, стоящий у палатки. – Ну? – улыбнулся, – кто первый?
Толпа замялась, заворковала, но самые ретивые уже бежали к аэропланам.
– Только чур – без суеты! – воскликнул человек, и развел руки, образуя вокруг аэропланов невидимый забор: «А ну! Стойте!»
Бегущие остановились.
– Давайте сразу договоримся, – человек сделался строг. – Чтобы без шума, без толкотни и всего вот этого вот. Авиация – вещь серьезная, товарищи. И любит порядок. Поэтому и мы тоже давайте будем серьезными и ответственными. Договорились?
– Да! Договорились! – послышалось вразнобой.
– Ну, вот и хорошо! – человек потер руки и стал распоряжаться. – Значит, так! Все отходим сюда! К аэропланам без спросу не лезть! На крылья не вставать! Гайки не отвинчивать! И – соблюдать безопасную дистанцию. Особенно, товарищи, когда работает мотор.
– Теперь, – человек указал на палатку, – вот, подходите к палатке. Сейчас выйдет наша помощница, – она вам будет выдавать билетики. С этими билетиками ждем все своей очереди! Она вам дальше все скажет; как, что, куда делать, и – чтобы слушались ее!
Красный билетик – это вот этот аэроплан (человек указал на соседний самолет), – а желтый билетик – вот этот аэроплан (и указал на тот, с которого произносил свою речь).
На том аэроплане будет, вот, пилот Аркадий, – человек обернулся к своем усатому товарищу. Тот пожал плечами и сунул руки в карманы куртки. – А я буду на вот этом.
– А вас как зовут? – спросил лукавый женский голос из толпы.
– Меня – Виктор Иваныч, – ответил человек, и лукаво же повел на голос глазами.
Затем подошел к палатке: «Агата! Агат! Ну, ты где?»
Из палатки вышла девушка.
***
Никогда. Слышите? Никогда еще не было на свете девушки чудеснее, чем та, что я увидел летним утром там, на пустыре.
Совсем еще юная, тонкая, гибкая, как весенняя лоза, она стояла у входа, держа в руках две стопки нарезанных прямоугольниками желтых и красных картонок. На ней был не по размеру большой летный комбинезон с высоко закатанными рукавами, перетянутый ремнем. В темных, божественно-мягких, густых волосах колыхался на ветру черный бант.
Тонкие, нежные руки до локтя были затянуты в черные же сетчатые перчатки.
Несмотря на несколько нелепый свой наряд, она была прекрасна. Она не могла не быть прекрасной, божественной, восхитительной. Все вокруг освещалось, исправлялось и оправдывалось этой красотой.
Нежная линия скул, высокий, чистый лоб, а главное – глаза…
Их и в последний свой день я буду вспоминать как лучшее, что случилось со мной. Словно бы вся чистота и синева этого летнего неба отразились в ее чуть раскосых, с поволокой глазах ботичеллиевской грации. Томный, отстраненный, нездешний взгляд их скользил вокруг устало и мягко. Мягкие же, чуть припухлые губы были приоткрыты, словно бы она вошла в этот мир из другого, иного мира; вошла, хотела удивиться, но, все еще во власти других снов забылась, да так и осталась.
Время исчезло. Исчез пустырь. Растворилась толпа вокруг. И аэропланы. Осталось только это небо и глаза, как его продолжение.
Я смотрел на нее. Просто стоял и смотрел.
Сосед мой, который был по-прежнему рядом, кажется, заметил мой взгляд: «Полетишь?», – спросил он.
Я кивнул.
– А вы?
По лицу его пробежала тень.
– Я уже налетался. А ты попробуй. Я твой велосипед посторожу.
Я не глядя передал ему руль и шагнул к палатке, у которой выстраивалась очередь.
***
Жаворонки волновались, трепеща под солнцем своими пустячными крыльями. Солнце прогревало землю, и ветры волновались над нею, волнуя листву кленов, склонившихся над руслом Букпы, в котором волновалась бегущие воды, и бились о берег, вторя стуку моего сердца, когда я, обмирая и волнуясь, приблизился к девушке.
– Здравствуйте, – сказал я.
Ее полуопущенные, длинные, чуть изогнутые ресницы лишь дрогнули в ответ на мое приветствие.
– Ваш номер – четыре, – сказала девушка и протянула мне желтую картонку.
Голос ее был чист и нежен, как эта небесная лазурь.
– Не подходите близко к аэроплану, пока не остановится двигатель, – добавила она, обращаясь к стоящим в очереди. – Пилоты вас сами будут вызывать, по номерам. Отдавайте им билетики и делайте все, что вам скажут.
– Спасибо, – ответил я, мучительно соображая, что бы еще сказать, но она уже протягивала билетик следующему экскурсанту.
Тем временем аэроплан Виктор Иваныча с первым пассажиром на борту уже готовился к взлету.
В утробе самолета загудело, винт пришел в движение, патрубки выбросили облачко синего дыма, и мотор зарокотал низко и солидно. Бурьян за хвостом пригнуло ветром. Зрители одобрительно загудели в ответ.
Аэроплан же, покачивая крыльями, проследовал в дальний конец пустыря, развернулся, взревел мотором и секунды спустя с низким рокотом пронесся над нами. Толпа восторженно ахнула. Взлетели руки и затрепетали в приветствии. Кто-то даже подкинул шляпу.
Следом взлетел пилот Аркадий.
Девушка стояла, вглядываясь в небо, туда, где были ее коллеги.
Трепеща и краснея, я шагнул к палатке, но девушка тоже шагнула – и скрылась внутри. Полог взметнулся и упал. Вместе с ним и мое сердце.
Несколько следующих полетов прошли так же точно, как первый. Всякий раз, когда я, улучив момент, решался подойти, девушка исчезала и не появлялась, пока пилоты, заглушив мотор, не начинали звать ее из кабины.
Сосед мой не принимал участия во всеобщем оживлении. Казалось, ему вовсе не интересны были аэропланы. Он отвел мой велосипед к берегу Букпы и теперь сидел под высохшим кленом у земляного склона, глядя на бегущую воду.
Тем временем подошла моя очередь.
Я протянул картонку с номером Виктор Иванычу, и следуя его указаниям забрался в переднюю кабину биплана. Пахло бензином и еще чем-то, незнакомым. Смотровой щиток был испещрен метками от погибших насекомых.
Виктор Иваныч помог пристегнуться, надел на меня кожаный шлем с очками-консервами, сказал: «главное – ничё не трожь! Понял?» – И, проинструктировав таким образом, занял место в задней кабине.
Пока мы катили по пустырю, я представлял, как девушка смотрит на нас и чувствовал себя особенно мужественным в шлеме, в реве мотора и ветре, который действительно бил в лицо.
Мы добрались до окраины пустыря и развернулись.
– Готов? – услышал я голос пилота в шлемофоне.
Под ложечкой у меня разлился холодок.
– Готов!
Мотор взревел, и мы понеслись.
Я плохо запомнил взлет, и пришел в себя лишь когда земля осталась далеко внизу, и передо мною возник город, – такой знакомый и – другой.
Линии улиц, тенистый массив парка, светлые россыпи домов, переложенные пышной зеленью, окраинные микрорайоны, пригороды, степь за ними и синяя череда сопок на юге – все открылось разом.
В упругих порывах ветра и бликах солнца, в реве и дрожи мотора город плыл под крылом.
С такой высоты не было видно разрушительных последствий урагана. Город был опрятен, ухожен и свеж, словно бы сошел с плакатов советских времен.
Я высунул руку из кабины. Ветер с неожиданной силой отбросил ее назад.
– Не балуй! – раздался строгий голос в наушниках.
Я увидел Бульвар Мира под собой, который упирался в здание политехнического института, и огибал его с обеих сторон. Увидел сквер у кинотеатра имени Ленина за институтом и гранитную статуэтку одноименного монумента. Через дорогу от сквера различил я и крышу своего дома в глубине двора, среди деревьев и таких же точно крыш.
Трудно было поверить, что среди этого огромного, нераздельного пространства, то, другое пространство, – пространство моего дома когда-то казалось мне таким незыблемым и завершенным с его камином, старинной мебелью и лимонным деревом в кадке.
Аэроплан набирал высоту.
Глядя вокруг, я грезил о чем-то, о чем сам пока не имел представления, но что несомненно было там, где за массивной, клепаной башкой капота, лежала в туманной дымке недостижимая линия горизонта.
«Наверное, счастливый человек должен быть этот Виктор Иваныч, если видит такое каждый день, – думал я. – И этот парень, которого не стало – он тоже, наверное, был счастливым. Интересно, что случилось с ним?»
Массивная ручка управления передо мною чуть шевелилась, словно дышала.
В зеркальце, установленном на срезе кабины, я видел бесстрастные глаза пилота за стеклами защитных очков.
– Ну, как? – спросил он.
Я поднял большой палец.
Аэроплан стал разворачиваться.
– А правда, что можно порулить? – Вспомнил я давешнее обещание Виктор Иваныча, и снова почувствовал холодок.
– Ну, попробуй, – буднично ответил он. – Держу ручку. Ноги ставь на педали.
Я сделал, как было велено.
Давай, – сказал Виктор Иваныч. – Только без резких движений, смотри!
– Понял, – ответил я, растерявшись от неожиданности и той простоты, с которой все произошло.
– Отдал управление, – сказал Виктор Иваныч, и в зеркальце я увидел его широкие ладони.
Я замер с ручкой в руках, и самолет действительно летел какое-то время, пока не стал крениться и опускать нос. Растерявшись окончательно, я дернул ручкой и наугад двинул педаль; аэроплан резко накренился в другую сторону, взбрыкнул и повел капотом. Воздушный поток возмущенно вскипел за бортом и упруго толкнул аэроплан в дюралевый бок.
– Тише, тише! – раздалось в шлемофоне. – Не суетись! Он сам летит, ты только подправляй.
Горизонт никуда не манил больше. Теперь это была просто линия, под которой елозила непослушная башка капота, норовя то запрокинуться, то завалиться, то скользнуть в сторону.
Самолет не давался мне. Я не замечал, что спина взмокла, что плечи ноют от напряжения и пальцы до белых костяшек сжимают ручку. Я потерял счет времени, не очень хорошо запомнил посадку и выбрался из кабины мрачнее тучи.









