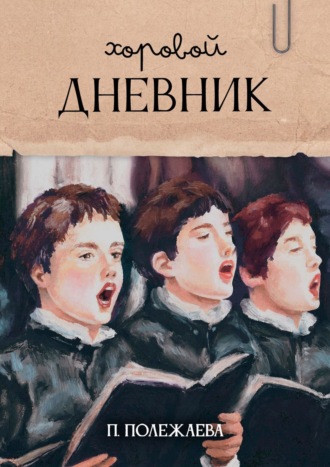
Полная версия
Хоровой дневник
Баллы… Это слово, совершенно гениальное, как по мне, подпитывает нужную сторону гастрольной диалектики, а именно – работу и дисциплину. При этом оно ассоциируется у мальчиков исключительно со свободой и мишками «Харибо». Баллы – это особая хоровая валюта, которую в конце гастролей можно обменять по очень выгодному курсу: один балл – один евро. Дня обналичивания ждут сильнее Нового года, ведь, получив в кошелек пригоршню честно заработанных монет, хористы отправляются в свободное турне по немецкому торговому центру или рождественскому базару. Там детская система навигации справляется на отлично, прокладывая маршрут через все магазины игрушек и сладостей, через лавки с праздничными крендельками, кексами-штолленами и жидким льдом, который красит язык. Хоть в дороге запасы купленных конфет истощаются, домой хористы возвращаются с туго набитыми рюкзаками, будто совершив набег на шоколадную фабрику.
Поскольку во время гастролей мальчики действительно работают, то и награда эта оказывается справедливой и заслуженной. Но зарабатывают ее далеко не только концертами: есть множество способов получить парочку баллов в свою копилку. Список этих способов – добрых дел – Вадим Александрович всегда оглашает заранее: уборка в комнате – один балл, дежурство по посуде – два балла, помощь с чемоданами – еще один балл… Список этот длится и длится, ребята кивают, уже чувствуя, что с легкостью накопят на целую тележку сладостей, но в один миг их настроение резко меняется. Начинается раздел «Минусы». Дело в том, что, кроме поощрительного эффекта, баллы обладают еще и педагогическим порицательным воздействием. Иными словами, их можно получить, а можно и потерять. Гудишь после отбоя? Минус балл! Твой чемодан набит грязным и мятым бельем, под которым спрятан двухнедельный бутерброд? Минус два балла!
Думаю, суть ясна. Бывали случаи, когда особо отличившиеся лишались большей части своего гонорара. Но они не возмущались – знали, что за дело. Моим личным рекордом стали тридцать потерянных баллов, которые сейчас рука не поднимается перевести в рубли. Впрочем, остатков утерянного богатства вполне хватило, чтобы купить все, чего пожелало детское сердце: пару килограммов лакрицы и машинку на пульте. Не хватило только на электрогитару – к счастью.
Если бы я умел рассуждать о подобных вещах в свои одиннадцать лет, то, наверное, именно об этой двойственной природе гастролей думал бы в первый день поездки. Нам предстояли переезд до границы, русская таможня, сменяющая ее финская, проверка документов, снова длинный переезд до прибрежного города Турку, где нас ждал…
– Паром! Ты на нем уже плавал? – из-за спинки автобусного кресла впереди показалась голова Феди Прутова. Светлоглазый, светловолосый и будто весь какой-то светящийся от восторга, он улыбался, выставив два больших белоснежных зуба, у которых не хватало парочки соседей.
– Плавал в прошлом году, – ответил я, чувствуя себя совершенно взрослым и чрезвычайно опытным по сравнению с Федей. Ему на вид нельзя было дать больше восьми.
– Круто! А правда, что автобус заезжает прямо внутрь корабля?
Я кивнул.
– И по нему можно прямо погулять?
Я снова кивнул.
– И там правда есть казино?!
– Есть, – тут, наверное, глаза загорелись и у меня. Я заговорщически подался вперед, Федя затаил дыхание и уткнулся своей парочкой зубов в чехол подголовника, надетый поверх спинки кресла. – Если найти линейку или бумажку, то из-под автоматов можно вытащить кучу монет, – прошептал я.
– А откуда они там? – еле выдохнул в ответ Федя.
– Закатываются, когда их роняют. Только никому не говори!
Федя прижал палец к зубам и сполз по спинке на свое место.
– Поскорее бы доехать, – через мгновение донесся его приглушенный голос.
– Скорее бы, – вздохнул я и уставился в окно.
«Прошло два часа. Все виляют то справа, то слева от дороги зеленые елки и голые деревья. Как же мне надоело! Когда же будет обед?! Уже десять часов! Поскорее бы на паром.
Пообедали в 12:01».
Переезд первого дня кажется одним из самых долгих. Должно быть, оттого, что ты не просто едешь, как во все остальные дни, а ждешь, прилипнув носом к окошку, когда за ним появится вожделенный пункт Б – город Турку с кирпичными башенками соборов, узкими старинными улочками и огромным морским портом.
– Паспорта! – этим словом Вадим Александрович, как всегда, возвестил о том, что мы проделали ровно треть пути.
Снаружи замаячили красные столбики нейтральной зоны между странами, мальчики оживились, повыдергивали наушники и высунулись в проход. Перед проверкой на границе каждый получал в руки свой драгоценный документ, а после – сразу сдавал его взрослым в общую папку. Эта процедура почему-то всегда вызывала у меня легкую панику, но, к счастью, каждый раз страхи были напрасными: ни со мной, ни с паспортом так ничего и не произошло.
Когда автобус остановился, в салон зашла пара представительных мужчин в зеленых фуражках. Видимо, день у них выдался настолько хорошим, что оба козырнули с залихватским видом, перекинулись какой-то шуткой с водителем, посмеялись, а потом уже взялись за проверку документов. Минут через пятнадцать мы махали им вслед, а автобус потихоньку переползал из одной страны в другую. То, что мы покинули Россию, стало понятно сразу, едва дорогу преградил полосатый шлагбаум, отделявший нас от Финляндии. В узком коридорчике между креслами оказались два субъекта, будто бы сбежавшие из какого-то боевика: черные очки, провода раций, квадратные подбородки и странные, агрессивного вида шапочки – что-то среднее между пилоткой и котелком. На груди у каждого – бело-синий финский флаг, который нам привычнее было видеть на пачках с импортным стиральным порошком. Разумеется, появление этих субъектов вызвало у нас благоговейный трепет, особенно когда один из них прогудел: «Паспортс, плиз!»
Они двинулись между креслами, всматриваясь в лица и фотографии, и уже почти добрались до нас, когда я услышал плач.
– Ты чего? – я осторожно глянул между спинками кресел и удостоверился – ревел Федя Прутов. И не просто ревел, а судорожно размахивал руками, пытаясь рыться в рюкзаке и всех карманах своей одежды одновременно.
– Паспорт… паспорт!.. – только всхлипнул он в ответ.
– Ты ведь только что его показывал!
– Да…
– Он же был у тебя в руках!
– Да… а теперь его нет!..
Если честно, от происходящего хотелось засмеяться, да только Федино отчаяние подсказывало, что случай и правда серьезный.
– Да где же, ну где!.. – все бубнил он, выкидывая из карманов леденцы, салфетки и кучу непонятного хлама прямо на сиденья. – Где, ну где!..
Чем быстрее приближалась маячившая над креслами шапочка пограничника, тем громче становился Федин голос. В конце концов он перешел в крик, пронесшийся по всему автобусу и явно пересекший финскую границу без всяких документов:
– Да где… Вадим Александрович!!! Я потерял паспорт!!!
Дирижер реагирует быстрее, чем пограничная служба, и действует эффективнее – это умозаключение с того самого дня засело у нас в подкорке.
– В чем дело? – не успело эхо Фединого крика стихнуть над простором Финляндии, как дирижер уже все понял и присоединился к поискам.
Уж не знаю, что помогло ему решить «загадку пропавшего паспорта»: дедуктивный ли метод, интуиция или просто огромный опыт работы с мальчишками, которые то и дело что-нибудь теряют. Но Вадим Александрович нигде не рылся и ничего не разбрасывал: он медленно оглядел результаты Фединых «раскопок» и что-то тихонько спросил. Затем парой легких движений он проверил щель между креслами, заглянул за откидной столик и даже отогнул край давно не белого чехла, закрывавшего подголовник на кресле впереди. Именно оттуда, под дружный вздох свидетелей этого расследования, прямо Феде на коленки выпал паспорт в цветастой обложке.
– Не знаю, как это вышло, – Прутов хлюпнул носом и застенчиво улыбнулся парой зубов. – Я нечаянно.
– Теперь постарайся сложить все, что раскидал, в рюкзак, Федя. В рюкзак! – Вадим Александрович подмигнул и уступил место финскому таможеннику.
До Турку добрались без происшествий. На подъезде к городу мальчики снова оживились и прильнули к окошкам. Я перебрался поближе к водителю: уж лучше встретиться с бумажным пакетом для «укачанных», чем пропустить великолепное зрелище – прибытие в порт. Свободное местечко удачно нашлось рядом с Гришей Стрельнинским, кругленьким и пухлогубым альтом с ангельским голосом и недетским утробным смехом. Впрочем, теперь даже он примолк и только кивал на лобовое окно автобуса: там, как на экране в кинотеатре, появлялись удивительные, непривычные пейзажи. Сначала вдоль дороги потянулись маленькие аккуратные коттеджи, затем вдали, над кромкой голого леса, показалась кирпичная готическая башня. Несколько минут, и автобус уже катил по чересчур узкой улочке, еле вписываясь в белоснежную разметку на ровном, как каток, полотне дороги. Появление на экране-стекле гигантского теплохода наполнило автобус гомоном и попискиванием: белый борт с красной окантовкой по ватерлинии, ряды окошек-иллюминаторов; огромная труба, которая, по версии младших, нужна кораблю, чтобы гудеть, и целый флот спасательных шлюпок, развешенных, как шары на елке, – все это многие из нас видели впервые в жизни. Меня больше всего впечатляла надпись, занимавшая добрую половину борта: «Викинг Лайн».
Когда вопросы с документами и парковкой были решены, Вадим Александрович поднялся для напутственного слова.
– В течение получаса автобус вместе с нами заедет в трюм. До этого времени нужно собрать вещи и проверить, что вы не забыли в салоне телефоны или что-нибудь ценное, – Вадим Александрович выразительно глянул на Федю. – Когда мы окажемся внутри, я попрошу вас разбиться на тройки и подойти за ключами от ваших кают. Обязательно запомните номер палубы. К семи часам все должны быть на ужине. После отбоя из кают не выходить, на открытую палубу не подниматься и не беситься. Большой ресторан и казино посещать, естественно, нежелательно.
Он продолжал говорить, но я, как ветеран прошлогодних гастролей, уже все знал и бессовестно предавался мечтаниям: перед моими глазами расстилались мягкие откидные койки, проносились скоростные лифты – настоящий аттракцион, причем бесплатный; и, разумеется, горела праздничными огнями одиннадцатая палуба – местный Невский проспект, Бродвей и Диснейленд одновременно. Я так замечтался о чудесных, пыльных монетках, которые можно наковырять из-под автоматов, что не сразу услышал вздох недоумения, пронесшийся по автобусу. Вадим Александрович тоже:
– Завтра утром мы прибываем в порт Стокгольма… – продолжал он, пока его речь не прервали крики – и на этот раз не радостные.
Кто-то из мальчиков показывал в лобовое окно за спиной дирижера, а кто-то просто замер с раскрытым ртом. Даже водитель автобуса, не сдержавшись, прокомментировал происходящее сложным словесным конструктом – видимо, морской терминологией. Наконец, Вадим Александрович обернулся и замер на полуслове: красавец «Викинг Лайн» отдал швартовы и медленно отплывал от причала. На открытых палубах виднелись крошечные фигуры пассажиров, в сгустившихся сумерках мерцали кружочки иллюминаторов в уже заселенных каютах. В завершение картины теплоход издал великолепный низкий гудок, пронесшийся над портом и холодным северным морем. Федя снова заплакал.
Оцепенение взрослых длилось не больше секунды: они подхватили папки с документами и вылетели из автобуса. Воцарилась тяжелая печальная тишина. Мальчики не могли оторвать взгляда от удаляющейся кормы корабля, словно Ассоль, которую забыли где-то на причале. Самая приятная черта детства – вера во всесильность взрослых. Кажется, они могут решить любую проблему и справиться с любой задачей, стоит только подождать и не путаться под ногами. Но в ту минуту, когда «Викинг» на прощанье мерцал нам огоньками – не хватало только алых парусов, – я усомнился в том, что взрослым удастся исправить положение.
– Скажут ждать следующего, как пить дать, – вещал с задних рядов сварливый первый тенор по фамилии Мишин. – Будем тут сидеть до завтрашнего дня. Как спать? Да прямо так, Феденька, на кресле. Захочешь – и стоя уснешь. Паром – это тебе не такси, его не вернешь вот так запросто, если он отплыл.
Мишин говорил все громче и громче: голос-то у него был хороший, академически поставленный, как и юношеская жажда внимания – почти профессиональная.
– Почему нельзя его вернуть, он же недалеко уплыл? – пискнул Федя.
– Да потому, что это лайнер! Ему, чтобы из порта даже носом выйти, нужны буксиры, он слишком большой. Неманевренный!
«Завтра – это ничего, – думал я. – Можно и подождать. А если нас отправят домой? Если не вернут билеты, а новые мы уже не купим?»
Эта мысль испугала меня настолько, что я поджал губы и глянул на своего соседа. У него вид был не лучше. А где-то в хвосте все еще продолжалось выступление: Мишин солировал, Федя хныкал вторым голосом.
– Никто не станет из-за одного автобуса разворачивать целый паром. Я вам точно говорю, был у меня один случай…
«Бу-у-у-у-п!» – академического тенора перекрыл мощный гудок, а следом за ним – не менее громкий крик кого-то из младших: «Смотрите, смотрите, он возвращается!»
– Да не может быть! – Мишин даже вскочил, собираясь, видимо, поспорить с более высокой позиции, но тут же передумал. Теплоход дал задний ход.
Уж не знаю, что это было за волшебство. Как после объяснили взрослые, портовая служба просто поняла свою ошибку, связалась с капитаном и велела тому вернуться. К ликованию четырех десятков мальчишек, гигант-паром с поразительной точностью пришвартовался кормой. Возвращение Вадима Александровича встретили дружным «ура!». В автомобильный трюм хор въезжал, как полководец в осажденный город – с восторгом победителя.
– Мишин, Колокольцев, Вайц, – приступил к раздаче ключей Вадим Александрович. – Прутов, Полежаев, Стрельнинский. Федя, где твои вещи? Не потеряй, пожалуйста. Каюта двести шестьдесят, вторая палуба.
Из трюма лифт привез нас в огромный холл. Здесь трудно было поверить, что ты находишься на корабле. Казалось, мы попали в шикарный отель: сотрудники с воротничками, полы с коврами, на диванах – солидные пассажиры вполголоса переговариваются будто на всех европейских языках сразу. Федя вцепился в мой рюкзак, я из вежливости подпихнул вперед Гришку: раз ему дали ключ, так пусть и идет первым. Он, к счастью, был не против, выпятил и без того выдающиеся губы, весь еще больше надулся и направился к лифтам. Минут через двадцать, накатавшись по палубам и наплутавшись по коридорам, мы, наконец, распахнули дверь своей каюты.
– Смотрите, тут койки! – ахнул Федя и рухнул на перину так, словно весь путь из Петербурга он сегодня проделал пешком.
– А ты думал, что здесь будет? Гамаки, как у пиратов? – Гриша захохотал и плюхнулся на соседнее место. – Когда там ужин?
– Через час, – я глянул на часы и забросил рюкзак на оставшуюся койку. – У нас еще полно времени, чтобы сходить…
– В казино! – хором крикнули Федя с Гришей и вскочили с постелей.
Одиннадцатая палуба! Предел сегодняшних мечтаний, сияющая и кружащая голову, как парк аттракционов летним вечером! На нее мы поднялись подготовленными: каждый был вооружен узким и достаточно длинным картонным буклетом о достопримечательностях Стокгольма, представлявшим далеко не литературную ценность. По нашим прикидкам, именно этот инструмент прекрасно подходил для выковыривания монет из-под автоматов. Когда волна первого восторга от вида палубы схлынула, Гриша наклонился к моему уху и пробубнил: «Вайц мне тут по секрету сказал, что некоторые автоматы принимают пятирублевые монеты за два евро и отлично на них работают». Мы многозначительно переглянулись, кивнули друг другу и отправились в сторону казино. Вечерняя публика с наслаждением галдела, прогуливаясь между кафе и магазинами, там и тут мелькали лица наших юношей, присматривавших сувениры. Через несколько минут Федя охнул и дернул меня за рукав. В пестроте палубы ярким пятном вспыхнула вывеска казино.
– Что наковыряем, делим поровну, – предложил я. Гриша кивнул, а Федя снова дернул мой рукав. – Только чур монеты обратно в автоматы не пихать. У нас есть полчаса, пока… Да хватит дергать меня, Федь!
– А там… там… – только сейчас мы заметили, что он смотрел вовсе не на вывеску, а упорно тыкал пальцем куда-то в толпу пассажиров. Но было поздно.
– Стрельнинский, Полежаев и Прутов!
Это был Вадим Александрович. Он незаметно и явно неспроста пристроился на диване, ровнехонько между входами в казино и бар. Проскочить мимо него шансов не было ни у кого. Я тут же начал прикидывать, успели мы сейчас заработать первые «минус баллы» или нет.
– Здравствуйте… – пробубнил Гришка. – А мы тут просто… ну…
Он развел плечами и неопределенно взмахнул буклетом, словно пытался сказать, что мы уже готовимся к познавательной прогулке по Стокгольму. Вадим Александрович будто бы его понял:
– Гуляете, значит, – он кивнул. – Так прогуляйтесь лучше в обратную сторону. В середине палубы есть чудный магазин со шведскими сувенирами – как раз для таких любителей Стокгольма, как вы. Купите по магнитику и бегом на ужин.
Так мы и поступили: понеслись по палубе, сияя оттого, что вместо штрафных баллов отделались только парочкой магнитов. Мы выбрали одинаковые, с кораблем «Васа», что стоит в шведском морском музее.
– А правда, что ночью Вадим Александрович ходит по коридорам и ловит тех, кто не спит? – спросил Федя, любовно пряча магнит в нагрудный карман.
– Нет, конечно, – хмыкнул Гриша. – Ночью все спят – не дураки же. Нам вставать в семь утра. Так что лучше поужинать и сразу лечь, чтобы не проспать Стокгольм.

Если они найдутся
Проснулся я действительно в семь утра, но обнаружил вокруг лишь собственную комнату. Недочитанный хоровой дневник валялся у кровати, Стокгольм остался в далеком две тысячи девятом, а будильник не давал забыть, что сегодня рабочий день. Я ткнул в кнопку чайника, который тут же зашипел, как любой нормальный человек в такую рань. И поковылял чистить зубы, пытаясь вспомнить, какой сегодня день. Осенняя утренняя темень действовала отупляюще, а первый мокрый снег, шлепками ложащийся на подоконники и лица прохожих, оставлял в голове только одну мысль: «Боже, ну почему сегодня не суббота?»
«А только вторник, – подтягивалась за этой мыслью следующая. – Самое начало недели, работы – горы…»
Странно, но в череде таких рассуждений слово «вторник» уже не показалось мне таким безрадостным. Я сосредоточенно тер зубы, стараясь припомнить, что такого особенного было в этом дне: может, я забыл о какой-то встрече? О приятных планах на вечер? Или о том, что сегодня должна случиться моя первая…
– Репетиция! – чуть не вскрикнул я и выскочил из ванной.
Через пятнадцать минут я был готов и в который раз листал ноты, понимая, что не успел выучить почти ничего. С одной стороны, оно и понятно: материала было столько, что хору его хватило, должно быть, на полгода занятий. Но с другой, очень уж не хотелось бить едва умытым лицом в грязь. В конце концов, я кое-как запихнул нотную папку в портфель и вышел под первый снег.
На самом деле, чтобы представить весь спектр чувств, которые испытывают хористы, чтобы хоть ненадолго очутиться в их шкурках и концертных пиджаках, стоит разобраться, что вообще представляет собой хор: как он работает и, собственно, откуда берется. Ведь всем известно, что мыши родятся из соломы, а вот откуда появляется почти сотня ангельски поющих детей – для многих загадка.
Во-первых, надо понять, что хор – это гигантский музыкальный инструмент. Каждый голос, каждый мальчик оказывается клавишей в его сложном механизме, а дирижер – тем самым музыкантом, который играет на этом инструменте. Кто-то мог бы сейчас представить огромный рояль, где даже не нужно нажимать на клавишу – достаточно лишь подать ей знак рукой, и она зазвучит как надо. Да только все намного сложнее: на то, чтобы получилось «как надо», уходят годы. Ведь для начала каждую клавишу следует обучить, объяснить ей, как именно звучать, поработать над ее ошибками, похвалить за старания и не дать ей подраться с соседними. И только тогда из прекрасного инструмента под названием «хор мальчиков» можно будет извлечь музыку, почти что «выманить» ее, как говорил Станиславский. Это титаническая работа – и она того стоит.
Поверхностному взгляду может также почудиться, что много общего есть между хором и оркестром. Хор даже удобнее: никаких тебе тяжеленных контрабасов и груды футляров, ничего не надо тащить на своем горбу – одни плюсы. А с другой стороны, если ты дирижер оркестра, то можешь не переживать: в антракте твои виолончели не разбегутся по всему театру, не выбьют где-нибудь окно, а первая скрипка не наорется от восторга так, что у нее напрочь пропадет голос. Тебе не придется утешать разуверившуюся в себе валторну или вдохновлять группу вялых ударных.
В конце концов, в оркестры и хоры «Серьезных Академических Учреждений» попадают исключительно опытные музыканты с соответствующим образованием, а в хор мальчиков, что ясно и без разъяснений, – дети. В студию приходят ребята из соседних дворов, школ и с ближайших улиц. Да, любого новичка ждет прослушивание, но не жесткая сортировка «годен – не годен». А потом эти мальчишки начинают петь литургию Чеснокова. Или Чайковского, или сумасшедшие изыски вроде Стравинского и другие сложнейшие вещи. И исполняют их на уровне тех самых «Серьезных Академических Учреждений».
Как же такое возможно? Думаю, дело в том, чтобы зажечь искру, а не задуть ее излишней строгостью. В студии работает мудрая система: сначала малыши поют для души в младшем хоре, успевают влюбиться в пение, педагогов и первые концерты, а уже после проходят «огневую подготовку» в среднем. Только затем мальчики попадают в концертный состав. Так и я начинал – мама даже грозилась, что пойдет в хор без меня! И ведь я верил, пугался, бежал на занятия.
Тот вторник длился слишком долго, как скучное кино, которое нельзя выключить или перемотать, потому что смотришь его не ты один. Вечером, оказавшись в метро, я очень хотел открыть партитуру: повторить невыученное, пробежать глазами по безнадежно забытому. Останавливал меня не ложный стыд перед пассажирами, которых могла потеснить внушительная нотная папка, а печальное понимание того, что перед смертью, экзаменом и концертом не надышишься. Меня же ожидала только репетиция – и не более. Если честно, я и не верил, что попаду на грядущий концерт: го́лоса, разленившегося и отвыкшего за долгое время от нагрузок, хватало минут на пятнадцать. Потом я принимался сипеть, как монстр из плохого ужастика. Это было вполне закономерно: как спортсмена после длительного перерыва не выставляют на серьезные соревнования, так и вокалиста для начала приводят в чувство и надлежащий вид, прежде чем выпускать его на сцену. Эта мысль меня успокаивала, но не до конца.
Бабуля в гардеробе улыбнулась мне, как старому знакомому, заметив в толчее мальчиков помладше. Встретилась и пара-тройка местных старожилов – других юношей из теноров и баритонов, с которыми мы пели еще во времена галстуков на резиночках. Забавно проходят такие встречи, «восемь лет спустя»: сначала ты мимолетом подмечаешь смутно знакомое лицо, затем с полминуты до неприличия прямо всматриваешься в него, пока, наконец, не наступает момент узнавания. Притом чаще всего вторая сторона этого процесса пялится на тебя, перебирая в голове картотеку детских лиц и пытаясь мысленно приделать к ним бороду, – сверяет. А потом уже начинается: «Вася!» – «Петя!» – «Ты что, еще ходишь?» – «А ты что не ходил?» – «Да учеба…» – «А мы тут, пока тебя не было…»
Как обычно, все беспорядочной толпой вваливались в большой хоровой класс, и, пока у стеллажа с нотными папками образовалась толчея, я незаметно вытянул свою партитуру из портфеля. Парадоксально, но требуется не больше минуты, чтобы из хаотичной кучи народа образовался хор: достаточно занять привычное место в нужном ряду, и ты сразу перестаешь быть «просто Петей» – ты становишься альтом или дискантом, баритоном или тенором. Ты часть механизма и отлично знаешь, что и когда тебе надо делать. Это – чрезвычайно приятное чувство, которого, впрочем, в тот день я был лишен. Ведь если ты не знаешь партий, то в лучшем случае превращаешься в западающую клавишу, которая, сколько ни жми, звука не издаст. Ну а в худшем – ты все портишь.
Только тот, кто никогда не пел в хоре, может сказать: «Одного человека никто не услышит среди сотни голосов». Услышит. И дело тут даже не в громкости, а в численности твоей группы: дискантов и альтов много, там перлы отдельных личностей могут остаться незамеченными. А с первыми тенорами, куда меня определил дирижер, все обстояло иначе. Хоть нас оказалось шестеро, любая промашка была слышна за километр.


