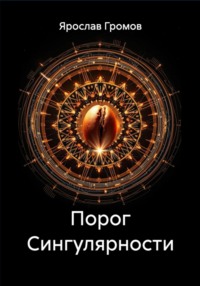Полная версия
Генератор энтропии

Ярослав Громов
Генератор энтропии
Глава 1: Прибор Калинина
Дождь в Москве начинался с запаха. Сначала пахло асфальтом, нагретым за день – пыльным и маслянистым, как старая сковорода после жарки. Потом в этот запах вплетались ноты озона, будто кто-то потер эбонитовую палочку о шерсть размером с город. И только потом, минут через десять, когда воздух становился тяжёлым и вибрирующим, начинали падать первые тяжелые капли, от которых на тротуарах появлялись темные пятна, похожие на следы гигантской невидимой гусеницы. Каждая капля, ударяясь, выбрасывала вверх микроскопический фонтанчик пыли и праха, и на секунду запах асфальта вспыхивал с новой силой, чтобы тут же быть смытым в сточную канаву.
Артём вышел из подъезда и автоматически поднял воротник ветровки. Он не успел. Первая же капля угодила точно между шеей и тканью, поползла холодной змейкой по позвоночнику, оставив за собой мокрую дрожь.
– Чёрт, – пробормотал он себе под нос, поправил сумку через плечо и зашагал к автобусной остановке. В сумке, помимо конспектов по квантовой механике, лежал бутерброд в полиэтиленовом пакете – два куска «кирпичного» хлеба и пластик сыра. Завтрак, обед и, возможно, ужин, если удастся урвать время между сменами.
Хрущёвка, в которой он жил с матерью, стояла на самом краю промзоны «Соколиная гора». Это был не район, а состояние души. Серые панельные коробки с облупившейся краской, похожие на гигантские, потускневшие от времени аккумуляторы. Двор, где вместо детской площадки ржавели остатки какого-то токарного станка – остов станины, вросший в землю, и два зубчатых колеса, в которых за лето успели вырасти бледные сорняки. И вечный запах – трёхслойный, неистребимый: нижняя нота – угольная пыль и мазут с заводской ТЭЦ, средняя – дешёвый табак «Прима» из раскрытых окон, и верхняя, свежая – мокрая штукатурка и сырость из подвала. Это место не жило, оно доживало. И Артём чувствовал, как это доживание медленно просачивается и в него.
Лифт в подъезде сломался ещё в прошлом году. Запчасти негде было взять, да и жильцы, в основном пожилые, уже смирились. Артём привык подниматься пешком на пятый этаж. Сорок восемь ступенек. За эти пять этапов он успевал физически ощутить тяжесть дня: ноги гудели после двенадцатичасовой ночной смены, спина ныла от сквозняков в неотапливаемом коридоре технопарка, а в голове, как заевшая пластинка, крутился один и тот же вопрос – где взять деньги. Вопрос этот имел вкус – вкус дешёвой растворимой лапши и металлического привкуса от постоянного недосыпа.
Деньги нужны были на лекарства. Матери. Официальный диагноз звучал красиво и беспомощно: «синдром Шегрена с системными проявлениями». На практике это означало, что её организм медленно и методично атаковал сам себя. Сухость во всём – в глазах, которые она закапывала искусственной слезой, в горле, из-за чего её голос стал шершавым, в суставах, которые болели так, что по ночам она не могла уснуть, а лишь ворочалась, тихо постанывая. И постоянная усталость, будто её подключили к сети и высасывали по капле, не оставляя сил даже на просмотр телевизора. Новый биопрепарат, который мог реально затормозить процесс, стоил как чугунный мост. И его не было в льготном списке. Государство предлагало более дешёвые аналоги, от которых у матери начиналась аллергия, покрывая кожу красными зудящими пятнами. Артём смотрел на эти пятна и чувствовал, как внутри него закипает тихая, бессильная ярость.
Артём толкнул дверь в квартиру – та подалась со скрипом, задев облезлый линолеум. В прихожей пахло лекарствами (камфорный спирт, мазь «Диклофенак»), варёной картошкой и старой древесиной шкафа, который когда-то привезли с дачи. Свет от единственной лампочки-груши был тусклым и жёлтым.
– Мам, я!
Из комнаты донёсся слабый, простуженный голос:
– Ужин на плите. Только разогрей.
На плите стояла алюминиевая кастрюля с картошкой и сосисками. Варёная картошка слегка посерела, сосиски раздулись и потрескались. Артём посмотрел на это, и желудок сжался – не от голода, а от чего-то другого. От предсказуемости. От того, что завтра будет то же самое. И послезавтра. И через месяц. Это был гастрономический маятник, отмеряющий бесконечные, однообразные дни. Он разогрел ужин на скорлупке конфорки, сел за кухонный стол, покрытый клеёнкой с выцветшими розами.
Телевизор в соседней комнате бубнил что-то про курс доллара и санкции. Голос диктора был ровным, бесстрастным. Мать вышла, опираясь на костыль – старый, деревянный, с потёртой подмышкой. Ей было всего пятьдесят восемь, но двигалась она как восьмидесятилетняя старуха – маленькими, шаркающими шажками, каждый из которых, казалось, требовал невероятного усилия.
– Как на работе? – спросила она, садясь напротив и с трудом укладывая больную ногу на табурет.
– Нормально, – ответил Артём автоматически, прожевывая безвкусную картошку. Работа была такой же, как ужин: предсказуемой и безнадёжной. Ночной администратор в технопарке «Соколиная гора». Когда-то там кипела жизнь: НИИ, конструкторские бюро, опытные производства, рождались идеи для космоса и обороны. Теперь это было кладбище идей. Длинные коридоры с выцвелыми линолеумами цвета горохового супа, лаборатории, заставленные покрытыми пылью приборами с аналоговыми шкалами и ржавыми клеммами, и тишина, нарушаемая только гулом трансформаторных будок да скрипом дверей на сквозняке. Его обязанности сводились к тому, чтобы обходить корпуса раз в два часа, ставить печати в журнале и следить, чтобы бомжи не растаскивали оставшееся железо на цветной металл. Работа-призрак, в которой самым живым существом был он сам.
Но именно там, в одном из заброшенных ангаров, куда когда-то завозили станки, у Артёма была своя мастерская. Вернее, склад хлама, который он постепенно, по крупицам, превращал во что-то отдалённо напоминающее рабочее место. Он заканчивал Бауманку заочно, специальность «радиоэлектронные системы». И пока одногруппники писали дипломы по нейросетям и квантовым вычислениям, оперируя абстрактными библиотеками и облачными серверами, он ковырялся в железе, которому было больше лет, чем ему самому. Не от любви к ретро, а потому что это железо можно было достать бесплатно – списанное, утилизированное, забытое. Оно было тяжёлым, пахло окислами, машинным маслом и пылью, но зато оно было реальным. Его можно было потрогать, перепаять, заставить снова работать. В этом был свой, архаичный азарт.
Именно там, среди стеллажей с советскими осциллографами С1-70 и ящиков с потускневшими радиолампами, у него родилась идея. Безумная, отчаянная и единственная, которая могла принести реальные деньги. Не иллюзорные цифры на экране, а настоящие купюры, за которые можно купить лекарство.
Квантовый майнинг.
Не тот, что на видеокартах, майнящий биткоины по алгоритмам, а настоящий. На основе квантового генератора случайных чисел. Идея была проста, как всё гениальное: если собрать установку, которая использует не псевдослучайные алгоритмы, а настоящую квантовую случайность – распад частиц, туннелирование электронов – то можно генерировать криптоключи с идеальной, непредсказуемой энтропией. Такие ключи ценились на чёрном рынке дороже золота. Для спецслужб, шифрующих свои каналы, для хакеров, взламывающих чужие, для параноиков, желающих похоронить свои секреты навечно. Это была теневая, но огромная экономика.
Проблема была в железе. Серийные квантовые генераторы стоили как небольшой самолёт. Но Артём читал статьи. Старые, ещё восьмидесятых, отсканированные и выложенные на забытых форумах. Тогда, в полусекретных лабораториях, такие установки собирали из того, что было: фотоумножителей от списанных приборов ночного видения, свинцовой защиты, вытащенной из рентген-кабинетов, самодельных криостатов, собранных из баллонов с жидким азотом. Это была наука выжимания максимума из минимума, наука энтузиастов. Он был уверен, что сможет повторить. По крайней мере, был более уверен в этом, чем в том, что когда-нибудь сможет найти нормальную работу с белой зарплатой и соцпакетом.
После ужина он помыл посуду в остывшей, жирной воде, помог матери лечь, поправив подушки и поставив рядом стакан воды. «Спокойной ночи, сынок», – прошептала она, и в её глазах он увидел ту самую усталость, что высасывает жизнь по капле. Он кивнул, потушил свет и вернулся на кухню.
Сам сел за стол, отодвинув крошки, и открыл ноутбук. Экран осветил его уставшее лицо и пустые кружки. На рабочем столе – хаос из файлов: схемы, сканы старых журналов «Приборы и техника эксперимента» с пометками на полях, расчёты в MathCAD, фотографии железа. И отдельный файл – «НУЖНО.txt». Список деталей, которых ему не хватало. Список был длинным.
Ключевой элемент – блок сопряжения. Что-то, что могло бы перевести квантовые события – вспышку фотона, туннелирование электрона – в чёткий цифровой сигнал, понятный компьютеру. В современных установках для этого использовались специальные ASIC-чипы, маленькие и эффективные. У Артёма их не было и быть не могло. Но он помнил, что в архивах того самого НИИ «Электрон», на территории которого стоял технопарк, должны были остаться старые разработки. Что-то связанное с обработкой слабых сигналов, с выделением полезной информации из океана шума. Для систем слежения за спутниками или прослушивания подводных лодок. Что-то, что могло сгодиться.
На следующий день, после пары в институте, где он отсидел, почти ничего не слыша, уставившись в окно на мокрые крыши, он отправился в главное здание Бауманки на 2-ю Бауманскую. Архив находился в подвале старого корпуса, того самого, что выходил окнами в Замоскворечье. Корпус пах историей, известкой и сыростью.
Переступив порог архива, Артём почувствовал, как время замедлилось, стало вязким, как мёд. Воздух здесь был другим – сухим, наэлектризованным, наполненным запахом старой бумаги, кисловатым духом переплётов из кожизама и сладковатой пылью, которая копилась десятилетиями. Длинные стеллажи, до самого потолка, уходили в полумрак, теряясь в глубине подвала. Они были заставлены папками, коробками, рулонами чертежей. Где-то тихо потрескивали и мигали лампы дневного света старого образца, с дросселями. Тишина была настолько густой, что в ней начал звенеть собственный слух.
– Молодой человек, вы к кому? – раздался голос справа, негромкий, но чёткий, разрезавший тишину.
За простым деревянным столом, заваленным бумагами, сидел сторож. Не охранник в форме с нашивкой ЧОПа, а именно сторож – мужчина лет семидесяти, в тёмно-синем свитере с заплатками на локтях, в простых брюках. На нём были очки в толстой роговой оправе, одна дужка которой подвязана белой ниткой. На столе перед ним стояла эмалированная кружка с чаем, уже остывшим, и лежала раскрытая книга – старый томик Стругацких, «Понедельник начинается в субботу».
– Я ищу кое-что из старых фондов, – сказал Артём, слегка смутившись. – Блоки сопряжения, разработки семидесятых-восьмидесятых. Для систем обработки слабых сигналов.
Сторож посмотрел на него поверх очков. Глаза у него были светлые, очень внимательные.
– Слабых сигналов? – переспросил он. Голос у него был неожиданно глубоким и звучным, как у диктора, но с хрипотцой. – Это интересно. А для чего вам? Диплом?
Артём приготовился врать про дипломную работу по восстановлению старых систем, но сторож вдруг спросил, отложив книгу:
– Вы чей, если не секрет?
– Калинин Артём.
– Калинин… – Сторож откинулся на спинку стула, которая жалобно скрипнула. Он задумался, его взгляд стал остекленевшим, обращённым куда-то в прошлое. – Не сын ли ты Сергея Калинина? Того, что на кафедре квантовой электроники работал? Высокий, с бородкой, вечно курил «Беломор»?
Артём кивнул, удивлённый. В горле что-то сжалось.
– Он мой отец. Умер пять лет назад.
– Знаю, знаю, – сторож вздохнул, и вздох этот был таким же старым и пыльным, как всё вокруг. – Жаль. Талантливый был. Упрямый. Мы с ним одно время над одной штукой корпели. Садись, – он махнул рукой на свободный табурет. – Рассказывай, что тебе надо. Только честно.
Оказалось, что сторожа звали Владимир Семёнович. И был он не сторожем, а бывшим заведующим лабораторией №7 того самого НИИ «Электрон», который после сокращения в лихие девяностые остался «при архиве» – просто потому, что не мог представить себя вне этих стен, среди этих папок, которые были продолжением его памяти.
– Блоки сопряжения, – проговорил Владимир Семёныч, задумчиво потирая щетинистый подбородок. – Да, были такие разработки. Но не для радиосвязи, как ты, наверное, думаешь. Не для того, чтобы слабый сигнал сделать громче. Для совсем другого.
Он встал, двинулся вглубь архива, между стеллажами, двигаясь легко, несмотря на возраст. Артём последовал за ним, чувствуя, как сердце бьётся чаще. Они прошли мимо полок с папками, помеченными «СССР», «Сов. секретно», «Вскрыть в 1995». Запах стал ещё гуще.
– Вот, – Владимир Семёныч остановился у высокого металлического шкафа цвета хаки, с массивной дверцей и ржавым замком. – Тут кое-что осталось. Из проекта «Голос». Не смейся над названием. Молодые были, романтики. Думали, поймаем голос Бога или что-то вроде.
Он достал из кармана связку ключей, нашёл нужный, с трудом, но повернул. Замок щёлкнул с сухим, металлическим звуком. Он открыл шкаф. Внутри, на полках, лежали приборы, завёрнутые в промасленную бумагу, похожую на пергамент. Владимир Семёныч достал один свёрток, развернул. Внутри лежал чёрный ящик размером с толстую книгу в твёрдом переплёте. Корпус был из матового анодированного алюминия, без единой надписи, без кнопок, только несколько разъёмов на торце – странной, нестандартной формы.
– Это и есть твой блок сопряжения, – сказал он, протягивая ящик Артёму. – Только он не для преобразования сигналов. Он для их… фильтрации. Вернее, для выделения сигнала из шума. Но не обычного шума. Не электромагнитного.
Артём взял ящик в руки. Он был тяжёлым, неожиданно плотным, как слиток. Холодный металл быстро стал нагреваться от ладони.
– Что это за проект «Голос»? – спросил он, не в силах отвести взгляд от таинственного предмета.
Владимир Семёныч посмотрел на него, и в его глазах мелькнуло что-то сложное – смесь ностальгии, сожаления и живого, непотушенного интереса.
– Давай лучше чаю попьём, – предложил он. – А там я расскажу. Если, конечно, тебе интересно не только железо, но и идеи. Без идей железо – просто груда металлолома.
Он повёл Артёма в свою «каморку» – маленькую комнатку при архиве, отгороженную стеллажами. Там стоял стол, заваленный бумагами, электрический чайник «Молния» советских времён и две табуретки. На стене висела старая карта звёздного неба, пожелтевшая, с рисунками созвездий в виде мифических существ.
Пока чайник грелся, издавая слабый шипящий звук, Владимир Семёныч достал из тумбочки пачку печенья «Юбилейное» и две простые стеклянные кружки в металлических подстаканниках.
– Садись, – сказал он. – Рассказывай, чем отец занимался в последние годы. Как жил.
Артём рассказал. Сбивчиво, обрывисто. О том, как отец, разочаровавшись в науке конца восьмидесятых, ушёл в коммерцию, пытался заниматься поставками электронных компонентов, как прогорел на одной из афер, как начал запивать. О том, как тихо, почти незаметно, умер от инфаркта в пятьдесят лет, в съёмной квартире на окраине. О том, как после него остались только ящики с книгами и этот странный, неуёмный интерес к «жути» квантового мира, который он, кажется, передал сыну по наследству, как фамильную червоточину.
Владимир Семёныч слушал, не перебивая, кивал, и лицо его становилось печальным, старым, почти прозрачным в слабом свете лампы.
– Жаль, – повторил он. – Он мог бы многое. Мы все могли. Но время было… другое. Науку тогда не кормили, а заставляли выживать. Кому-то удалось, кому-то – нет.
Чайник выключился со щелчком. Владимир Семёныч заварил чай, насыпал в кружки по две ложки сахара с горкой. Пахло дешёвым индийским чаем и теплом.
– Так вот, – начал он, отпивая глоток и обжигаясь. – Проект «Голос». Началось всё в восьмидесятых. Тогда, после десятилетий застоя, по всему миру, и у нас в том числе, пошла волна интереса к фундаментальной, чистой квантовой механике. Не к той, что для бомб и реакторов, а к той, что про природу реальности. Про парадоксы. Про то, что мир – не то, чем кажется.
Он поставил кружку, облокотился на стол, сложив руки. Его пальцы были узловатыми, в пятнах, но не дрожали.
– Представь, вся Вселенная – как гигантская, невероятно сложная аналоговая схема. Не цифровая, нет. Цифровое – это когда есть ноль и единица, чёрное и белое, есть или нет. Аналоговое – это где бесконечное количество оттенков серого. Где значение может быть любым между нулём и бесконечностью. И где каждый транзистор, каждый электрон мгновенно, без всякой задержки, чувствует состояние всех остальных. Не через провода, не через поля, не через излучение. Мгновенно. Как если бы они были частью одного целого.
Артём слушал, пытаясь понять, к чему клонит старик. В голове всплывали обрывки лекций, парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена.
– В 1982 году в Париже был эксперимент Алена Аспе, – продолжал Владимир Семёныч, и его глаза загорелись. – Учёные доказали, что в определённых условиях элементарные частицы, например, фотоны, рождённые вместе, способны мгновенно сообщаться друг с другом. Не имеет значения: десять сантиметров между ними или десять миллиардов световых лет. Если ты меняешь поляризацию одного, его партнёр на другом краю галактики мгновенно, быстрее света, это узнаёт. Причина и следствие перестают быть разделёнными временем.
– Нарушение принципа локальности, – тихо сказал Артём. – Эйнштейн называл это «spooky action at a distance» – «жутким действием на расстоянии».
– Верно! – Владимир Семёныч оживился, как будто нашёл родственную душу. – И знаешь, что из этого следует на самом деле? Что объективной реальности, в привычном нам, макроскопическом смысле, не существует. Вернее, существует, но не как набор отдельных кирпичиков-объектов, а как единое, неразделимое целое. Дэвид Бом, физик, говорил, что Вселенная – это гигантская голограмма, где каждая часть содержит информацию о целом. Но это для публики. Для простых. На самом деле всё проще и сложнее одновременно.
Он сделал ещё один глоток чая, давясь, но не от воды, а от напора мыслей.
– Вся Вселенная одновременно говорит сама с собой. Каждая её часть мгновенно знает, что происходит со всеми остальными. Это не мистика, Артём. Это чистая, сухая математика. Физика. Самая что ни на есть настоящая. Просто наш мозг, наше восприятие устроены так, что мы вынуждены видеть мир раздробленным, дискретным. Видим предметы, расстояния, время. А на фундаментальном, квантовом уровне… там нет расстояний. Нет времени в нашем понимании. Там есть только связи. Корреляции. Всё связано со всем. Всё.
Артём почувствовал, как по спине, от копчика до затылка, пробежали мурашки. Не от страха, а от чего-то другого. От предвкушения. От того, что огромная, абстрактная теория вдруг обрела плоть в виде этого чёрного ящика на столе.
– И проект «Голос»?..
– Был попыткой подслушать этот разговор, – тихо, почти шёпотом, сказал Владимир Семёныч. – Попыткой создать устройство – аналоговый интерфейс, – которое могло бы считывать эти мгновенные корреляции. Не передавать информацию на расстояние – это ерунда, детские игрушки. А именно слушать, как всё связано со всем. Как состояние электрона в твоей руке связано с вращением галактики в Туманности Андромеды. Мы хотели услышать музыку сфер, только на языке вероятностей. Но ничего не вышло. Теория была, энтузиазм был, а железа… железа не хватило. Вычислительной мощи тогдашних ЭВМ хватало только на простейшие модели. И потом времена изменились. Деньги кончились, проект закрыли, всё сдали в архив. Как мавзолей несбывшейся мечты.
Он показал пальцем на чёрный ящик, который лежал между ними, как артефакт забытой цивилизации.
– Этот блок – одна из попыток. Сердце системы. Он должен был фильтровать квантовый шум, выделять паттерны этих мгновенных связей. Но мы так и не смогли его запустить по-настоящему. Не хватило вычислительной мощности, чтобы обработать то, что он, теоретически, мог поймать. А теперь, наверное, и не нужно. Кому интересно слушать шёпот Вселенной, когда вокруг кричит реклама и политика?
Артём посмотрел на ящик. В его голове что-то щёлкнуло, как сработавший логический элемент. Картинка сложилась.
– Владимир Семёныч, а если подключить его к современным процессорам? К GPU, например? У них терафлопсы мощности. К игровой видеокарте.
Старик усмехнулся, но в усмешке была грусть.
– Теоретически… почему нет? Железо он не испортит, питание стандартное. Но зачем? Чтобы услышать, как электрон шепчется с другим электроном за три галактики отсюда? Это же чистая наука. Денег не принесёт. Славы тоже. Только головную боль от осознания масштаба.
– А если попробовать использовать это не для слушания, а для… генерации? – не унимался Артём, чувствуя, как идея обретает форму. – Для генерации истинно случайных чисел? На тех же квантовых корреляциях? Не псевдослучайная последовательность, а настоящий хаос, настоящая энтропия?
Владимир Семёныч задумался. Потом медленно, очень медленно кивнул, глядя на Артёма с новым, оценивающим интересом.
– Интересная мысль. Очень. Использовать микрофон не для того, чтобы слушать песню, а чтобы улавливать ритм и на его основе создавать свой… Да. Это… извращённо гениально. Но сложно. Очень сложно. Чтобы выделить полезный сигнал для такого генератора, нужно будет отфильтровать не просто шум, а нужный вид шума. Как найти нужную волну в океане.
Они допили чай в тишине, каждый погружённый в свои мысли. Потом Владимир Семёныч разрешил Артёму взять блок, даже помог найти документацию – толстую пачку пожелтевших листов ватмана, испещрённых аккуратными чернильными чертежами, графиками и формулами, некоторые из которых были написаны от руки, с помарками.
– Возвращать не обязательно, – сказал он на прощание, стоя в дверях архива. – Всё равно тут всё на выброс. Скоро придут, сожгут или отправят под пресс. Но если что-то получится… если услышишь что-то интересное… зайди, расскажешь. Старику иногда нужно услышать, что не всё было зря.
Артём вышел из архива, держа под мышкой тяжёлый, завёрнутый в бумагу ящик. Шёл тот же мелкий, назойливый дождь, но он его почти не замечал. В голове, вытесняя усталость и быт, крутились формулы, схемы подключения, обрывки фраз Владимира Семёныча.
«Вся Вселенная одновременно говорит сама с собой».
И если это так, то в этом разговоре должна быть не только музыка, но и… данные. Информация. Бесконечный, непредсказуемый поток истинно случайных событий. Золотая жила для того, кто сумеет её обуздать.
Дома, поздно вечером, он развернул блок на кухонном столе, отодвинув крошки и кружки. Аккуратно, тонкой крестовой отвёрточкой, открутил четыре винта по углам и снял верхнюю крышку. Внутри, под тонким слоем пыли, открылась плата. Не современная, зелёная, с микроскопическими деталями, а советская, гетинаксовая, коричневого цвета, утыканная микросхемами в крупных, пластмассовых корпусах с двумя рядами ножек. Между ними – катушки индуктивности, намотанные медным проводом в эмалевой изоляции, несколько кварцевых резонаторов в металлических цилиндрах. И в центре, припаянный наглухо, – главный чип. Керамический корпус, на котором была нанесена маркировка, которой Артём не видел никогда: «АИ-7/Г». Ниже – ряд цифр и букв, не соответствующий никакому известному военному или промышленному стандарту. Это было что-то своё, штучное.
Артём достал ноутбук, подключил к нему USB-микроскоп (купленный когда-то на сдачу с другой покупки) и начал изучать документацию, сравнивая её с реальной платой. Час. Два. Мать давно легла спать, из её комнаты доносилось тяжёлое, прерывистое дыхание. За окном стемнело, дождь усилился, стучал по жестяному подоконнику монотонным, убаюкивающим ритмом. На улице завывала сирена скорой помощи, потом умолкла.
К полуночи, когда глаза начали слипаться, он, наконец, понял принцип. Блок действительно был фильтром, но не частотным, не полосовым. Он был предназначен для выделения сигналов, которые были скоррелированы не во времени, а в… в чём-то другом. В вероятностном пространстве. В состоянии системы. Он не искал пик на определённой частоте. Он искал совпадения, которые не должны были совпадать, если бы мир был локальным и детерминированным. Он искал «жуткое действие» и пытался его измерить.
Это было безумием. Но безумием, у которого была строгая, математически выверенная модель в этих самых пожелтевших листах. Модель, которая предсказывала, что при определённых условиях – при синхронизации с внешним, стабильным сигналом – блок сможет выделить корреляционный паттерн из квантового шума.
Две недели Артём жил в двух режимах, существовал в двух разных реальностях. Первая – ночная смена в технопарке, где он, под видом уборки, потихоньку тащил к себе в подвальную мастерскую детали: старый, но рабочий блок питания ATX, выброшенный системный блок Pentium IV, куски экранированного кабеля, паяльник, припой. Вторая реальность – дни, проведённые в этой самой мастерской или дома за кухонным столом, за расчётами и пайкой. Он спал урывками, по три-четыре часа, питался тем, что попадалось под руку. Мать смотрела на него с беспокойством, но не расспрашивала. Видимо, списывала на стресс из-за диплома.