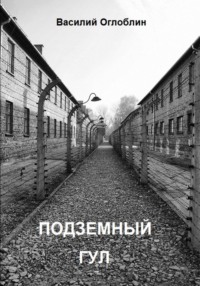Полная версия
Чаруса (роман)
На рассвете Саша очнулся. Открыл глаза. С недоумением огляделся вокруг себя, пристально посмотрел на мать, на своего любимого ученика Дымова, проговорил тихо и удивленно.
– Вы чего?
– Очнулся! – кинулась к нему Елена Николаевна, – сыночек, милый, очнулся.
– А чего ты плачешь, мам?
– Лежи, лежи…
– Туман какой-то вокруг. А луна где?
– Какая луна, сыночек?
– Ну та, что ныряла в облаках, потом чернела и падала.
– Эх ты, учитель. Жив, слава Богу, – пробасил Дымов, кладя большую руку на горячий лоб, – луна чернела и падала…
– Дымов?
– Ну я. Дымов. Узнаешь, слава Богу.
– А чего ты не идешь домой?
– Да так, с тобой вот посидеть охота. Стишок выучить: то как зверь она заплачет, то завоет как дитя.
– Эх ты, Дымов, да все наоборот надо: то как зверь она завоет, то заплачет как дитя. Не выучил?
– До вечера выучу. Уж теперь-то не спутаю, не забуду. На всю жизнь заучу.
– Горюшко ты мое луковое, луна чернела, – плача и утирая слезы, шептала мать, – убивали тебя, дурачок, курком от ходка по голове ударили, если бы не Кеша Дымов, то была бы тебе луна, в последний разочек бы ты ее увидел. Говорила же я – не ходи, чувствовало мое сердце, материнское сердце – вещун…
– Ах, да, да, вспоминаю. Все вспоминаю: черная тень от амбара, тропинка из-под ног выскальзывает, луна падает. Вспомнил. Епифан?
– Он. Кому же еще?
– Мизгирь проклятый. Теперь поговорим по-другому.
Саша сорвался. Сел в постели. Схватился руками за голову и медленно осел в подушки.
– Голова кружится…
– Лежи, Сашенька, лежи, – кинулась к нему Елена Николаевна, – ни о чем
не думай, не вспоминай. Леки спокойно. Дремли. Нельзя тебе волноваться.
– Поговоришь, учитель, опосля. А теперь лежи и молчи. Вредно тебе много говорить.
Рассветало. В комнату проник прорвавшийся сквозь тучи робкий солнечный лучик и белым пятнышком лег на половике.
– Пойду я, пожалуй, – тихо сказал Дымов, вставая с табурета, – теперь -то Мизгирь, поди, не осмелятся, чай проспался уже. Мать тоже, небось, беспокоится, куда на всю ночь запропастился. Зайду по пути к фершалу, пошлю его к вам.
– Да, да, Кеша, идите. Благодарна вам за все. Слов для выражения это благодарности нет, она в сердце и в душе.
Прощаясь со светлой горенкой, с больным учителем и Еленой Николаевной, измученной переживаниями и бессонной ночью, но ставшей от этого еще привлекательнее и дороже, Иннокентий Дымов, стоя уже у порога и мня в руках шапку, спросил нерешительно.
– Елена Николаевна, если разрешите, то я буду наведываться к вам, навещать Сашу, заданный урок расскажу ему.
И низко опустил глаза.
По лицу Елены Николаевны скользнула легкая тень, глаза озарились чистым светом тихой радости.
– Конечно, Кеша, приходите, – тихо сказала она, – я… мы с Сашей будем вас ждать.
– Тогда до вечера. А метель-то, язви ее, умаялась, свирепый хиуз обессилел.
И действительно, утром унялась, угомонилась метель. На земле стало непривычно тихо и торжественно. Выглянуло веселое, ярко-ослепительное солнце, уже заметно повернувшее на весну. Под его холодными колючими лучами рафинадно засинели, заискрились снега, высокие барханы надутых ветрами сугробов. Проторенные первыми пешеходами и санями тропинки и колеи стояли нетронутыми, а следы кованых полозьев на первопутках, отражая солнечные лучи, остро посверкивали огненными пиками. Легко и торжественно было и у возвращающегося домой Дымова и сердце сладко замирало.
Глава IV
Тусклый и пожамканный зимний день осмерк по-воровски торопливо и украдкой. Мал наметенными пургой взгорбьями осела и затаилась загустившаяся темень и ледынь.
Спирька тоскливо посмотрел на увядшую зарю, потом на свой дом, цвыркнул сквозь зубы, почесал затылок, ночевать домой не пошел. Знал необузданный дикий норов отца, знал, что нонче вечером запахнет в доме человечьей кровью. Он допоздна просидел в председательском кабинете, тесной, до копоти прокуренной бывшей горенке попадьи с милиционером Генкой, рослым безбровым увальнем с фиолетовым шрамом во всю правую щеку, следом казацкой шашки, курил самок утку за самокруткой, сплевывал тягучую соленую слюну.
– Иди, Спирька, домой, – советовал Генка, хитровато щуря немигающие белужьи глаза. – Аль бати испужался?
– Дик он пъяный, – вяло и неохотно ответил Спирька, – мамашу, небось, теперь раскуделивает.
– А ты бы заступился, не давал мамашу в обиду.
– Жидок еще я против бати. Да и смертоубийство может приключиться.
– Это тоже верно, – безразлично сказал Генка. – Натворите делов, а мне морока, расхлёбывайся потом с вами.
Он загасил о подошву сапога цыгарку, тяжело поднялся со скамьи, потянулся, поправил на ремне наган, сказал, нахлобучивая на голову буденновку.
– Посиди тут с дедом Савоськой, посторожуй. У его тулка. В случае чего бахайте. А я к дому вашему пройдусь, послушаю, что там делается. Поогляжусь. Вот-вот должно начальство подъехать за твоим батей. Загудит твой родитель на всю катушку. Не жалко?
– Я в комсомол вступаю. Это мой комсомольский долг.
– Родного отца не жалко?
– А чо его жалеть, если он такой дикой, маманю живьем в гроб загоняет, на меня кидается, кулак к тому же, а кулаков мы ликвидируем как класс.
– Ну, гляди, гляди…
Милиционер ушел, тяжело ступая большими сапожищами по полусгнившим скрипучим половицам поповской горенки. Всегда молчаливый и угрюмый дед Савоська или Разноглазый по-уличному, бросая косые взгляды на Спирьку, одиноко сидевшему в простенке у окна, молча растопил высокую, до ртутного блеска выложенную спинами когда-то крашенную голландку, подбросил пяток сухих березовых поленьев, огонь ярко и весело вспыхнул, озарив комнату мятущимся светом, приладил к огню небольшой чугунок с картошкой, присел у печки на кукорки, распалил небольшую трубку-носогрейку, затянулся едким самосадом, спросил погодя, не оглянувшись.
– Ты чо, паря, домой-то не идешь, кочета вон уже пропели?
– А так, неохота.
– Сторожить штоль со мной станешь?
– Стану, дед Савоська.
– Ладно. Вдвоем-то оно сподручнее. Отца, небось, побаиваешься? Лют он ноне. Столь пашенички из ям-то выгребли. Волосы, небось, на себе рвет, под руку не попадайся.
– Матери волосы рвет, а не свои.
– Ночуй тута, ночуй. Я так, к слову, мне рази жалко. Картошечки вот в шинельках поедим по-солдатски, водичкой холодной запьем.
Когда-то деда Савоську звали Севастьяном, но с тех пор как убежала от него с заезжим фокусником его пышнотелая и дородная жена Фекла и Севастьян остался бобылем, кто-то с легкой руки прозвал его Разноглазым, с тех пор позабыли люди его прежнее имя, смотрели на него вполглаза, разговаривали с издевочками, а скоро и совсем перестали примечать. Бобыль он и есть бобыль. Да еще и неказист собой был. И вправду, весь он как затоптанное пробежавшим табуном деревце повел с давних пор в криворос, да таким непутящим и вырос, и жизнь долгую прожил в обидах и одиночестве и под старость совсем захирел. На всем его маленьком ссохшемся как печеное яйцо личике живыми и по-молодому еще бойкими были только глаза, обладающие удивительным дихроизмом. Из нежно-голубых как полевые васильки они вдруг становились темно-голубыми как вечереющее небо, потом темно-карими, каштановыми и наконец совсем черными. Этой перемене его глаз все дивились, ахали и суеверно побаивались: "Не зря же Фекла убегла, рази с таким чертом уживешь, чай, боязко, ляд его знает, что у него на душе, разноглазого, возьмет да и задушит ночью или зарежет о ту пору, когда глаза черными станут как деготь…"
Долгие годы одиночества и непричесанной неряшливой жизни сделали Савоську угрюмым, малоразговорчивым и мрачным, ушедшим в себя, тайно от людей пересевающим изо дня в день, из года в год свои неутешные думы. Его горбатая избенка, притулившаяся на угоре, на самом обрыве над Черемушкой с годами, как и он, обветшала, заплотишко давно упал и сгнил, и стоит она, открытая всем ветрам и снегодуям, тускло и бельмасто глядя двумя оконцами на белый свет. А лет шесть назад Спирька определился сторожем в сельсовет, вот и живет теперь в поповских хоромах, исполняя все должности при начальстве: он и сторож, он и рассыльный, он и надзиратель при каталажке, он и подметальщик, моет полы и выветривает по утрам стойкий табачный дух, и совсем редко наведывается в свою пустую и холодную избу
Высосав трубку и наглядевшись на весело пылающие березовые поленья в печи, он присел на скамью, угрюмо поглядел на Спирьку.
– Слышь-но, Спирька, перинов и пуховиков у меня нету, стели полушубок на лавку под бок, пимы клади под голову, да и спи себе, благословясь. Не рано уже.
– Угу, – безразлично буркнул Спирька.
Но о сне у Спирьки и помыслов не было. Не боялся он и отцовских кулаков, и необузданного отцовского гнева. Спирьку теперь, в глухое полуночное безмолвие терзали муки совести. Он мысленно рисовал себе, какая большая беда обрушится теперь на отца, каким беззащитным и жалким станет он, страшный и неукротимый в гневе, когда его арестуют и посадят. Вот-вот, через час, другой приедут из района, из НКВД и арестуют, ведь он, его родной сын Спирька, нынче рассказал все: и где хлеб у отца схоронен, и что произошло такой же вьюжной февральской ночью, когда дул свирепый хиуз и все живое затаилось за толстыми стенами из лиственничных бревен в тепле, а его отец караулил за амбарушкой над обрывом Степана Селезнева, секретаря партячейки и, подкараулив, убил из обреза. Он даже рассказал, где обрез тот захован. Все, все рассказал. и вот-вот приедут из Черемухова на кошовочке вооруженные люди и батя его загудит. Родной батя, который носил его на широком сильном плече, качал на пасху на качели, учил косить траву на заливном лугу за Черемушкой. Ладно ли сделал он, предав отца? В своей короткой жизни он совершил уже два предательства. Начитавшись Зойкиных брошюрок, он отрекся от Бога, предал то, во что верил с пеленок, верил истово и свято, читал Евангелие и Библию, впитывая в свою маленькую душу, казалось, извечные законы жизни человека на земле, законы, проповедующие добро и милосердие, любовь и сострадание к людям. И вспомнились Спирьке простые и мудрые слова Сираха, на всю жизнь застрявшие в его цепкой детской памяти: "Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе в бесчестии отца. Слава человека от чести отца его и позор детям – мать в бесчестии…"
Спирька зябко вздрогнул всем телом.
– Ты чо? Взмера? Бери вон мой зипун, укройся, – распрямил согнутую дугой спину Савоська, и глаза его в желтом свете коптившей семилинейки, стоявшей на председателевом столе, сделались грязно-бурыми как дождливое осеннее небо. – Скоро нагреется, выстудили за день-то.
– Да я так, думы разные в голову лезут.
– Это так, паря, когда нет мира в душе дум в голове завсегда много.
Дед Савоська щипнул охвостень давно общипанной бороденки такой же грязно-бурой, как и глаза.
– Вижу, совесть тебя, парень, мучает. Замыслил ты зло в душе против близкого человека, отца родного, когда он без опаски живет с тобой и нет у него никаких от тебя тайн. Спи, не смущай душу. Теперь не поправишь, думать надо было прежде того, чем совершить зло. Только поверь мне, старому человеку, не будет тебе в жизни талану, сделал злое дело, зло к тебе и вернется. А отца родного погубить – дело не шутейное. Спи. Теперя, говорю, не поправишь. А жизни тебе не будет – вот тебе мой сказ. Попомнишь. Каков он ни есть, а тебе отец. На белый свет тебя породил. А мне отец-то твой, от чё я тебе скажу, был благодетелем, не раз и не два спасал от голодной смерти. Придешь, бывало, шапку с башки сорвешь, поклонишься низко, мол, так и так, в брюхе с неделю уже черти в чехарду играют, усмехнется, головой покачает, поведет в амбар, возьмет меру и всыплет в твою пустую торбу одну али две мучицы, мол, айда, авоська, пеки белые калачи, мука-то белая, белее снега. Так-то. и все Христа ради. Не напомнит про должок, чего не бывало того не бывало. Все Христа ради. Да если по-божески рассудить, то какой он мироед?
– Кулак он, – огрызнулся Спирька, – а товарищ Сталин сказал: по кулаку ударим кулаком. изничтожим кулачество как класс.
– Дурак. Начитался в избе-читальне брошюрок разных. Какой он класс? Ладно, Скоробогатов при непе лавку бакалейную имел, карасином, мылом, ворванью и скобяным товаром торговал, а отец твой Епифан? Какой кулак и мироед Епифан? Богатей? Верно, богатей. А как он свое богатство нажил? У всех на глазах на голом месте богатым-то стал за десяток лет. Не убивал на больших дорогах, не грабил, а пуп рвал и горб гнул. Не жалел ни себя, ни Марию, ни тебя. Али тебя жалел?
– Батя пожалеет. С десяти лет впряг в работу.
– То-то же. Вот и выходит, что кровяными мозолями и потом соленым нажито то богатство. Чего Савоська Разноглазый за эти десять лет не стал богачом? А? – он жиденько рассмеялся в бороду, – а оттого, что, лень-то, раньше меня родилась и в рюмочку я большой любитель был заглядывать. И ты богатым никогда не станешь, жилки в тебе хозяйственной, как я погляжу, нетути. Вот то-то и оно. А отец твой был мне благодетелем, царство ему небес… Ой, чё это я, хрыч старый, он же еще живой и в полном здравии, забрехался я с тобой, парень. Я целиком за советскую власть на все сто процентов, только мужичков крепких обижать не надо бы. Кто окромя их Расею накормит? А теперь спи благословясь…
Савоська опять раскурил трубку и подсел к печке перекатывать свои тяжелые и неуклюжие мысли и вспоминать кусочками, отрывочками уже прожитую на земле жизнь, вроде бы и постылую, и горькую, вроде бы и до слез желанную и баскую.
Спирька долго лежал на спине, заложив под голову руки и уже стал дремать, когда услышал конский топ и визгливый скрип полозьев.
"Приехали", – мелькнула догадка.
Он ошалело сорвался с лавки. Сел, сунув ноги в пимы.
В комнату вместе с морозным облаком ввалились, тяжело топая, четверо в волчьих и медвежьих дохах, заснеженных и закуржевевших. Скинули дохи, бросили на лавку.
– Караулим, дед Савоська?
– Караулим. Наше дело солдатское.
– А это кто? – метнул старший взгляд на Спирьку.
– Этто? А этто Спирька. Мизгирев сынок.
– А-а-а. Значит, ждал?
– Ждал, – тихо ответил Спирька и опустил глаза.
Высокий плотный мужчина перепоясанный хрустящими перемерзшими ремнями, с наганом на боку, сел за председателев стол, вывернул фитиль в лампе, пристально, проницательным взглядом посмотрел на Спирьку.
– Ну, рассказывай, парень.
– Да я уже все рассказал милиционеру и председатель.
– Рассказывай нам.
Спирька торопливо, заикаясь отчего-то и сглатывая окончания слов, второй раз за этот день подробно рассказал о февральской ночи четыре года назад. Не утаил ничего.
– Почему тогда сразу не сообщил?
У Спирьки загорелись уши и на лбу выступил холодный пот.
– Мал еще был. Глуп.
– И тятьку боялся?
– Боялся.
– А теперь уже не боишься?
– И зараз боюсь, – опустил глаза Спирька.
– Можешь теперь не бояться, начальник улыбнулся, у нас охрана сильная.
Он показал глазами на трех рослых парней с винтовками, гревших руки у голландки.
– Тебя как зовут?
– Спирька. Спиридон.
– Значит, Спиридон Епифанович Зозулин?
– Так.
– Вот что, Спиридон Епифанович, по твоему рассказу выходит, что отец убил Селезнева выстрелом из обреза на тропинке около амбарушки над обрывом. Так?
– Так.
– А тело убитого секретаря комячейки его товарищи нашли возле избы солдатки Маньки, бабенки разгульной и к мужикам жалостливой. Это как понимать?
– Дак он же на горбу отволок его туды, чтобы все подумали, что убит секретарь из ревности, мол, не ходи к чужим солдаткам.
– Так отец говорил?
– Так и говорил матери, мол, до Маньки пер паршивца, аж упрел весь, а хиуз следы усердно заметал тут же.
– И ты это слышал?
– А слышал. Я еще не спал. Мать плакала, а отец прикрикнул на нее: "Нy, будя, будя! Сходи лучше до ветру, опростайся. Сам черт днем с огнем не найдет убивцу. Где там…"
– Ну, молодец!
– Кто? Я?
– Отец твой молодец. Сбил нас тогда с толку. мы так тогда и подумали, что кто-то из ревности к бедрастой и грудастой Маньке убил Селезнева, еще и подумали о нем худо: мол, настоящему честному партийцу не стоило бы по солдаткам по ночам шататься, честь свою марать из-за какой-то мокрой юбки. Куришь?
– Балуюсь.
– Закуривай. А я протокол пока писать буду.
Добродушный начальник вынял из кармана форменного френча пачку папирос "Пушки" ловко щелкнул пальцем по дну коробки, протянул Спирьке и Савоське толстые душистые папиросы, открыл кожаный портфель, достал стопку бумаги, пододвинул поближе лампу и стал быстро писать.
Писал он долго, хмуря гладкий высокий лоб и почесывая ручкой за ухом. Румяные толстые щеки его то надувались, то проваливались как кузнечные меха. Савоська сидел в полутемном углу и сосал трубку за трубкой. Лицо его было мрачным и окаменелым. Спирька после "пушки" выкурил еще самокрутку, а начальник все писал и писал. наконец он распрямился, большой и тучный, похлопал ладонью по исписанным листам, сказал сухо, официально.
– Подпиши, Спиридон Епифанович вот тут, тут, тут и тут, ткнул пальцем в конец каждой исписанной страницы.
Спирька подписал.
– Да, – убирая листы в портфель и ни к кому не обращаясь, пророкотал густым басом начальник, – знал я Степана Селезнева. Хорошо знал. Дружили. Большой души был человек и коммунист преданный, и Елену Николаевну знал и мальца ихнего. Забыл, как зовут.
– Саша, – подсказал Спирька, – Санька.
– Да, да, Саша, ак они тут поживают без отца?
– А живут, – ответил Савоська. – Куды денешься? Елена Николаевна учительствует, малый тоже учит неграмотных в школе ликбеза. Востер, говорят, малый, весь в отца. Хлеб у кулаков ищет, в газетенку районную пописывает. Востер, востер.
Елена-то Николаевна, – продолжал начальник, – красавицей была на все Черемухово, чего греха таить, и я заглядывался, и я Степану завидовал. Замуж не вышла еще?
– Куды там, – ответил Савоська, – живет одна, бобылкой и подступу никому нет. Гордая и неприступная.
– Знаю, любила она Степана. Да и было за что. Человек был Селезнев. И правильно, дед Савоська, женщина она гордая, цену себе знает. Это не ваша Манька-солдатка.
– А чо ей, Маньке, покедова молода, живи. Однова живем.
– Посиделочки все устраивает, мужичков самогонкой приманивает?
– А устраивает и посиделочки. Кожную ночь до вторых петухов дым коромыслом, песенки да пляски.
– Веселая бабенка. А к Елене Николаевне надо бы было заскочить, повидаться, да некогда, к тому же ночь глухая, неудобно беспокоить. Ладно отогрелись, орлы?
– Отогрелись.
– Поехали. Брать.
И грузно встал из-за стола.
По селу вразнобой и по-ночному всполошливо загорланили третьи петухи. Спирьке было муторно, словно его тянуло рвать и к горлу подступала блевотина.
Глава V
Выкарабкавшись из глубокого сугроба, Епифан, дико ругаясь, на четвереньках выполз на берег, огляделся затравленным зверем вокруг себя, хотел было бежать к избушке бобылки, но вспомнив о тяжелых кулаках Кешки Дымова, передумал: голова своя, не чужая и не сноп ржаной, чтобы молотить ее и так в ней гудит медным гудом.
– Ну, Кешка, погоди, – с яростью выдавливал из себя Епифан лающие слова угрозы, – бог даст расквитаюсь и с тобой, Епифан Зозулин должником отродясь ни у кого не был. Попадешься и ты в темном заулочке, гад…
Ворвавшись в дом, Епифан очумело постоял посредине просторной избы, осовелыми глазами шаря по заугольям, заметил в кути побелевшую как первый снег Марию, дико заорал.
– Ограбили! Обобрали до нитки! Все, все супротив меня, и Спирька, и ты, стерва старая, и Кешка Дымов. Нате, рвите мою душу!
Мария онемела от страха, только и выговорила непослушными занемевшими губами.
– Епифанушка, родимый мой, остепенись…
– Сс-те-пе-нись! Кляча изъезженная. Чо не орала благим матом, когда пашеничку выгребали из ям, пошто волосы на себе не рвала? Пошто людей не звала на помощь, караул не кричала?
Мария заготовила опару, собралась ставить квашню и сеяла в это время муку. Сито из ее рук выпало, всю затрясло как в приступе малярии.
– Середь бела дня грабили, а ты молчала в тряпичку? У, постылая!
Епифан взмахом кулака смахнул со стола сито, словно сдунул, оно, рассеивая по полу муку, покатилось по избе и, сделав круг, легло у его ног, он остервенело пнул его под потолок.
– Мучица-то последняя, завтра зубы клади на полку, волком вой, Христа ради проси под подоконьем…
Заметив висевшую на костыле, вбитом в стену ременную нагайку, Епифан сорвал ее и стал исступленно наотмашь хлестать Марию по протянутым к нему с мольбою рукам, лицу, спине. Мария вертелась как заведенный волчок.
– Епифанушка, родимый, смилуйся, пожалей, ить я ни в чем не виновата, али на тебе креста нет.
–Молчи! Убью!
Мария, давно привыкшая к мужниным потасовкам за любую малую провинность и без провинности, не кричала, не выла в голос, не звала на помощь соседей, она до крови кусала губы, намертво стискивала зубы и не проронив ни звука, плясала под хлесткими ударами плети, загораживая руками глаза.
Бросив плеть, Епифан наотмашь ударил Марию по лицу, она, тяжело охнув, улетела в дальний угол избы, поползла на четвереньках как раздавленный червяк в горницу, под широкую кровать, оставляя за собой кровавый след.
– Всех порешу! И Спирьку и тебя, потатчицу!
В это время во дворе заливисто залаял Волчок, раздался громкий, требовательный стук сначала в ворота, потом в ставню. Епифан застыл в оцепенении посредине избы, впервые увидев рассыпанную по всему полу муку, сломанное сито под порогом, нагайку. Он смотрел на все это отупело и бессмысленно налитыми кровью глазами. Прохрипел.
– С обыском? Брать у меня нечего окромя души. Берите, гады!
В ставню колотили все настойчивее и сильнее.
– Марья, поди открой.
Мария не издала ни звука.
Тогда Епифан, пошатываясь и тяжело топая, пошел открывать калитку поздним ночным гостям. Когда увидел высокого тучного человека с наганом в руке и троих, идущих за ним с винтовками, сразу обмяк. Хмель как рукой сняло.
– Заходите, гостеньки незваные.
Трое с винтовками остались у дверей, начальник прошел, перешагивая через рассыпанную муку, в передний угол, сел за стол.
– Присаживайся, Зозулин, на лавочку. Потолкуем.
Епифан сел. Опустил руки. Чувствовал, как задрожали коленки. мелькнула мысль: "Это – конец".
– Что же это мучку-то по всей избе сеяли? Лишняя?
Епифан молчал.
– Жена где?
– Марья, выйди. Спит, поди, в горнице.
Мария не подала ни звука.
– Бил?
Епифан не ответил.
– Ладно. Положи сюда, – начальник постучал пальцем по столу, – Епифан Зозулин, все имеющееся у тебя оружие.
– Откуда у меня оружие? – вскинул голову Епифан.
– Положи сюда. Лучше будет. И не вздумай шалости шалить.
Епифан было вскочил, но снова сел на табуретку, уронил руки.
– Берите сами, если найдете.
– Семушкин! Принеси обрез.
– Есть!
– Я сам! – встрепенулся зозулин.
– Сидеть, Зозулин! Сидеть!
Услышав в избе громкие голоса, Мария выползла из-под кровати, тенью проскользнула мимо мужа и застыла, окаменела в кути, скрестив руки на высокой груди. Была она еще совсем не изъезженной клячей и старой стервой, а молодой статной женщиной лет тридцати пяти, с густыми смолистыми волосами, большими голубыми глазами, подернутыми ранней печалью и никому не высказанной женской тоской и болью. Была Мария по-видимому из той семижильной породы русских сибирских женщин, которая и "коня на скаку остановит, в горящую избу войдет". Следы былой красоты не угасли в ней, а только привяли, чуть пожухли. ее недавнем женском величии и красоте говорило еще все: и пышные густые волосы, причесанные гладко с пробором посредине и уложенные высоким клубком на затылке, и стройные точеные ноги, и пышная высокая грудь. Во всем ее облике чувствовалась какая-то добрая притягательная сила, а голубые глаза смотрели на мир с ласковой доверительной теплотой. Такие сильные душой, открытые и добрые женщины попадаются у нас на Руси, как правило, либо горьким пьяницам, либо деспотам, но несут свою ношу, порой невыносимую, покорно и безропотно ("от судьбы не уйдешь, так, видно, на роду написано").
Теперь Мария глядела на мужа с искренним участием и состраданием, хотя все ее тело жгло от ударов нагайки, словно ее только что голую острекали крапивой, в голове гудело, сильно болела ушибленная во время падения нога. Но это ее беспокоило меньше всего. Теперь она думала о том, что Епифана по-видимому заберут и надолго, а они со Спирькой останутся без гроша денег и без единой зернинки хлеба. Деньги, какие были Епифан прихоронил так, что ни один черт не сыщет, а сказать, где они – не скажет, не об этом теперь его думы. Со страхом и природной женской жалостью вслушивалась она в разговор и чувствовала, как по всему телу проходил судорогой мелкий озноб. Один глаз у Марии заплыл, на руках и ногах набухали кровью следы нагайки.