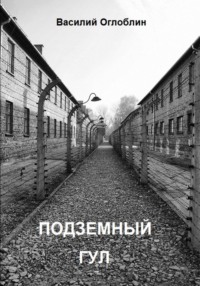Полная версия
Чаруса (роман)
– А утром и явились. Я только коров подоила.
– Спирька дома был?
– Не было, батюшка. Уже не было. Чуть свет убег.
– Так. Сразу к ямам? И в дом не заходили?
– Сразу, Епифанушка. Приехали на подводах с лопатами и ломами, как все одно домой явились, и никому ни слова, на полслова стали заплот за завозней рушить, снег разгребать, тесины выворачивать и мешки на подводы таскать, господи, прости нас, праведный. Я было…
– Цыц! Нахозяйничали. На одну ночь из дому отлучился и все пошло прахом. Однако, откуда могли разнюхать? Вот, что дивно. Знали-то я да ты, да Спирька, да ночка темная, осенняя. Кто разнюхал? Кто? Ну, змееныш, глызой застрянет в твоей глотке мой кровный хлебушко.
– Ужли тоды осенью подглядел?
– Цыц! Давай поись! Сготовь закусить да первак поставь, голова раскаливается на черепки. Теперя – пропадай все пропадом.
– Уж не захворал ли, Епифанушка? Не прозяб ли в дороге? Не продрог ли? Может лучше чайку с малинкой?
– Аль не чула? Што было сказано? Поживей и молча.
Мария забегала от печки в голбец, из голбца к печке. Быстро поставила на стол еду и самогон, отошла в куть, окаменела там, скрестив на груди руки, молча наблюдала, как Епифан, крякая и кряхтя, опоражнивал стакан за стаканом чистый как слеза самогон-первак, шумно хрустел солеными рыжиками и огурцами, словно речную гальку пережевывал, быстро хмелел и уже не говорил, не кричал, а рычал по-звериному.
– Нонче же. Нонче ночью…
– И что ты надумал, батюшка, господь с тобой, и себя погубишь и нас со Спирькой по миру пустишь.
– Нонче же…
И пошатываясь, подошел к окну и погрозил волосатым кулаком в сторону кособокой избенки "бобылки".
Глава ІІІ
Короткий зимний день угасал. В той стороне, где за поскотиной в белесой стыни дотлевал закат, поднебье бледно порозовело, в холодной мгле чуть проглядывало в разрывах мохнатой тучи хмурое слепнущее солнпе, сверху еще сильнее посыпал снег, заметался ветер, завихрила, закружилась в бесовской хлыстовской пляске шальная метелица, Быстро темнело. На землю наваливалась длинная, студеная, выжная ночь. Все живое попряталось в тепло и затишек. Налаявшись ввечеру досыта, умолкли охрипшие собаки, только где-то протяжно и отчаянно-горько мычала по- видимому ненакормленная корова.
Елена Николаевна, словно почувствовав угрозу, тревожно подошла к темнеющему окну, долго смотрела на слепые окна зозулинского дома, потом перевела взгляд на сына. Сала сидел за столом, читал. Негустые брови насуплены, сведены к переносью, губы строго сжаты, в светло-голубых глазах застыла напряженность. "Как похож мальчишка на отца, – подумала она, – вылитый Степан и характером весь в него, такой же напористый, такой же неугомонный…"
С сожалением закрыв книгу, Саша встал, подошел к замерзшему окну, посмотрел туда же, куда смотрела мать, на дом Зозулина, вслушиваясь в свист метели, попытался прогреть пальцем дырочку в узорчатом рисунке льда, дул в протаянную лунку и не смог, лед был толстый, только по краям и вверху окна были небольшие щелки чистого стекла. Повернул золотисто-льняную голову, посмотрел на ходики. мать уловила его взгляд, оторвалась от вязания.
– Не ходил бы ты сегодня, сынок, – ласково попросила она, – метель-то как метет, белого света не видно.
Саша обернулся на ласковый голос матери, посмотрел на ее белые красивые руки, замершие с клубком шерсти и спицами на коленях, улыбнулся. В комнате было уютно и тепло, уходить в студеную темень и пургу ему и самому не хотелось, но он знает, что его ждут, и не пойти он не может, не имеет права.
– Мама, ты же знаешь, что меня ждут, что…
И не окончив фразы, он быстро натянул белую парусиновую блузу, старательно повязал перед зеркальцем красный галстук и снова бросил взгляд на мать. Руки ее по-прежнему покоились на коленях, в широко открытых глазах сгустилась тревога и мольба.
– Ой, сыночек, чувствует мое сердце, что порешат они тебя. Послушай, мать, не ходи сегодня, скажем, что приболел. Встретят в переулке и укокошат, кричи не кричи – никто не услышит, никто не прибежит на помощь. Вспомнят они тебе все: и заметки твои в газету, и хлеб у них отнятый, все вспомнят и не жди, не простят, не пощадят. Злые они теперь очень, словно волки по весне, прижали их круто. Мизгирь Епифан сегодня в город ездил, а когда возвратился, видел, как вы его хлеб везли. Ты бы хоть поосторожней, а то в открытую.
Материн голос переходил в жалобный плач.
– Вот так же и отца твоего…проводила вечером на собрание, а в полночь товарищи принесли на руках мертвого… и метель так же мела, и хиуз дул свирепо. Не ходи, сыночек, не будь таким упрямым, послушай мать.
Елена Николаевна заплакала.
– Мам, ты же знаешь, что я не переношу женских слез.
Он заторопился. Схватил с вешалки суконное, ношеное переношенное пальтишко, нахлобучил на вихрастую голову заячью шапку.
– Мам, я пошел. Ждут меня. Спи. А лучше читай. Вот "Ташкент – город
хлебный". Интересно. Ты же еще не читала.
Он подбежал к матери, обнял ее за плечи, чмокнул в щеку и нырнул с крыльца в белую пляску и свист метели. С минуту он всматривался в свистящий мрак, оглядывался по сторонам, нащупывал ногами тропинку и нащупав, уверенно шагнул в снежную крутоверть.
Школа ликбеза, в которой Саша учил грамоте десять крестьян и крестьянок, была через одиннадцать домов. Стоило скатиться по глубокой тропинке, проторенной в наметах, с косогора, перебежать неширокую в этом месте речку Черемушку, вскарабкаться на крутой противоположный берег, а там уже и рукой подать, и идти там будет легче, тропинка проторена перед домами, не так дует.
Бежит Саша, загораживая тощим воротником шею от колючего, обжигающего щеки ветра, посматривает по сторонам, слева луна в белый омут ныряет. Нырнет, вынырнет, опять нырнет. Холодный пар идет от луны волнами. Посмотрит направо – низкие пузатые тучи плывут увалисто над крышами изб, перекатываются, наползают одна на другую. Уже замерз Саша шибко, пальтишко-то на рыбьем меху, потрет варежкой щеки, нос потрет, не обморозил ли, и дальше бежит почти уже боком, ветер толкает в спину, с ног сбивает. Добежал. В доме во всех окнах горит свет. Ждут. Радость щипнула за сердце.
– Не бойтесь, – шепчет себе под нос, – вот он я, прибежал, сейчас будем учиться.
Обмел голичком снег с пимов и потянул на себя тяжелую обледенелую дверь.
В жарко натопленной просторной горнице кисло пахло прогретой овчинной шерстью, пимами, едким дымом самосада. Шестеро бородачей, три разрумянившихся с мороза бабы и молодой, лет двадцати четырех, широкий в кости, и широченный в плечах парень – Кеша Дымов – Сашины ученики уже ждали его. Он поздоровался с ними как равный с равными, скинул пальтишко и шапку, погрел у голландки руки и начал урок.
"Мы не рабы. Рабы – не мы", – выводит он мелом на доске, сколоченной из трех тесин лиственницы и покрашенной черной красной.
– Прочитайте, что я написал.
И группа в десять голосов дружно читает:
– Мы не рабы.
– Правильно. Молодцы. Запишите это в свои тетрадки.
Черные и рыжие бороды начали усердно мести по столу, бабы сбросили с упревших плеч теплые кашимировые платки и шали. Посапывая и причмокивая, они долго и неуклюже выводят огрубевшими в работе руками близкие и понятные душе слова. Саша заглядывает в тетрадки, на шаткие буквы, неустойчивые кривые строчки, радуется: пишут. Сколько терпеливых усилий затратил он на то, чтобы научить их держать в непослушных руках тонкую ученическую ручку и не ляпать в тетради жирные кляксы.
– Паря, как ее удержишь? – удивлялся Иннокентий Дымов, – жердь ловко держать, бастрык, вилы, грабли ловко, а тут – экая тонкая, попробуй, удержи. Право.
Все весело смеются.
– А кляксы зачем в тетради ляпаете? – строго спрашивает Саша.
– А как ее удержиць? – во весь рот смеется краснощекая молодая баба и на щеках ее от смеха поигрывают приятные ямочки, – она ровно сопля из носа так и капает.
– Ну, ты, Ксюша и сказанешь: сопля из носа. Не будь сопливой, – резонно замечает чернобородый молчаливый мужик, сельский кузнец Ипат с черными от огненной работы руками и припаленными густыми бровями.
Опять веселый смех.
– Вот выучимся все, грамотеи станем, уйдем в писаря да канцеляристы, кто землю пахать станет? – смеется Дымов густым басовитым смехом.
–Ученье – свет, – серьезно говорит Саша. Грамотный образованный крестьянин будет лучше обрабатывать землю и получать с нее больше, чем получает темный, неграмотный. Книжки будете по агрономии читать, умнее хозяйничать.
– Этто все верно, – соглашается с учителем кузнец Ипат, – я буду всякую механику в ученых книжках вычитывать. Ученье – этто здорово.
– Уче-най-й, – хихикнула Ксюшка Козулина, – молотом-то по наковальне бахать можно и темному.
– Э, не, Ксюша, выучусь, стану всякие приспособленья изобретать, к примеру, машину такую изладю, что сама горох лущить станет.
– Надо жа…
Саша Селезнев занимается с ними с самой осени, уже полгода, и никто из них за все это время не сделал ни одного прогула, настолько велика была страсть научиться читать и писать. Усталые после трудового дня, они приходили в горницу разбитной и круглолицей вдовушки Дарьи и трудились до седьмого пота над букварем, слушали рассказы своего маленького учителя про другие дальние страны, про революцию, Ленина и жизнь. А теперь вот уже держат ручки и пишут. на лбах выступает пот, дыхание саднящее, словно воз в гору везут. Но пишут, пишут. "Какой малый, – удивлялись они, а сколь много всего знает, всамделишний учитель…"
А за окнами по недоброму воет метель, тугой напористый ветер бьет в бревенчатые стены старого дома, пронзительно, на разные голоса воет в трубе. Неторопливые ходики в простенке показывают красной стрелкой на девять. Румянощекая хозяйка, скрестив руки на высокой груди, позёвывает, поглядывая на горы подушек на деревянной кровати, но Саша неумолим.
– Теперь почитаем. Иннокентий Дымов.
Высокий, смахивающий на молодого сибирского медведя парень, почесывая затылок и позёвывая, берет книгу, начинает выводить по складам:
– Бу-ря мглою небо кроет…
Трудно, с остановками, передышками Иннокентий дочитывает стихотворение до конца. Тяжело вздохнув и широко, довольно улыбаясь, протягивает книгу Саше.
– Уф, взопрел.
Потом читали все по очереди. Громко, со сморканьем и кашлем, с надсадным дыханием, с отхекиванием.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То как зверь она завоет,
Т0 заплачет как дитя.
Радостно удивлялись, сами не веря тому, что уже умеют читать то, что маленькими буквочками прописано в книжке.
–До чего, паря, складно про метелицы наши буквы бают. Шибко баско.
Больше всех и по-детски наивнее всех удивлялся лучший Сашин ученик Иннокентий Дымов. Взяв книжку в руки и тыча толстым пальцем в строчки, он с восторгом рокотал густым басом.
– Дивно. Ползают по бумаге тараканы, а начни их до купы сгонять, и наша сибирская пурга получается: то как зверь она завоет, то заплачет как дитя. Чуете – плачет как дитя малое. Дивно. Жаль, что про хиуз ничего не прописано. Было бы еще складнее.
– Александр Сергеевич писал эти стихи о псковской метелице, – поясняет
Саша, а там хиуза нет, потому и не прописано.
– Вон оно што, – удивлялся Дымов, – про Псков. Да, отселева далеко… Ну и учитель, чудеса ты с нами сотворил.
– Чудеса, да и только, – удивлялась румянощекая Анисья, вытирая пот со лба, – учителками скоро станем, как твоя мать. Право.
Когда стихотворение прочитали все по очереди, Саша дал домашнее задание – переписать стихотворение в свои тетради и выучить его наизусть.
Расходились в одиннадцатом часу. По-прежнему с присвистом и гиком плясала метель. Густо сыпало сверху из невидимого осевшего небе. Село утонуло в холодной белой замяти, словно вымерло все, ни огонька, ни собачьего лая, только старый тополь у крыльца монопольки, что была напротив дома Дарьи, под ударами ветра стеклянно позванивал обледенелыми ветвями да хрустко шебаршал, перекатываясь волнами по железной крыше, колючий снег и где-то далеко в степи протяжно и жутко выли волки. На крыльце в ухо Саши горячо задышал Иннокентий Дымов.
– Слышь, учитель, провожу я тебя. Епифан Мизгирь бахвалился намедни прилюдно, мол, подкараулю змееныша и кокну. Спирька наказывал передать тебе, чтобы остерегался, не ходил один по ночам.
– Чепуха, – огрызнулся Саша.
– Много хлебушка-то из ям нынче у него забрали?
– Много. Пять подвод.
– Ой, пять подвод! Пошто ты так смело? И пилешь в газету про кулаков.
– Не боюсь я их. Папка мой не боялся, и я не боюсь. Писал и писать буду. И не будет кулакам пощады.
– Кулак-то в селе один всего – Мизгирь. Ну, Скоробогатов, может. Он и лавку раньше держал. Они – враги. А остальные-то – мужики, землепашпы, однолошадники.
– Я про кулаков говорю, а не про однолошадников. Папка научил меня отличать кулака от мужика-трудяги.
– Папка, папка. Папка твой был большой и сильный. Правильный был человек. С наганом в кармане ходил и то убили. А ты мал еще. куда тебе супротив них.
– Хе, мал. А разве я один? Ведь вот и ты со мной. лет, не боюсь я их. Кулаков бояться – позор для пионера-ленинца.
– Но, но, ершись, только помня, не забудут они тебе этого. Пять подвод! Мыслимо ли! Лют он, Епифан-то Зозулин, ох, лют. Ни перед чем не остановится. И Панкрат Скоробогатов лют. И Федор Козулин. Волки они. Слышь, как они воют. Попадись – в клочья порвут. Ты опасайся. Давай, паря, провожу тебя. Мамке на руки сдам, мамку твою повидаю. Люба моему сердцу твоя мамка, соскучился уже, давненько не виделись.
– Что, влюбился в мою мамку? – рассмеялся Саша.
– Да как сказать, учитель, навроде этого. А Мизгирь против меня жидок, ежели повстречаемся – бить будет люто. За тебя да за мамку твою я и жизни не пожалею. Право.
– Вам же не по пути.
– Околесину ради учителя сделаю. Душа будет спокойна, спать буду крепко, тебя во сне увижу и маму твою, а так не усну, тревожиться стану. Мамка-то твоя здорова ли?
– Здорова.
– Хорошая у тебя мама, учитель, необыкновенная. Другой такой, наверное, и во всем мире нету. Давай провожу тебя до дому, на мамку твою нагляжусь.
– А что она, мамка-то моя разве картина?
– Лучше картины. На картинах – там все бесплотные, неживые, а она живая.
– Ладно, пошли.
Шли тихо. Часто останавливались, всматривались в живой текучий мрак. Несловоохотливый Дымов молчал. Саша думал: " И чего она все пугают. И Мама, и Дымов? Я же ленинец и не должен ничего бояться. И не буду бояться. Или вон Спирька Зозулин. Кулапкий сын, а не побоялся отца, пришел и рассказал, где спрятан хлеб. Вот молодец. Понимает, что с отцом ему не по дороге, а по дороге с комсомольцами и новой жизнью. А то, что он сын богатея и мироеда, он не виноват…"
Миновали речку. Глубокую тропинку между берегами задуло, сравняло. Идти было трудно, убродно. На крутой берег карабкались по колено в снегу. Выбрались. Почуяли под ногами скользкую твердость обдутой ветрами обледенелой тропы. Кособокая избушка была уже рядом. Осталось обогнуть угловой амбар, нависший над обрывом на отшибе от других построек, выйти на улицу и свет из маминого окошка в глаза брызнет.
– Ну вот, я и дома, напрасно только тревожились, – проговорил Саша, протягивая Дымову обледенелую варежку, – спасибо вам за беспокойство.
– Давай, учитель, до самого дома провожу, мамке тебя сдам.
–Не надо, Дымов, тут я и сам доберусь, – Саша, все понимая, рассмеялся. – Мамка-то уже спит и как на картину на нее уже не наглядишься. Да и поздно уже, пока добредешь до дома – петухи запоют.
– Какой ты, право, упрямый, несговорчивый. Ну, тогда до свидания, маленький учитель. То как зверь она заплачет… дивно.
– Завоет.
– Верно. Завоет, то заплачет как дитя. Эх, ма, покедова.
– До завтра, Дымов. Не забудь выучить это стихотворение на память. Завтра буду спрашивать.
– Выучим. Уж теперь-то выучим. Читать умеем.
Дымов, разгребая ногами снег, покатился вниз, а Саша побежал бегом к огоньку в мамином окне. Знает, что мама не спит, ждет, вслушивается, подходит к замерзшему окну, из сеней выглядывает. И так каждый вечер.
– Бегу, мам, бегу, – шептал под нос Саша, – а ты все беспокоишься. Вот он я.
И вдруг почудились ему за амбаром, стоявшим на отшибе, шорохи, снег захрустел под тяжелыми шагами. Оглянулся в ту сторону, увидел, как из-за амбара метнулась черная тень. Не успел рта разинуть, закричать маме и Дымову, как что-то тяжелое упало на голову, из глаз брызнули огненные искры.
– Мам-м-м!..
Вскинул голову и увидел, как вправо падает луна, ниже, ниже и упала, погасла. Вцепился руками в ледяную тропку и ее удержать не смог, потекла тропка из-под него и оборвалась словно ниточка.
Увидел эту черную тень, метнувшуюся от амбара и Иннокентий Дымов. Услышав скрип снега, он почувствовал что-то неладное, не пошел домой, а остановился и провожал глазами учителя, и как только от одинокого амбара кто-то кинулся наперерез мальчишке, Дымов бросился вдогонку, одним сильным ударом кулака сбил с ног нападавшего, вырвал у него из рук курок от ходка, заглянул в лицо. Епифан Мизгирь. Пьяный. Еле-еле на ногах держится.
– С детишками воюешь, гад?
– Кешка! Не мешай! Убью!
– Бей, ежели силы хватит.
Епифан тоже был мужик сильный, в самой поре. Оправившись от удара, он вскочил и кинулся на Дымова с кулаками.
– Кешка! Христом богом прошу – не мешай! Дай рассчитаться со змеенышем…
– Ha!
И нанес ему такой злой удар, что Епифан долго ползал на четвереньках и кружился волчком, харкая кровью.
– Бить… Епифана Зозулина бить…
– Сам выпросил. Вставай-ка.
Иннокентий поднял его за воротник дубленого полушубка и швырнул как котенка с обрыва вниз, в намёты. От Зозулина он бросился к Саше.
– Опосля, Мизгирь, поговорим. Зараз недосуг.
– Погоди, Кешка, погоди…
– Погодим…
Его маленький учитель лежал навзничь на тропинке и был без сознания. Один валенок слетели нога в чулке была неловко подогнута под живот. Иннокентий охватил парнишку в беремя, распахнул пальтишко, приложил ухо к сердцу.
– Дышет. Живой.
Прижал к себе. Бегом понес домой. На крыльце металась перепуганная, бледная как росток картофелины, вынятой по весне из голбца, в ситцевом платьице, голоухая Елена Николаевна.
– Сашенька, сыночек, чувствовало мое сердце…
– Не пужайтесь, Елена Николаевна, живой он. не успел Епифан убить. Я помешал. Либо шапка заячья выручила, а скорей всего ударил он вскользь, не шибко, пьяный он, еле на ногах держался. Не погодись я, убил бы парнишку. Вот каким железным дрючком собрался с парнишкой воевать.
Он положил на стол увесистый курок от ходка.
– Ведь если бы он ударил ловко, то сразу размозжал бы всю голову. Теперь ничего, отямится. Раздеть его надо и в постель уложить. И мое сердце, Елена Николаевна, вещевало чтой-то весь вечер, беду предсказывало. Спирька упреждал, чтобы поберегся Саша, не ходил один, отец, мол, грозился рассчитаться с гаденышем. Поперек горла он у них застрял, Елена Николаевна, шутка ли в деле, пять подвод пшеницы нынче выгребли из ям у Мизгиря, да рази он простит за это, Мизгирь-то? Да он за свой кровный хлебушко глотку любому порвет. Провожу, думаю, парнишку, как бы беды не стряслось…
– Ой, спасибо вам, Иннокентий, не знаю, как вас по батюшке, великое спасибо, спаситель вы наш, заступник вы наш. Боже мой! На ребенка с таким страшным орудием! Звери они лютые…
– А и его, Епифана, тоже понять можно. Шибко уж прижала его советская власть, с белого свету сживает, грабят средь бела дня, каждый день наганом в нос тыкают. Будешь лют…
– Вы, Иннокентий, вроде бы и оправдываете Зозулина, – укоризненно взглянула на него Елена Николаевна.
– Оправдывать не оправдываю, но и сынок ваш, а мой любимый учитель не в свое дело суется. Мал он еще. Глуп. А борьба идет не на жизнь, а на смерть. И грабить людей средь бела дня тоже никто никому права не давал. Не праведно это, не по-людски и не по-божески. Да раньше бы за такие дела двадцать лет каторги за милую душу пожаловали и гремя кандалами по Сибирскому тракту на Сахалин. Ладно, с Епифаном я еще потолкую, а теперь надо мальца спасать. Ах ты, разбойничек несмышленый, ядрена корень, навоевался…
Елена Николаевна трясущимися руками сняла с сына одежду, и они вдвоем уложили его в постель за перегородкой. По белой простыне быстро потекли ярко-алые струйки.
– Фельдшера бы, Кеша.
– Чистую тряпицу какую-нибудь найдите. И ножницы дайте. Сами забинтуем. Ёд есть?
– Был где-то пузырек йода.
– Давайте скорее ножницы, ёд и тряпицу. Нельзя мне отлучаться. Пьяный Епифан может и сюда вломиться, дикой он теперя, ему и море поколено, а лука по уши. Ни перед чем не остановится.
– Верно, верно, Кеша. Спасибо вам. Не покидайте нас.
Иннокентий с помощью Елены Николаевны тщательно выстриг волосы в том месте, где текла кровь, залил рану йодом и забинтовал чистой белой тряпицей, оторванной от простыни.
– Присядьте, милая, и успокойтесь, все образуется, – ласково сказал Иннокентий, с любовью заглядывая в большие, притуманенные страхом глаза Алены Николаевны, выложит он, уж теперя выдюжит. Ну, а с Мизгирем я расквитаюсь по-своему, он мне за это дорого заплатит…
Елена Николаевна благодарными глазами посмотрела на Иннокентия, в душе ее шевельнулось давнее полузабытое чувство нежного порыва к мужчине, к молодому, красивому и сильному человеку, спасшему жизнь ее сыну, но она только вымученно улыбнулась и снова ушла в себя.
До утра в маленькой горнице горел свет. До утра никто не сомкнул глаз. Иннокентий при каждом подозрительном шорохе прислушивался. Он ждал Мизгиря и готов был грудью заслонить мальчишку и его мать. Сегодня он с особой силой и ясностью понял, как они ему дороги. Он сидел, вздыхая у кровати, у самого изголовья, хмурился и молчал, только время от времени дотрагивался широченной ладонью до пылающего лба своего учителя, изредка метая короткие взгляды на сидевшую рядом молодую женщину, казавшуюся ему необыкновенной и притягательно красивой. Елена Николаевна сидела в ногах, тоже вздыхала, качала головой и думала о том, как много пролито людской крови в схватках за новую жизнь, за счастье родного народа, и что к Степиной крови добавилась сегодня горячая кровь ее сына, еще совсем-совсем ребенка. Подумала она и о том, что не зря так гордо носит ее сынишка красный галстук и зовет себя юным ленинцем. Отныне в алости этого галстука есть и его капли крови.
"Неужели все это забудется и память об этом заметет время, как легко и быстро заметает лютая февральская метелица человеческие шаги? Нет, нет думала Елена Николаевна, – новые поколения будут помнить это, вечно будут преклоняться перед мужеством, стойкостью и непоколебимой верой в торжество своего дела тех, кто делал первые шаги, торил первую стежку к большой дороге в светлое будущее путем, указанным людям Лениным…"
И ей показалось, что Ильич с портрета мудро улыбнулся ей и ходики на стенке утвердительно отстукали:
– Так!
– Так!
И думая так этой тревожной бессонной ночью, сидя в ногах у забывшегося в беспамятстве сына, Елена Николаевна не могла даже допустить дикой, абсурдной мысли о том, что где-то там, на самом верху, в кремлевском кабинете, уже совершилось великое и подлое предательство русского народа, что никакой великой революции не было, а был вероломный переворот шайки отщепенцев и авантюристов с нерусскими фамилиями, что все это была гнусная и циничная ложь, что в Кремле прочно и надолго утвердился дикий и грубый человек, который своими страшными злодеяниями против людей затмит всех иродов и чингисханов, что иной свирепый хиуз скоро-скоро раздуется по всей ее родной стране с такой бешеной силой, с такой всесокрушающей демонической яростью, что все-все полетит в тар-тарары, что жизни ее, Кеши Дымова и Саши тесно переплетутся, а переплевшись, сделают такой сногсшибательный крен, от которого не опомниться будет им до конца своей жизни. Скоро-скоро бедная Елена Николаевна прозреет. Жизнь заставит прозреть, и будет потрясена, раздавлена, парализована страшной правдой, вдруг открывшейся ей: все они, и ее любимый муж, и она, и этот глупый мальчик, метавшийся в бреду, были безжалостно, жестоко и коварно обмануты, уверовав в ложь. все, все – ложь. Еще никогда за всю историю человечества смерть человека, смерть пятнадцати миллионов русских людей, не была ложью. И стала ложью. Ее любимый муж свято верил в правоту своего дела и отдал за торжество этого дела свою молодую жизнь. И смерть его стала циничной ложью. И глупый ребенок, уверовав в ложь, чуть не погиб. И его смерть была тоже ложью. Скоро-скоро Елена Николаевна прозреет. А пока с простенка заглядывал словно в щелку в ее маленькую горенку с хитроватой ухмылкой Ильич и ее обманутый сын, веривший ему как богу, стонал и бредил.