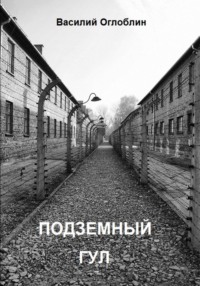Полная версия
Чаруса (роман)
Парасковья Леонтьевна утерла уголком платка слезы, икнула в последний раз и тихо сказала.
– Ну, бог вас благослови. А когда думаешь свадьбу справлять?
Иннокентий ухмыльнулся.
– Невеста еще своего последнего слова не сказала. Если будет согласна, то хоть завтра же…
После ухода Дымова, когда Елена Николаевна укладывалась спать, возбужденная и очень расстроенная состоявшимся разговором, проснулся Саша, спросил.
– Мам, а Дымов где?
– Дымов, Сашенька, ушел. Уже не рано.
– Жалко. Не поговорил я с ним, уснул как-то нечаянно.
– О чем же ты хотел говорить с ним?
– Об учебе. В моих учениках.
– Саша, – осторожно начала Елена Николаевна, – ты у меня уже большой, все понимаешь. Любишь ты Кешу Дымова?
– Люблю. И сильно.
– А не хотел бы ты, чтобы он стал твоим папкой?
Саша нахмурился, посмотрел на мать вопросительно, в глазах мелькнуло изумление.
–Папка у меня один. И он убит. Второго папки у меня никогда не будет. Никогда.
– Извини, Саша, я не так сказала. Да, папка у тебя один и другого не будет. А не хотел бы ты, чтобы Дымов стал твоим отчимом?
Саша долго молчал. Выражения его лица, его глаз Елена Николаевна не видела, они разговаривали в темноте, и мучительно ждала, что ответит сын. Знала, что затронула самую больную ранку его сердца, и затаив дыхание, ждала ответа, твердо решив про себя: как скажет сын – так и будет.
– А это обязательно, чтобы Дымов был не только моим любимым учеником, но и отчимом?
– Нет. Сашенька, конечно не обязательно. Совсем не обязательно. Но ты понимаешь, папку не вернуть, а я еще молода и лучшие годы бесследно уходят в одиночестве и печали. А верный друг в жизни – крепкая защита, кто нашел его, тот нашел сокровище. Беспросветная печаль вредит сердцу человека и быстро старит его. Ты меня понимаешь?
– Понимаю, мама.
– Дымов признался мне сегодня в своей любви и просил стать его женой.
– Х-м-м, – усмехнулся Саша, – Дымов мой отчим. Как-то мне, мам, трудно представить себя в этой роли. Мой ученик – другое дело.
– Мы тогда будем его дома учить, ты и я.
– А ты его любишь? – вдруг быстро спросил Саша.
– После твоего папки, сынок, полюбить я уже никогда не смогу. Это невозможно. Но Дымова я уважаю. Он добрый и славный, он будет любить и беречь нас. Нам с ним будет легче жить. Радостнее.
– Когда придет Дымов?
– Обещался завтра навестить тебя.
– Да не меня, наверное, а тебя, мама, рассмеялся Саша, – он и раньше мне всегда говорил: "Какая хорошая у тебя мама".
– Не знаю, сынок, мы ведь очень редко и мимолетно встречались с ним на улице, в магазине, а вот поди ж ты, успел парень влюбиться. И, судя по всему, очень серьезно. Любовь – явление необъяснимое.
– Ладно, мам, женитесь, если он тебя любит. мне жалко Дымова. Только тогда ведь придется перебираться нам в его большой дом, а мне так жалко расставаться с нашей избушкой, где все так напоминает о папе.
И мне жалко расставаться с нашей убогой, но светлой горенкой. Но что поделаешь? Привыкнем. А теперь спи, моя умница, все-то ты у меня понимаешь и душа у тебя добрая. Хороший из тебя человек вырастет. Спи, мое солнышко…
Елена Николаевна умолкла. Но сна не было. Она лежала на спине, вперив взгляд в темный потолок, прислушивалась к свисту ветра за стеной и думала, думала.
Очень сложна, многообразна и противоречива жизнь человеческая. Еще совсем недавно она и мысли не допускала о том, что может прийти человек и оттеснить в ее дуле верность прошлому, светлую и горькую память о нем. И сейчас ловила себя на мысли, что думает она о молодом красивом Кеше Дымове, слышит его густой раскатистый бас, видит его льняные густые кудри и ее истосковавшееся по мужской ласке и нежности сердце, доверчиво тянется к нему, кажется, уже родному и близкому. И засыпая, она впервые за четыре года подумала о том, что еще молода, полна неистраченной нежности, что она еще может быть счастливой.
А когда к полдню, пригретые мартовским солнцем, стали заметно подмокать зимники, а придорожья наметенных за зиму сугробов, заметно потемнели и осунулись, снег на полях стал зернистым и похожим на подмоченную соль и белые кучерявые облака последнего снежка-редкосеянца поплыли в голубеющем небе с заката на восток лохматыми подпаленными с боков малахаями Елена Николаевна и Иннокентий Дымов пошли регистрироваться в сельсовет. Еще накануне Дымов запряг в сани буланого, перевез в свой дом все небогатые пожитки Елены Николаевны, кособокую избенку на задворках Зозулина закрыли на замок, на окна прибили по кресту из горбылей, ключи несли сейчас в сельсовет. Пока регистрировались, вездесущий Савоська юлой крутился вокруг молодоженов.
– Иннокентий Мокеевич, на свадебку бы пригласили сиротину Савоську, выпил бы за ваше счастье и "горько!" кричал бы громче всех.
– Свадьбы, Савоська, не будет, – обрубил его Дымов. Вот зарегистрировались, и вся свадьба тут.
– Етто, Иннокентий Мокеевич, на по-людски. Надобно свадебку отгрохать.
– Выпить на дурняка захотелось? На вот тебе рубль и сходи в кабак, выпей за наше здоровье.
– Благодарствую. А кому ж "горько!" кричать?
– Выпьешь горькой и станет тебе горько.
– Тоды счастливенько вам.
И зажав в горсти рубль, побежал в кабак.
Свадьбы ко всеобщему изумлению односельчан действительно не было. На этом настояла Елена Николаевна, ведь свадьба-то у девушки бывает один раз в жизни. Иннокентий не перечил, он был счастлив тем, что его любовь, его давняя тайная мечта ходит грациозной походкой в его горницах и хлопочет в кути.
Сколько ни ходили любопытные подгорновцы мимо дома, сколько ни прислушивались не слышно было ни гомона, ни песен, ни разудалых сибирских плясок, ни повизгивания гармони. В доме было тихо как в голбце.
Молодые Саша и Парасковья Леонтьевна сидели за столом и мирно пили чай. У самовара хозяйничала молодая хозяйка. Парасковья Леонтьевна, недовольно поджав губы, ревниво следила за быстрыми и ловкими движениями белых красивых рук снохи, наливающих чай и раздающих чашки, и только тихо, незаметно вздыхала. Дымов светился счастьем. Саша был молчалив и не по-детски мрачен. Какой-то надоедливый червячок точил его сердце, он считал себя в чем-то виноватым перед отцом, словно он предал его и весь этот вечер мысленно был далеко-далеко отсюда, от этого стола и чая, от этих тихих разговоров, в прошлом, недавнем и таком далеком, вместе с веселым и жизнерадостным отцом, и словно просил у него прощения и за этот тихий вечер пролетья, за этот чай и за то, что его мать сидит рядом с веселым и ласковым Дымовым, его учеником, и что они теперь не просто пьют чай в гостях, а муж и жена. А он, папа, отдавший всем этим людям свою молодую жизнь, гниет в земле.
Елене Николаевне казалось, что счастье и мир навсегда поселились в этом старом доме, будущее рисовалось ей безоблачным и радужным. Но не зря же изрек мудрец: не хвались завтрашним днем, потому, что не знаешь, что родит тот день.
А большая всенародная беда стояла уже у порога. Где-то в кабинетах древнего Кремля, помнившего шаги русских царей и знати, уже был разработан и подписан великим вождем народов чудовищный план истребления русского мужика-землепашца.
Глава
VIII
В последнюю неделю марта в природе враз что-то взъярилось. Ласково и щедро стало припекать округлившееся солнце. Снега поплыли. По лощинам весело запели, пузырясь и пенясь, ранние ручьи. Все вокруг оживало от долгой зимней спячки. Подгорновчане, весело поглядывая на буйное разловодье, поджидали вестников весны – скворцов.
Но поворот солнца на весну был кратковременным и обманчивым. В ночь на первое апреля на Подгорное вновь обрушился с невиданной свирепой силой хиуз. Наплыли нивесть откуда черно-свинцовые тучи, посыпал обильно снег, засвистела, загуляла по притихшим заулкам дикая пурга. Село за одни сутки вновь как в феврале замело по крыши снегом, сравняло глубокие не успевшие растаять зимники. Ни проехать, ни пройти. Мело и завихривало целую неделю.
Дул свирепый хиуз и в людских душах. Пасмурно было и подувало сквозняками и в доме Дымова. Два новых, непонятных, но пугающих слова не сходили в эти апрельские дни тридцатого года с уст подгорновцев: колхоз и раскулачивание. Что скрывалось за ними – было никому неведомо, только все чувствовали крестьянским нутром, что таилось в этих словах что-то страшное: рушился весь извечный общинный жизненный уклад и родная земелюшка, обильно политая потом многих крестьянских поколений, уходила, ускользала из-под ног. Кто был посмекалистее да посмелее не стали ждать пока надвигающиеся тучи разрешатся уничтожительным градом, а заколачивали тесинами окна, собирали в узлы скарб и ночами, тайком покидали насиженные места, родное село, родную землю, родные могилы своих отцов, дедов и прадедов и пускались в неведомые дали искать в жизни притулок, пропитание и крышу над головой, помня мудрые слова предков о том, что всякий трудящийся человек достоин пропитания.
В сборне почти ежедневно собирались сходки. Пошли на сходку и Дымов с Еленой Николаевной, впервые после свадьбы вышедшие на люди. Сборня гудела как растревоженный осиный рой. При виде учительницы с дымовым люди притихли, бабы и девки зашушукались. Иннокентий, оглядев прокуренный зал сборни, увидел впереди свободные места и взяв за руку Елену Николаевну, протиснулся к ним и сел, снял шапку, расчесал пятерней густые кудри и напружинился, приготовился слушать ораторов.
Собрание открыл громкоголосый преемник Селезнева секретарь партячейки Осип Кисляков, тот самый мужик в буденновке, который произносил над его могилой речь о вечной памяти и мировой революции. Он долго и туманно говорил о братстве и свободе людей, о мировой контре, доказывал притихшим мужикам и бабам, что дорога в светлое будущее открыта и надо идти по ней с красными знаменами сообща в коммунизм. Мужики чесали затылки и угрюмо молчали. В заключение Осип сообщил, что по указанию высших властей в селе Подгорное организуется колхоз и начинается раскулачивание, уничтожение кулака-мироеда как класса.
– А что оно такое этот самый колхоз, объясни пожалуйста, выкрикнул кто-то из задних рядов.
Кисляков, не успевший еще вытереть пот со лба, опять поднялся и пояснил коротко.
– Колхоз, граждане-товарици, это когда все мы будем жить соопща и робить на земле соопща. Вроде как одна семья. Понятно, конешно.
Задала вопрос и Елена Николаевна.
– Товарищ Кисляков, а почему в трудах Владимира Ильича Ленина я не нашла ничего о колхозах и раскулачивании? НЭП – это понятно. А про колхозы ни слова.
Осип насупился, долго откашливался и ответил как-то виновато:
– И я, товарищ Дымова, – он сделал ударение на слове Дымова, – тоже не нашел, но есть указание высших властей, и мы обязаны выполнять. Так я понимаю.
Народ загалдел.
– А я вот ничего не понимаю, – ударил как маленьким молотком по наковальне кузнец Ипат Дремов, – как это соопща? Все село ко мне в кузницу сбежится меха раздувать? Аль как?
Зал взорвался от хохота.
Сидевший в углу Савоська пояснял прислушивающимся к его хриплому голосу мужикам и бабам.
– Земля с нонешнего дня у всех отнимается, никаких, значитца, наделов подушных, вся земля перейдет в колхоз. Пахать, сеять и косить будем соопща, всех коров, лошадей, телок и поросят сгоним в один двор, до купы знатца, ну, к примеру на усадьбу Мизгиря.
– А куда же Спирьку с Марьей?
– А, то статья другая. То будет раскулачивание. И Спирьку с Марьей кулака и мироеда Епифана Зозулина выселют.
как семью
– Как это выселют? Куда?
– Знамо, куда, на Соловки.
– Так, так. Понятно со Спирькой. Ну, а дале.
– А дале будет так: исть станем все из опщего котла, бабы и девки будут опщие, каку, знатца, кто захотел, або пожелал – бери. А кулаков на Соловки. Так мне пояснял большой начальник из Черемухова, а я вам, дуракам, соопщаю.
– Граждане! Товарищи! Потише! Прошу высказываться и записываться в колхоз. А как его назовем – опосля соопща подумаем, – пытливо всматриваясь в притихший зал сборни, призвал односельчан Осип.
Первым к трибуне, пылающей алым кумачом, протиснулся Савоська, дернул бороденку.
– Товарищ Кисляков, я как самый сознательный и беднеющий прощу слова для речи.
– Прошу, товарищ Севастьян Ерников.
Савоська, прежде чем встать за трибуну, поклонился низко всему миру, отчего в зале в разных местах захихикали.
– Гражданы, жду вниманию. Слово имеет товарищ Ерников, – постучал по столу карандашиком Осип.
Савоська опять щипнул охвостень своей бороденки и начал торжественно и громко.
– Гражданы-сожители села Подгорнова, так как мировой имперьялизм и контра ишо не изничтожены, а моя стерва Фекла, все вы, гражданы, знаете, про ето, убегла с хвокусником и по той причине печь у меня завсегда не топлена и по углам, замерзши, дохнут мыши, то я, товариши-сокители, первым подаю голос своего полного согласия с указанием высших властей и прощу записать меня в колхоз под номером один, как я все законы произошел и хочу жить соопща. Все, гражданы.
И пошел под гулкий хохот с трибуны.
– Постой, постой, не уходи. Вопрос есть. А што ты из своего хозяйства внесешь в колхоз? Какое, значит, добро?
Савоська оторопел. Но быстро нашелся.
– В колхоз я вношу, не жалеючи нисколь свою избу. Пусть переезжает в нее учителка, али кто иной, я и в сельсовете перебьюсь.
За Савоськой выступили и записались в колхоз еще десятка два мужиков – голи перекатной, безлошадников и бескоровников с полными избами ребятишек мал-мала меньше. Мужики покрепче и побогаче, словно сговорившись, встали, натянули шапки и ушли. Кисляков заглянул в список записавшихся. Процент небольшой уже есть. Рапортовать можно. Да вот беда, сгонять "до купы" было нечего, ни у кого кроме кошек и собак в хозяйстве не было никакой живности. Надежда оставалась только на раскулачивание. Подходила пора сеять, а в новоиспеченном колхозе не было ни плуга, ни бороны, ни единой лошади. "Ничо, завтра начнем решительно действовать согласно указанию властей", – подумал Кисляков бодро, – и закрыл собрание.
На следующий день над селом навис душераздирающий вой, визги, вопли и стоны, словно хоронили пол-села. Начался согласно инструкции разбой среди бела дня. Милиционер Генка, секретарь партячейки Кисляков, председатель сельсовета Кривошеев и записавшаяся накануне в колхоз сельская беднота, отпетые пьяницы и прощелыги раскулачивали. Генка и Кисляков махали перед носом хозяев наганами, а голытьба во главе с Савоськой тянула все, что попадало под руку. Выводили из конюшен лошадей и коров, ловили гусей и уток, гнали хворостинами упирающихся и хрюкающих свиней, тянули плуги, бороны, лобогрейки, хомуты, перины, подушки и сундуки с добром. Савоська натянул на себя новую бекешу Скоробогатова и новые сапоги и ходил боярином, покрикивая.
– В голбцах и погребах пошарьте!
– Ванька, а ну пособирай все яйца в гнездах, яишню колхозную изладим.
– У Козулина завсегда самогонка не переводится, поищите в голбце по заугольям…
Подводы с обобранными до нитки раскулаченными потянулись под охраной милиции в район. Первыми увезли Спирьку Зозулина с матерью, семьи Федора Козулина, Панкрата Скоробогатова, кузнеца Ипата и многих хозяйственных и зажиточных подгорновчан.
Ярко светило весеннее солнце. На прогретых пригорках брызнули в рост зеленя, пустил стрелки гусиный лук, зацвела по берегам Черемушки лещина, в воздухе остро запахло молодым, только что распустившимся тополиным листом, первым текучим маревом задымились за околицей поля. На околице, у гамазеев, Федор Козулин, не обращая внимания на угрозы милиционера, соскочил с подводы, упал на колени и низко уронив седую голову, трижды поцеловал теплую и еще сыроватую родную землю.
– Прощай, кормилица. Видит Бог, не по своей воле бросаю тебя, родимую на разор и погибель. Прощай, матушка.
И вытирая кулаком слезы, прикрикнул на возницу:
– Погоняй, леший! Только попомните слова апостола Павла: "Тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя!". Праздники ваши обратятся в скорбь, и все увеселения ваши в плач. Отольются кошке мышкины слезы…
Крутоярка, Заречье и Могилевка пустели. Словно страшный мор прошел смерчом по улицам богатого сибирского села.
В списки к раскулачиванию было включено двести пятьдесят три семьи. Среди них был и Иннокентий Дымов. Пасмурно и неуютно было в эти дни в его старом доме. Не покидало предчувствие беды. И она пришла.
Восьмого апреля Дымова и Елену Николаевну Савоська вызвал в сельсовет. Евстигней Кривошеев и Осип Кисляков встретили их официально, холодновато. Кисляков сидел за столом председателя, Кривошеев стоял у окна, дымил самокруткой. Над головой у Кислякова висел в простенке большой портрет Сталина в самодельной некрашенной раме. Сталин был с трубкой в руке и казалось, что дым коромыслом идет под потолок не от Кривошеевской самокрутки, а из трубки вождя народов.
– Присаживайтесь, граждане, – предложил Кисляков, не смея взглянуть в глаза Елене Николаевне, – присаживайтесь. Разговор у нас с вами будет неприятный, но мы при власти и обязаны…
Он откашлялся и рассматривая сапоги Дымова, продолжал.
– Елена Николаевна, к вам, как к жене бывшего секретаря партячейки, нашего незабвенного Степана Селезнева, павшего за революционное дело на боевом, так сказать, посту, у нас никаких претензий нет. Мы пригласили вас на вроде как свидетеля. Разговор у нас пойдет с Дымовым. Вот так, гражданин Дымов, по спискам, утвержденным в районе высшей властью вы подлежите раскулачиванию.
– Я? – изумился Дымов. Вы что с ума спятили? Белены объелись, товарищ Кисляков?
– Гражданин Кисляков.
– Ну пусть гражданин. Да какой же я кулак? Работников отродясь не держал, все, что у меня есть сделано вот этими руками и моим потом. Вот они, мои трудовые руки.
– Не знаю, не знаю. Списки утверждены в районе. Начальству виднее. А наше дело исполнять. Хозяйство у тебя крепкое, дом крестовый, обстройки, лошадь, две коровы, прочая живность.
– А вы хотели, чтобы я был такой как Савоська?
Кисляков не слушал.
– Одним словом, по всем статьям подлежишь. Дымов, раскулачиванию.
Елена Николаевна сидела бледная, губы у нее дрожали. В груди закипал гнев. Наконец она очнулась от оцепенения, вспыхнула.
– Эх, Осип, Осип, – вздохнула она глубоко, строго, прищуренным взглядом посмотрев прямо в глаза Кислякову. – Кто вас ослепил? Кто вас так жестоко обманул? Ведь это же дикий обман. И неужели ваше сердце, ваша душа, ваша совесть коммуниста, друга Степана не подсказывает вам, что вы творите зло, что вы губите родной народ? Что провозгласила Октябрьская революция и ее вождь Ленин, ради чего она свершалась? Землю – крестьянам – вот лозунг революции. За эту землю на полях гражданской войны пролиты моря крови. А вы не только отнимаете ее у мужика, но в шею гоните его с земли. Безумцы вы! Оболваненные кем-то безумцы! Ох, как вы обмануты, дурачки! Правду народ говорит, что нет худшего глухого, чем слепой. А вы и глухи, и слепы и в своих действиях преступно ошибаетесь. Дымов никакого отношения к кулакам не имеет, это честный и трудолюбивый крестьянин, умеющий и любящий работать на земле до седьмого пота.
Кисляков, не слушая ее, продолжал.
– Прошу все хозяйство сдать в колхоз, а вас приказано доставить под охраной в район, он остановил долгий взгляд на Елене Николаевне. – А вы, Елена Николаевна, учитывая заслуги вашего бывшего мужа, можете оставаться в селе и учительствовать. К вам у нас никаких претензий нет. Решайте сами.
– Но вы не ответили мне, на каких основаниях у вас Дымов оказался кулаком?
– С Дымовым решено. Речь идет о вас, Елена Николаевна. Вы можете оставаться. Мы вас не трогаем.
– Нет уж, – тихо, но гневно сказала Елена Николаевна, – куда иголка – туда и нитка. – Высылайте и меня и сына Степана Селезнева, положившего голову за советскую Власть, если совесть ваша вам это позволяет и разрешает делать это ваша партийная честь.
– Совесть тут ни при чем, – затягиваясь самокруткой, сказал Кривошеев, – мы при власти и обязаны выполнять указания высших партийных и советских властей. Идет классовая борьба.
– Классовая борьба? – воскликнула Елена Николаевна, – с кем? С мужиком? С хлебодаром, который кормит народ? Нет, это не классовая борьба, а насилие и разбой на большой дороге. Вы говорите о том, что куете счастье для человечества, светлое будущее. Но счастье человечества никогда не достигалось с помощью насилия над человеком. Степан никогда бы не допустил этого. Степан бы стоял за мужика горой. Он бы пострелял вас всех. А вы Епифана Зозулина зачислили в один разряд с дымовым. Опомнитесь! Что вы делаете? Вы же разоряете деревню. Вы обрекаете народ на голод.
– Значит, Степан Селезнев успел вовремя умереть. Будь он на нашем месте, делал бы то же самое.
– Никогда! – вскричала Елена Николаевна. – Это противоречит всему учению Ленина. Кстати, почему у вас в сельсовете нет портрета Владимира Ильича?
– Так приказано: повесить один портрет товарища Сталина.
– Ладно, Леночка, с ними спорить, что воду в ступе толочь. Когда прикажете собираться в ссылку? – трогая жеңу за рукав, мрачно спросил Дымов.
– Завтра придем, заберем то, что положено, и можешь собираться в дорогу.
– Можно идтить?
– Можете быть свободны. А вы, Елена Николаевна, хорошенько подумайте. Мы вас не неволим, там ведь, куда вас повезут вместе с кулачьем не мед и даже не кулага.
– Можешь, Леночка, оставаться, – грустно сказал Иннокентий, когда они спускались по крутым ступенькам поповского дома. – Я не обижусь. Из дому тебя не выгонят. Живи. В школе работай. А я с матерью поеду.
– Кеша, милый, да ты что с ума сошел, такие слова говоришь, да я за тобой на край света.
Кеша ласково и нежно улыбнулся жене.
– Спасибо, Леночка. Не пропадем. Любовь она завсегда спасает. Помнишь, про декабристок мне рассказывала? Вот и ты сама стала декабристкой. Святой русской женщиной. Только непонятно мне все это. Не понимаю, что происходит, да, верно, и не пойму никогда. Только душой чую, что неладно это. Х-м-м "рабы не мы, мы не рабы" учил Санек нас в школе. А выходит, что рабы мы были, рабы есть и рабами останемся…Эх, ма, ни за что, ни про что понужай на каторгу, вот она тебе, и советская власть…
На следующий день, чуть свет на подворье явилась ватага колхозников во главе с Осипом Кисляковым.
– Доброе утречко хозяину с хозяюшкой, притворно поздоровался с хозяевами Савоська.
– Делайте свое дело, – строго сказал Дымов.
Они стояли с Еленой Николаевной на крыльце и молча наблюдали за тем, что происходило во дворе старого дедовского дома, где прожили честную трудовую жизнь три поколения землепашцев. Вывели из конюшни Буланого. Он покосил на хозяина добрым фиолетовым глазом и тихонько заржал. Вывели коров Лысуху и Зорьку. Парасковья Леонтьевна кинулась к ним, обцеловала, обняв за шею, их морды, ушла в дом, захлебываясь слезами. Под командой Савоськи переловили всех кур и степенно вышедших из-за перегородки гусей. Савоська заглянул в баню, выволок оттуда тяжелую лохань, потянул было ее за собой, но бросил и сплюнул.
– А и тяжела, стерва…
– Тяни, тяни, Савоська, – засмеялся Дымов, – кедровая, вечная…
– Тяжела курва.
Когда обшарили все закоулки, вытянули бороны, плуги и сбрую, окружили Кислякова, заглядывая в рот.
– В дом не ходите, – сквозь зубы процедил Осип, – неспособно обирать бывшую жену Степы Селезнева, а где ее вещи, где Дымова – поди разбери.
Запрягли в ходок Буланого, уложили плуги, бороны, сбрую и выехали со двора.
– С богом, разбойнички, – мрачно сказал Дымов, хотел пойти закрыть ворота, но передумал. К чему их теперь закрывать?
А над землей разгулялись теплые апрельские ветры. На прогретых лужайках замелькали разноцветными лоскутками первые весенние бабочки-крапивницы. Апрель-соковичник дохнул над полями первыми струящимися потоками марева. Набрали свой невзрачный цвет лещина и черная ольха по берегам черемушки. Земля ждала пахаря, и сеятеля. и крестьянское сердце Иннокентия Дымова стиснуло такой болью, что стало трудно дышать и глаза застилало слезами.
Зашел в дом, Вещи были уже уложены в узлы и корзины. Саша сидел за столом, разглаживал рукой красный галстук, свернул его аккуратно и сунул в корзину.
– Сашенька, – тихо сказала Елена Николаевна, – там он тебе уже не пригодится.
– Так, на память. А куда мы поедем?
– Куда повезут, сынок.
Наскоро перекусив чем попало, они сходили всей семьей на погост, поклонились родным могилам, посидели возле каждой на молодой зеленой травке, женщины наплакались до икоты. Саша посидел около отцовской могилы по-взрослому задумчивый и угрюмый.
И приготовились в неведомый и дальний путь.
Глава
IX
Ехали неведомо куда уже больше месяца с частыми остановками, стояли иногда по неделе. Куда едут и почему стоят никто не знал. На каком-то полустанке безлюдном и диком, в глухом, заросшем лопухами и крапивой тупике, проходя вдоль эшелона, начальник конвоя хрипло и лениво бросал высыпавшим из вагона ссыльным.