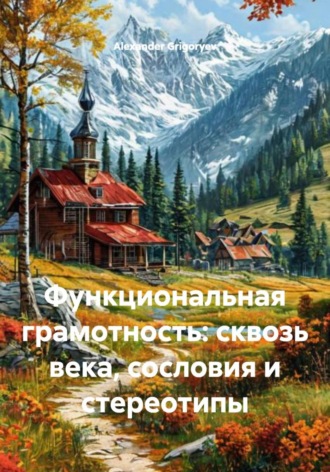
Полная версия
Функциональная грамотность: сквозь века, сословия и стереотипы
**Передаваемость**, или транслируемость, есть критерий социального воспроизводства знания. Он подразумевает существование в культуре институционализированных или устоявшихся каналов и механизмов для передачи комплекса компетенций от одного индивида или поколения к другому. Знание, которое не может быть передано и, следовательно, воспроизведено в следующем поколении, не является частью функциональной грамотности как социального, а не только индивидуального феномена. Механизмы передачи варьировались в зависимости от типа знания. Для знания-навыка (procedural knowledge) ключевым был механизм ученичества, основанный на наблюдении, подражании и корректировке со стороны мастера, что подробно описано в антропологических исследованиях обучения ремеслу (Lave & Wenger, 1991; Ingold, 2000). Для знания-информации (propositional knowledge) использовались мнемонические техники (ритм, рифма, мелодия, формульность), ритуализированное повторение (как в случае юридических формул или генеалогий) и, на более позднем этапе, письменная фиксация. Существование специализированных социальных ролей – сказителей, мастеров-ремесленников, знатоков обычного права, наставников – является индикатором высокой степени институционализации передачи. Работы по истории образования и социализации в доиндустриальных обществах, например, исследование Джеймса Боуэна по истории западного образования (Bowen, 1972-1981) или труды по medieval apprenticeship, анализируют эти формальные и неформальные каналы. Система, обладающая передаваемостью, обеспечивала не только сохранение, но и определенную стандартизацию знания в пределах культурной общности, что было необходимым условием для координации коллективных действий и поддержания социального порядка.
Совокупное действие этих трех критериев – эффективности, адаптивности и передаваемости – формирует контур функциональной грамотности как исторического явления. Они позволяют отличить культурно укорененные, технологически обусловленные и социально воспроизводимые системы компетенций от спорадических инноваций или чисто индивидуальных приемов. Применение этих критериев к конкретному историческому материалу – будь то практика морской навигации по звездам, система мер и весов на местном рынке или комплекс ритуалов, сопровождающих заключение брака – позволяет оценить степень их интеграции в социальную ткань и их роль в обеспечении устойчивого функционирования общества в конкретный период времени. Таким образом, данные критерии служат не только для описания, но и для объяснения долговременной устойчивости многих доиндустриальных практик, которые с внешней, современной точки зрения могли казаться иррациональными или примитивными, но на деле представляли собой оптимизированные решения в рамках заданных ограничений.
§ 1.4. Функциональная грамотность и картина мира: как способы коммуникации формируют мышление
Взаимосвязь между преобладающими в обществе способами коммуникации и структурами коллективного мышления представляет собой один из центральных вопросов, возникающих при анализе функциональной грамотности. Данный параграф посвящен рассмотрению тезиса о том, что доминирующие семиотические системы не являются нейтральными инструментами для передачи готовых мыслей, но активно участвуют в формировании когнитивных моделей, категорий восприятия и логики рассуждения – то есть картины мира (worldview) исторических субъектов. Этот подход, восходящий к гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа в её мягкой, социокультурной интерпретации, и развитый в рамках теорий медиа (Гарольд Иннис, Маршалл Маклюэн) и истории ментальностей, имеет ключевое значение для понимания функциональной грамотности как системы, конституирующей сам способ бытия в мире.
Письменная культура, в особенности алфавитная, часто связывается исследователями с развитием определенных когнитивных навыков, таких как абстрактное мышление, логический анализ, способность к деконтекстуализации информации и её систематизации вне зависимости от непосредственного ситуативного контекста. Работы Джека Гуди (Goody, 1977, 1986) о последствиях использования письменности подчеркивают её роль в объективации знания, создании возможностей для его критического пересмотра и накопления. Уолтер Онг (Ong, 1982), описывая переход от устной культуры к письменной, указывает на сопутствующие ему трансформации: смещение от аддитивной, агрегативной и близкой к жизненному миру речи к аналитической, абстрагирующей и формально структурированной. Однако, как показывают более поздние исследования, проведенные в рамках anthropologies of literacy (Street, 1984; Collins & Blot, 2003), этот переход не был линейным или всеобщим, а письменность сама по себе не является монолитной детерминантой; её воздействие опосредовано социальной практикой её использования. Тем не менее, функциональная грамотность, основанная преимущественно на письменном коде в его административном или сакральном вариантах, способствовала формированию ментальности, ориентированной на текст как авторитетный источник, на фиксированную норму и на иерархию, основанную на доступе к этому тексту.
В противоположность этому, функциональная грамотность, опирающаяся на **устные и мнемонические системы**, формировала иные когнитивные паттерны. Необходимость хранения информации в памяти стимулировала развитие мнемотехник, основанных на ритме, рифме, мелодии, ассоциациях с конкретными местами (метод loci) или формульных структурах. Это, в свою очередь, способствовало холистическому, нарративному и контекстуально-привязанному мышлению. Знание было встроено в повествование или песню, а его воспроизведение было перформативным актом. Как показали исследования Альберта Лорда (Lord, 1960) и Джона Майлза Фоли (Foley, 2002), устные эпические традиции оперируют не готовыми текстами, а системой формул и тематических паттернов, которые сказитель комбинирует в реальном времени в соответствии с ситуацией исполнения. Это порождает картину мира, в которой истина и норма не существуют в виде статичного документа, а постоянно воссоздаются и подтверждаются в акте коллективной коммуникации, оставаясь гибкими и адаптивными. Такой когнитивный стиль был адекватен задачам сохранения и передачи сложных сводов знаний (правовых, генеалогических, технологических) в обществах без всеобщей письменности.
**Визуальные и предметные коды** функциональной грамотности конструировали пространственно-символическую картину мира. Владение геральдикой, например, предполагало не просто знание символов, но и умение мгновенно «читать» социальный ландшафт: распознавать союзников и противников по гербам на поле боя, понимать иерархию и родственные связи по расположению и комбинации символов на печати или надгробии. Это формировало пространственное, синхроническое восприятие социальных отношений. Аналогично, умение ориентироваться по природным маркерам (течению рек, расположению звезд, типам растительности) или по антропогенным знакам (курганам, межевым валам, придорожным крестам) создавало картину мира как сети путей и локусов, насыщенных смыслом, а не как абстрактного координатного пространства. Исследования в области истории картографии, такие как работа Дж. Б. Харли (Harley, 2001) о деконструкции карт, показывают, что донаучные карты (mappae mundi) были не столько инструментами навигации, сколько визуальными репрезентациями теологических и космологических концепций, то есть кодировали картину мира в её целостности. Предметные коды, такие как кипу или бирки, формировали мышление, ориентированное на количественные соотношения и материальные свидетельства обязательств, где сам физический объект выступал гарантом истинности.
**Телесные коды и воплощённое знание** (embodied knowledge) непосредственно связывают способы коммуникации с телесным опытом и габитусом. Привычные, доведенные до автоматизма движения ремесленника, ритуальные жесты, позы подчинения или господства – всё это инкорпорировало социальные нормы и практическую логику на уровне моторной памяти. Картина мира в таком случае не является чисто ментальной конструкцией; она «проживается» и воспроизводится телом. Подходы, развиваемые в рамках theories of practice (Пьер Бурдьё) и embodied cognition (Тим Инголд, 2000; Шапиро, 2011), утверждают, что мышление не локализовано исключительно в мозге, а распределено между мозгом, телом и окружающей средой. Следовательно, функциональная грамотность, основанная на телесных навыках (от управления плугом до исполнения танца, кодирующего миф), формировала недискурсивное, ситуативное понимание мира, где знание проявлялось в уместном и эффективном действии, а не в его вербальном описании.
Таким образом, различные режимы функциональной грамотности способствовали формированию различных когнитивных стилей и картин мира: от абстрактно-логического, ориентированного на текст, до нарративно-контекстуального, пространственно-символического и телесно-практического. Важно подчеркнуть, что в большинстве исторических обществ эти режимы сосуществовали и взаимодействовали в рамках разных социальных страт и сфер деятельности. Понимание этого позволяет избежать упрощенного противопоставления «примитивного» и «развитого» мышления и вместо этого увидеть в исторических акторах носителей сложных, внутренне согласованных систем осмысления реальности, которые были прямым следствием и необходимым условием их специфической функциональной грамотности. Эта связь между семиотическими средствами и структурами сознания является фундаментальной для историко-антропологического исследования любых доиндустриальных и раннеиндустриальных обществ.
Глава 2. Код доступа: как ФГ структурирует общество
§ 2.1. Функциональная грамотность как социальный капитал и символический ресурс
В рамках социально-стратифицированных обществ различные формы функциональной грамотности выступают не только как инструменты решения практических задач, но и как стратегические активы, распределение и контроль над которыми являются ключевым механизмом производства и воспроизводства социального неравенства. Для концептуализации этого аспекта продуктивным является применение теоретического аппарата Пьера Бурдьё, в частности его понятий **культурного капитала** и **символического капитала** (Bourdieu, 1986). В данной перспективе функциональная грамотность может быть рассмотрена как специфическая, часто невербализуемая и воплощённая (embodied) форма культурного капитала, которая, будучи признанной в рамках определённого социального поля, конвертируется в символический капитал – престиж, авторитет и легитимную власть.
**Функциональная грамотность как культурный капитал.** Культурный капитал, по Бурдьё, существует в трёх состояниях: инкорпорированном (телесные диспозиции, навыки, габитус), объективированном (культурные артефакты) и институционализированном (образовательные сертификаты). Функциональная грамотность прежде всего соответствует инкорпорированному состоянию. Она представляет собой совокупность «присвоенных схем восприятия, мышления и действия», которые приобретаются индивидом в процессе социализации в конкретной социальной среде (семья, община, цех) и которые обеспечивают ему компетентность в рамках этой среды. Например, глубокое знание местной экосистемы и агротехники, передаваемое в крестьянской семье, является капиталом, позволяющим успешно вести хозяйство, поддерживать статус полноправного общинника и влиять на решения схода. Владение сложными ремесленными техниками, передаваемыми через ученичество в цехе, составляло основу экономической самостоятельности и корпоративной идентичности мастера. Этот капитал, будучи инкорпорированным, трудно поддается формальной объективации и передаче вне непосредственного практического контекста, что делает его специфическим ресурсом, монополизированным определёнными социальными группами.
Переход к более институционализированным формам грамотности, таким как владение сакральной или административной письменностью, знаменовал собой объективацию и формализацию культурного капитала. Письменное знание могло быть зафиксировано, отчуждено от носителя и поставлено под контроль институтов (церкви, канцелярии, университета), которые регулировали доступ к нему. Тем не менее, как показывает Бурдьё, даже такой объективированный капитал для своей эффективной реализации требует определённого габитуса – умения оперировать абстрактными категориями, следовать письменным процедурам, вести себя в соответствии с нормами учёного сообщества. Таким образом, в доиндустриальных обществах сосуществовали различные формы культурного капитала, основанные на разных типах функциональной грамотности: «земной», практический капитал крестьянина или ремесленника и «учёный», текстуальный капитал клирика или писца. Их относительная ценность и конвертируемость определялись логикой конкретного социального поля.
**Функциональная грамотность как символический ресурс и основа символического насилия.** Символический капитал возникает, когда определённые практики, компетенции или атрибуты признаются легитимными, ценными и достойными уважения в данном обществе. Признание позволяет их обладателю оказывать символическое воздействие – влиять, убеждать, командовать – без явного принуждения. Различные формы функциональной грамотности становились основой для накопления такого капитала в разных социальных стратах. Для военной аристократии символическим ресурсом была геральдическая и рыцарская грамотность, демонстрирующая знатность и доблесть; для крестьянской общины – авторитет «знающего» старика, владеющего тонкостями обычного права и календарной обрядности; для цеха – признанное мастерство, удостоверяемое шедевром.
Однако, как центральный механизм социального доминирования, Бурдьё выделяет **символическое насилие** – мягкую, неосознаваемую форму принуждения, при которой доминирующие группы навязывают подчинённым собственные системы классификации, оценки и восприятия как единственно легитимные. В контексте функциональной грамотности это проявляется в том, что группы, монополизировавшие наиболее престижные в масштабах всего общества формы грамотности (прежде всего, сакральную и административную письменность), получали право определять, что считать «истинным» знанием, а что – «невежеством» или «суеверием». Например, знание крестьянином целебных трав могло в рамках общины быть ценным культурным капиталом, но в дискурсе церковной или позднее научной элиты оно могло маркироваться как опасное колдовство или примитивный эмпиризм, лишённый теоретического основания. Тем самым практическая функциональная грамотность низов систематически дискредитировалась и вытеснялась на периферию символического пространства. Этот процесс, как показано в работах по истории науки (например, в исследованиях Стивена Шейпина и Саймона Шеффера о научной революции, Shapin & Schaffer, 1985), был не просто когнитивным, но и глубоко социальным, направленным на установление гегемонии нового типа эксперта – учёного, опирающегося на письменные тексты и экспериментальные протоколы, над ремесленником-практиком.
Таким образом, распределение и иерархизация различных типов функциональной грамотности являются одним из основных способов структурирования общества. Доступ к тем или иным семиотическим системам и степень владения ими определяют социальную позицию индивида, границы его возможностей и его способность влиять на других. При этом доминирующие группы, обладая ресурсами для институционализации и сакрализации своей специфической грамотности, осуществляют символическое насилие, обесценивая альтернативные системы знания, что закрепляет существующие отношения власти. Этот теоретический ракурс позволяет интерпретировать исторические конфликты вокруг грамотности (например, борьбу за перевод Библии на народные языки или сопротивление крестьян новым агрономическим методам) не как столкновение «прогресса» с «косностью», а как борьбу за монополию на легитимное определение знания и, следовательно, за символическую и реальную власть в обществе.
§ 2.2. «Эпистемическое насилие» (П. Бурдьё): кто и как определяет, что есть «настоящая» грамотность
Термин «эпистемическое насилие», восходящий к критической теории и постколониальным исследованиям (в частности, к работам Гаятри Спивак), в контексте концептуального аппарата Пьера Бурдьё может быть интерпретирован как частное проявление **символического насилия**, направленного на сферу производства и легитимации знания. В рамках данного исследования под эпистемическим насилием понимается процесс, посредством которого доминирующие социальные группы (религиозные, государственные, интеллектуальные) навязывают всему обществу собственную эпистемологию – систему категорий, критериев истинности и иерархий знания – в качестве единственно универсальной и объективной. Это насилие осуществляется не через прямое принуждение, а через монополизацию права определять, что считать «истинным» знанием, «правильной» грамотностью, а что – «невежеством», «суеверием» или «неразвитым» умением. Механизм этого процесса имеет прямое отношение к вопросу о том, как исторически конструировалось понятие «настоящей» грамотности и какие последствия это имело для носителей иных форм функциональной грамотности.
Первичным инструментом осуществления эпистемического насилия в доиндустриальных обществах была **сакрализация определённых семиотических систем**. Наиболее яркий пример – монополизация религиозными институтами сложных систем письменности (латынь, церковнославянский, арабский, санскрит) и связанных с ними герменевтических практик. Эти системы объявлялись не просто удобными инструментами, а боговдохновенными каналами для передачи абсолютной истины. Как отмечает Брайан Сток в работе «Значение медиума: от устного к письменному в раннее средневековье» (Stock, 2021), переход к текстоцентричной религиозности в средневековом христианстве привёл к формированию «текстуальных сообществ», внутри которых авторитет письменного слова (Священного Писания, отцов церкви, канонического права) стал безусловным. Власть интерпретировать эти тексты, а значит, и определять их смысл для паствы, была сосредоточена в руках клира. При этом устные народные верования, практические знания, передаваемые в невербальной форме, или местные диалекты, на которых это знание могло бы быть артикулировано, последовательно маргинализировались как «профанные», а в ряде случаев – как еретические или демонические. Тем самым, одна из форм функциональной грамотности – письменная, богословская – была институционально закреплена как единственно легитимный путь к спасению и истине, что delegitimized все прочие эпистемические практики.
С формированием централизованных государств в раннее Новое время инструментом эпистемического насилия становится **административно-правовая система**. Государству для эффективного управления, сбора налогов и мобилизации ресурсов потребовалась универсализация и стандартизация процедур. Это привело к вытеснению локальных, часто устных систем права и учёта (обычное право, вербальные договорённости, бирки) единым, письменно зафиксированным законодательством и бухгалтерским учётом. Как показывает Джеймс Скотт в «Благих намерениях государства» (Scott, 1998), подобные проекты «упрощения» и «легиibility» неизбежно дисквалифицируют местное, практическое знание (metis), которое было слишком сложным, контекстуальным и неунифицированным для удобства центральной бюрократии. Человек, не владеющий новым письменным кодом для взаимодействия с государством (умением читать указы, заполнять формуляры, составлять прошения), юридически оказывался в положении неполноценного субъекта, «неграмотного», даже если он был виртуозным знатоком своей экосистемы и общинных норм. Право определять, какие формы учёта и какие правовые процедуры являются «правильными» и имеющими силу, перешло к бюрократическому аппарату, который тем самым осуществлял эпистемическое насилие над традиционными системами функциональной грамотности.
В XIX веке, с утверждением позитивистской науки и становлением системы массового образования, к этим механизмам добавился **научно-педагогический дискурс**. Наука, как новый универсальный претендент на истину, сформировала собственные критерии верификации знания: эксперимент, математическая формализация, рецензируемая публикация. Знание, не соответствующее этим критериям – например, эмпирическое знание ремесленника, основанное на многолетнем опыте и передаваемое через подражание, – было классифицировано как «донаучное», «эмпирическое» или «народное». Как убедительно демонстрируют Стивен Шейпин и Саймон Шеффер в «Левиафане и воздушном насосе» (Shapin & Schaffer, 1985), установление научного факта в XVII веке было не просто когнитивным актом, но и социальной практикой, требовавшей создания особого сообщества (учёных-джентльменов), определённого риторического стиля и исключения альтернативных способов производства знания (например, ремесленных). Параллельно система всеобщего школьного образования, описанная в работах Мишеля Фуко как дисциплинарный институт, начала внедрять единый стандарт «грамотности», сводившийся к чтению, письму и счёту на национальном языке. Эта «школьная грамотность» была оторвана от конкретных практических контекстов и навязывалась как универсальный культурный минимум. В результате носители сложных, но не вписывающихся в этот стандарт компетенций (например, кочевники, владеющие искусством навигации по звёздам, или крестьяне, знающие десятки сортов местных растений) официально записывались в «неграмотные» или «малограмотные».
Таким образом, определение «настоящей» грамотности на протяжении истории было результатом не объективного эволюционного отбора наиболее эффективных систем, а продуктом борьбы за символическую власть. Победа той или иной формы (сакральной письменности, бюрократического документа, научного текста, школьного аттестата) обеспечивала её носителям – клиру, чиновничеству, учёным, учителям – монополию на производство легитимного знания и право на осуществление эпистемического насилия над носителями альтернативных, «неправильных» форм функциональной грамотности. Этот процесс привёл к тому, что огромные пласты практического, воплощённого и контекстуального знания были исключены из доминирующего исторического нарратива и признаны несуществующими или незначительными, что и составляет одну из ключевых проблем для исторической реконструкции полного спектра человеческой компетентности в прошлом. Понимание механизмов эпистемического насилия позволяет деконструировать этот нарратив и восстановить множественность исторически существовавших режимов грамотности.
§ 2.3. Границы понимания: взаимная «неграмотность» элит и низов в языке друг друга
Стратификация общества по линиям сословной, профессиональной и культурной принадлежности неизбежно приводила к формированию относительно замкнутых коммуникативных сред, каждая из которых вырабатывала собственные семиотические системы, оптимальные для решения своих специфических задач. Следствием этого являлось возникновение устойчивых **границ понимания** между различными социальными группами, в частности, между элитами (религиозной, военно-аристократической, бюрократической, позднее – интеллектуальной) и низами (крестьянством, городскими ремесленниками, рядовым населением). Важнейшим аспектом этих границ является их взаимность: представители элит в массе своей оказывались функционально неграмотны в семиотических кодах низов, в той же мере, в какой низы были неграмотны в кодах элит. Это создавало ситуацию не единичного дефицита грамотности, а её социально-дифференцированного распределения, что необходимо для понимания характера общественных связей в доиндустриальную эпоху.
**«Неграмотность» элиты в кодах низов.** Компетенции, составлявшие основу функциональной грамотности крестьянства и ремесленников, были глубоко укоренены в конкретных материальных практиках, локальном опыте и телесном навыке. Они часто не имели адекватной вербальной или письменной репрезентации в рамках дискурсивных систем, доступных элите. Как следствие, представители образованных сословий могли демонстрировать поразительное непонимание этих практик, описывая их как нерациональные, примитивные или основанные на суеверии. Ярким примером служит отношение к народной агрономии. Сеньор, управлявший поместьем через приказчика, мог не обладать детальным знанием местных почвенных различий, тонкостей севооборота, системы примет для прогнозирования погоды или эмпирических методов лечения скота. Его функциональная грамотность лежала в иной плоскости – знании феодального права, военного дела, придворного этикета, возможно, основ латинской грамоты. Более поздние попытки внедрения «рациональных» агрономических методов со стороны просвещённых помещиков или государства часто терпели неудачу именно из-за игнорирования этой локальной, контекстуальной компетентности, что подробно анализируется в работах по истории аграрных отношений, таких как исследования Дэвида Мун о русском крестьянстве (Moon, 1999).









