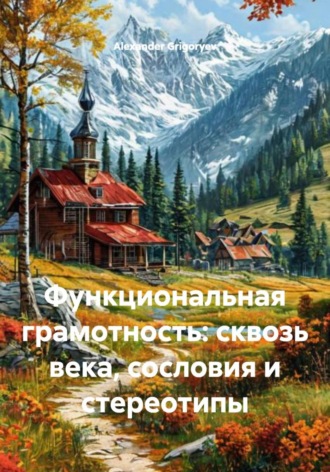
Полная версия
Функциональная грамотность: сквозь века, сословия и стереотипы
В Заключении суммируются основные выводы о множественности и исторической изменчивости грамотности, формулируется гуманистический императив признания ценности инаковых эпистемологических систем и намечаются перспективы дальнейших исследований в области истории знания и коммуникации. Таким образом, структура монографии выстроена как движение от теории к конкретному историческому анализу и далее к рефлексии о механизмах формирования исторического знания, предлагая целостную модель для переосмысления роли и природы грамотности в человеческой истории.
§ 1.4. Методология: синтез истории ментальностей, социолингвистики, семиотики и антропологии
Методологическая основа настоящего исследования строится на междисциплинарном синтезе, необходимом для анализа феномена функциональной грамотности в его исторической полноте и сложности. Такой объект исследования, по своей сути трансверсальный, не может быть адекватно осмыслен в рамках одной дисциплинарной парадигмы. Следовательно, в работе применяется интегративный подход, комбинирующий инструментарий и исследовательские перспективы истории ментальностей, социолингвистики, семиотики и антропологии, что позволяет реконструировать как когнитивные и коммуникативные практики прошлого, так и их социальные условия и культурные значения.
**История ментальностей**, понимаемая в широком смысле как исследование коллективных установок, способов восприятия и категорий мышления исторических субъектов (в традиции, заложенной школой «Анналов», прежде всего работами Люсьена Февра и Марка Блока, и развитой в трудах таких историков, как Роже Шартье и Робер Мандру), предоставляет ключевой методологический ориентир. Задача состоит не в простой фиксации наличия или отсутствия навыков, а в понимании того, каким образом различные формы грамотности структурировали картину мира, определяли границы понятного и возможного для представителей разных социальных групп. Это предполагает анализ неявных, имплицитных предпосылок, стоящих за практическими действиями. Например, исследование функциональной грамотности средневекового крестьянина требует реконструкции его восприятия времени (циклического, привязанного к природным и литургическим циклам, в противовес линейному, абстрактному времени горожанина Нового времени), пространства (топографически конкретного, насыщенного символическими маркерами, а не геометрически абстрактного) и причинности (часто магико-религиозной или основанной на аналоговом мышлении). Современные разработки в области cognitive history, например, работы Дэниела Смайлза (Smail, 2008) о нейроистории или Карла Плоета (Ploet, 2021) о применении теорий embodied cognition к историческому материалу, позволяют уточнить этот анализ, связывая ментальные структуры с особенностями материальной среды и социального взаимодействия.
**Социолингвистика**, в её историческом измерении (historical sociolinguistics), даёт инструментарий для анализа языка как социального явления и коммуникативных практик в их связи с властными отношениями и социальной стратификацией. Ключевыми являются концепции языкового сообщества, речевых жанров, языкового сдвига и диглоссии (Ferguson, 1959; Fishman, 1967). Исследование функциональной грамотности требует понимания того, какие языковые или семиотические коды использовались в различных социальных сферах (сакральной, юридической, административной, бытовой, профессиональной), и как доступ к этим кодам регулировался. Работы Уильяма Лабова о социальной стратификации языка в современных обществах (Labov, 1972) и их адаптация к историческому материалу, например, в исследованиях Тертуту Невалайнен по ранненовоанглийскому (Nevalainen, 2023), показывают, как языковые переменные коррелируют с социальным статусом, полом и родом занятий. В контексте данного исследования это позволяет анализировать, например, как диглоссия между латынью и народными языками в средневековой Европе или между церковнославянским и русским в Московской Руси структурировала доступ к знанию и авторитетным дискурсам, создавая иерархии функциональных грамотностей. Анализ металингвистических комментариев, терминологических заимствований и сфер использования различных кодов в документальных и нарративных источниках становится важным эмпирическим приёмом.
**Семиотика**, в особенности её социокультурное направление, связанное с именами Юрия Лотмана и Московско-тартуской школы, а также работы Умберто Эко о теории знаков и интерпретации (Eco, 1976), предлагает аппарат для анализа любых знаковых систем, выходящих за рамки естественного языка. Поскольку функциональная грамотность включает визуальные, предметные, жестовые и пространственные коды, семиотический подход является незаменимым. Он позволяет рассматривать геральдическую символику, иконографические каноны, систему орнаментов на одежде, межевые знаки или устройство сакрального пространства храма как тексты, подлежащие декодированию. Анализ включает установление кода (соотношения означающего и означаемого в данной культуре), синтагматики (правил сочетания элементов, например, в гербовом щите) и прагматики (условий и целей использования знака). Это даёт возможность систематически изучать невербальные формы коммуникации и хранения информации, которые составляли существенную часть повседневной грамотности доиндустриальных обществ. Современные исследования материальной культуры и visual studies (например, работы Джилл Пул о визуальной антропологии, Poole, 2022) активно развивают этот инструментарий.
**Социальная и историческая антропология** завершает методологический синтез, обеспечивая сравнительную перспективу и фокус на практиках. Подход, восходящий к практике-ориентированным теориям Пьера Бурдьё (понятие габитуса, теория практик) и развитый в исторической антропологии (например, в работах Арона Гуревича о средневековой культуре), позволяет сместить акцент с декларируемых норм и институтов на реальные, повседневные действия индивидов. Функциональная грамотность исследуется не как абстрактное знание, а как воплощённая, реализуемая в конкретных ситуациях компетенция. Антропологический подход, часто основанный на плотном описании (thick description, Клиффорд Гирц, Geertz, 1973) и микроисторическом анализе, требует пристального внимания к контексту, к деталям практического действия – будь то процесс заключения устной сделки на торгу, ритуал внесения записей в общинную книгу или техника обучения ремеслу через подражание. Этнографические методы ретроспективного анализа, применяемые к историческим источникам (протоколам допросов, судебным делам, личным дневникам, описаниям путешествий), позволяют реконструировать логику этих практик «изнутри». Современные антропологические исследования знания, такие как работы Тима Инголда о perception и skilled practice (Ingold, 2000, 2011), предлагают концептуальные рамки для анализа недискурсивных, основанных на внимании и отзывчивости к материалам и среде форм знания, которые были центральными для многих доиндустриальных профессий.
Синтез этих дисциплинарных перспектив осуществляется в работе на уровне исследовательских вопросов, выбора источников и техник их интерпретации. Так, анализ роли узелкового письма кипу в империи Инков будет включать семиотический разбор структуры и цветовой кодировки (Urton, 2003), социолингвистическое рассмотрение статуса кипукамайоков как особой касты знатоков, историко-ментальную реконструкцию восприятия числовых данных и обязательств через материальный объект, а также антропологический анализ практик создания, хранения и «чтения» кипу. Подобный интегративный подход позволяет преодолеть фрагментацию знания о прошлом и предложить целостную картину того, как люди в разные эпохи структурировали информацию, общались и действовали в мире, будучи функционально грамотными на языке своей культуры.
Часть I. Концепт: Анатомия функциональной грамотности
Глава 1. Что скрывается за словом «знать»?
§ 1.1. Знание-информация vs. Знание-навык: две стороны функциональной грамотности
Аналитическое различение между знанием как **информацией** (propositional knowledge, «знание-что») и знанием как **навыком** (procedural knowledge, «знание-как») составляет одну из фундаментальных эпистемологических дихотомий, игнорирование которой приводит к значительному упрощению в исторических реконструкциях компетенций прошлого. В контексте исследования функциональной грамотности это различие приобретает первостепенное методологическое значение, так как оно позволяет структурировать разнородный комплекс умений, составлявших основу практической адекватности индивида в доиндустриальных обществах. Обе формы знания, будучи взаимодополняющими, репрезентируют различные, но равно необходимые стороны единого феномена функциональной грамотности.
**Знание-информация** относится к категории декларативного, вербализуемого и часто поддающегося абстрактной формализации знания. Оно может быть выражено в форме утверждений, повествований, перечней, классификаций или цифровых данных. В традиционных обществах носителями такого знания выступали, например, родословные, передаваемые устно; списки налогооблагаемых единиц или повинностей; календари земледельческих работ и церковных праздников; своды обычного права; классификации растений, животных или типов почв; навигационные сведения о звёздах или маршрутах. Акцент здесь делается на точности воспроизведения и передачи семантического содержания. Исследования устных традиций, в частности работы Джона Майлза Фоли о имманентной формульности устной поэзии (Foley, 2002), показывают, как сложные массивы информации могут сохраняться и транслироваться поколениями без письменной фиксации за счёт использования устойчивых мнемонических паттернов, формул и ритмических структур. В более поздний период эта функция во многом перешла к письменным текстам: писцовым книгам, уставным грамотам, лечебникам, торговым реестрам. Однако ключевой характеристикой знания-информации в рамках функциональной грамотности является его **непосредственная приложимость к решению конкретных задач**: календарь диктует сроки сева, правовая норма разрешает спор о меже, генеалогия определяет наследственные права.
**Знание-навык**, или процедуральное знание, представляет собой иной эпистемологический режим. Оно воплощено в телесных практиках, моторной памяти, интуитивных суждениях и часто сопротивляется полной вербализации. Это знание проявляется не в утверждениях, а в действиях. Классическая философская постановка проблемы, восходящая к Гилберту Райлу (Ryle, 1949) и его различению «знания-что» и «знания-как», получает конкретно-историческое наполнение в трудах по истории технологии и антропологии ремесла. Исследования Памелы Смит (Smith, 2004, 2022) об алхимиках и ремесленниках раннего Нового времени демонстрируют, как мастерство (skill) основывалось на «чувстве материала» – тактильной и визуальной оценке его качеств, которая приобреталась через длительный опыт и личное ученичество, а не через изучение текстов. В контексте функциональной грамотности крестьянина знание-навык включало умение вести соху с оптимальным углом и усилием, определять влажность зерна для хранения на ощупь и зуб, ставить сруб так, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, или распознавать начало болезни животного по едва уловимым изменениям в поведении. Это знание было контекстуальным и ситуативным, его эффективность зависела от бессознательного, автоматизированного исполнения. Современные теории воплощённого познания (embodied cognition), развиваемые в работах Тима Инголда (Ingold, 2000, 2011) и Альвы Ное (Noë, 2004), подчёркивают, что такое знание не локализовано «в голове» индивида, а возникает в динамическом взаимодействии воспринимающего тела с материальной и социальной средой.
Для функциональной грамотности критически важным является **синергия этих двух форм знания**. Успешная деятельность в традиционном обществе практически всегда требовала их сочетания. Например, процесс строительства лодки-долблёнки (моноксила) включал как знание-информацию (выбор породы дерева по традиционным критериям, сезон заготовки, общие пропорции, возможно, заученные в форме пословицы или песни), так и знание-навык (чувство структуры дерева при выдалбливании, умение управлять огнём при распаривании бортов для разведения, глазомер для соблюдения симметрии). Этнографические исследования традиционных технологий, такие как работы Сергея Агапова о северном деревянном зодчестве (Agapov, 2021), фиксируют эту неразрывную связь. Аналогично, практика знахарства совмещала знание рецептур (информация о травах и их сочетаниях) с особыми ритуальными жестами, интонацией заговора и интуитивным диагнозом, что в совокупности и составляло эффективное, с точки зрения носителей традиции, лечение.
Исторический анализ, игнорирующий знание-навык, обречён на серьёзное искажение. Письменные источники, будучи по своей природе более приспособлены для фиксации информации, чем процедур, часто умалчивают о второй составляющей, создавая иллюзию, что одной информации достаточно для воспроизводства практики. Однако, как показал Майкл Полани в своей концепции «неявного знания» (tacit knowledge, Polanyi, 1966), значительная часть знания, особенно в сферах ремесла и искусства, не может быть адекватно вербализована и передаётся исключительно через прямое подражание и совместную практику (learning by doing). Следовательно, низкий уровень алфавитной грамотности в определённой социальной группе отнюдь не свидетельствует об отсутствии у неё сложного, систематизированного знания; оно может быть преимущественно или полностью воплощено в форме навыков и практических алгоритмов, передаваемых невербальными каналами.
Таким образом, функциональная грамотность должна пониматься как **бинарная эпистемологическая структура**, объединяющая дискурсивно артикулируемую информацию и недискурсивный, телесно воплощённый навык. Именно это сочетание обеспечивало устойчивость и адаптивность практик в обществах с ограниченным использованием письменности. Данное теоретическое различение задаёт основу для последующего эмпирического анализа, позволяя идентифицировать и дифференцировать различные компоненты компетенций, которые в совокупности позволяли историческим акторам эффективно функционировать в их мире.
§ 1.2. Семиотические системы как основа функциональной грамотности: устные, визуальные, предметные, телесные, письменные коды
Функциональная грамотность реализуется не в абстрактном вакууме, а через конкретные семиотические системы – структурированные комплексы знаков и правил их комбинации, используемые для кодирования, хранения и передачи смыслов. Исторически человеческие общества создавали и использовали множественные, параллельные и зачастую взаимодополняющие семиотические коды. Владение релевантным для данной социальной роли набором таких систем и составляет ядро функциональной грамотности. Основными классами этих систем, имеющих принципиальное значение для доиндустриальных обществ, являются устные, визуальные, предметные, телесные и письменные коды. Их анализ требует выхода за рамки лингвистики в область общей семиотики, как она была разработана в трудах Фердинанда де Соссюра, Чарльза Сандерса Пирса и, применительно к культуре, Юрия Лотмана (Lotman, 1990).
**Устные коды** представляют собой наиболее универсальную и исторически первичную семиотическую систему. Однако их роль в функциональной грамотности выходит далеко за пределы бытового общения. Специализированные устные регистры служили инструментом для фиксации и передачи сложной информации в отсутствие письменности или наряду с ней. К ним относятся, во-первых, мнемонические формы: эпические поэмы, содержащие своды этнических норм и исторических прецедентов (как показано в работах Альберта Лорда о формульном составе устного эпоса, Lord, 1960); генеалогии; юридические формулы и формулы договоров, требовавшие дословного воспроизведения для сохранения юридической силы. Во-вторых, это профессиональные жаргоны и терминосистемы, кодирующие специализированное знание – от наименований деталей ткацкого стана или типов морских узлов до классификации болезней в народной медицине. Исследования в области устной истории и этнолингвистики, такие как работы Николая Харитонова по терминологии северного судостроения (Kharitonov, 2022), демонстрируют высокую степень стандартизации и точности этих устных лексических систем. Устный код часто сочетался с ритмической, мелодической или поэтической организацией, что существенно повышало точность запоминания и воспроизведения, выполняя функцию, аналогичную функции письменного текста.
**Визуальные коды** охватывают широкий спектр систем, где информация кодируется в зрительно воспринимаемых образах, символах, композициях и цветах. Функциональная грамотность в этой сфере подразумевала умение не только создавать, но и интерпретировать такие сообщения. К ключевым визуальным кодам относилась геральдика – строго регламентированная система идентификации индивида, рода и корпорации в средневековой Европе, изучение которой (например, в трудах Мишеля Пастуро, Pastoureau, 1997) показывает её роль как визуального языка социальной навигации. Иконография в религиозном искусстве представляла собой сложный код для передачи богословских доктрин и нарративов верующим, что анализируется в рамках иконологии (Панофский, 1939). Не менее важны были системы территориальных и собственнических маркеров: межевые знаки, домовые знаки (Hausmarken) ремесленников и крестьян в Северной Европе, тамги у кочевых народов. Орнамент на одежде, посуде, оружии также нёс информацию о региональной, этнической, социальной и семейной принадлежности, а иногда и о возрасте или семейном положении носителя, как это документируется в этнографических исследованиях славянского костюма (например, работы Галины Масловой, 1984).
**Предметные коды** предполагают использование материальных объектов в качестве знаков для фиксации, прежде всего, количественной и обязательственной информации. Эти системы были широко распространены в административной и торговой практике. Наиболее известными примерами являются узелковое письмо кипу в Империи Инков, которое, согласно современным исследованиям Гэри Эртона (Urton, 2003) и Сабрины Хайленд (Hyland, 2014), могло кодировать не только числовые данные (учёт населения, налогов), но и, вероятно, нарративы через сложные комбинации типа узла, цвета и порядка шнуров. В Европе аналогичную функцию выполняли счётные бирки (tally sticks) – деревянные палочки с зарубками, обозначавшими сумму долга или объём поставки; палка раскалывалась вдоль, и одна половина оставалась у кредитора, другая – у должника, что делало подлог практически невозможным. Эта система была официально признана английским казначейством и использовалась вплоть до 1826 года (Baxter, 2021). К предметным кодам можно отнести и жетоны, использовавшиеся для внутреннего учёта на мануфактурах, и специфические формы денег (напр., гривны), где сама форма и вес выступали знаком ценности.
**Телесные коды**, или кинесика, включают в себя систематизированные жесты, позы, мимику и действия, несущие социально регламентированное значение. Функциональная грамотность в этой области была необходима для участия в ритуалах, церемониях и повседневных социальных взаимодействиях, регулируемых строгим этикетом. Примером служит ритуал оммажа в феодальной Европе, где сложение рук вассала в руки сеньора, сопровождаемое вербальной формулой, создавало юридически значимую связь. Система поклонов, снятия головного убора, порядка размещения за столом, жестов вызова на поединок или примирения – всё это составляло невербальный язык статуса, власти и намерений. Исследования исторической антропологии жеста, например, работы Жана-Клода Шмитта (Schmitt, 1990), показывают, что эти коды были столь же обязательными для понимания, как и устная речь. В профессиональной сфере к телесным кодам относились специфические движения ремесленника, танцы, имитирующие трудовые процессы, или боевые стойки воина, передававшиеся через физический тренинг.
**Письменные коды**, хотя и являются предметом традиционного изучения грамотности, в рамках предложенной модели рассматриваются как одна из возможных, но не единственная семиотическая система. Их особенность заключается в высокой степени абстракции и способности к дистанционной коммуникации и долговременному хранению сложных дискурсов. Однако важно различать разные уровни и типы владения письменным кодом: от умения поставить личный знак (signum) или прочесть знакомое простое слово до свободного владения сакральным (латынь, церковнославянский) или административным языком. Работы по истории грамотности, такие как исследование Франсуа Фюре и Жака Озуфа о распространении грамотности во Франции (Furet & Ozouf, 1977), показывают, что эти уровни часто не совпадали.
В реальной исторической практике эти системы не существовали изолированно, а образовывали сложные гибридные комплексы. Договор мог скрепляться одновременно устной клятвой, письменной записью, обменом предметными маркерами (напр., ножами или перчатками) и ритуальным жестом (рукобитьем). Следовательно, функциональная грамотность индивида определялась его способностью ориентироваться в этой многокодовой среде и переключаться между системами в зависимости от контекста и решаемой задачи. Это делает понятие функциональной грамотности принципиально плюралистичным и снимает дихотомию, основанную на привилегированном статусе одного лишь письменного кода.
§ 1.3. Критерии функциональности: эффективность, адаптивность, передаваемость
Для операционализации понятия функциональной грамотности и отличия систематизированного, социально значимого знания от случайных или индивидуальных умений необходимо выделить объективные критерии, по которым та или иная компетенция или семиотическая система может быть квалифицирована как составляющая часть такой грамотности. Эти критерии не являются оценочными в моральном или культурном смысле, но выполняют аналитическую функцию, позволяя выделить устойчивые, воспроизводимые структуры знания, обеспечивавшие функционирование общества. Основными такими критериями выступают эффективность, адаптивность и передаваемость.
**Эффективность** выступает первичным императивным критерием. Под эффективностью понимается способность конкретной компетенции или семиотической системы надежно и с минимальными издержками решать определенный класс практических задач в рамках заданных технологических и экологических ограничений. Это не абстрактная «прогрессивность», а контекстуальная целесообразность. Так, эффективность системы трехпольного севооборота в условиях средневековой Европы с ее почвами, климатом и набором культур доказывается не теоретическими выкладками, а её повсеместным распространением и устойчивостью на протяжении столетий, что документируется в археоботанических исследованиях и анализах писцовых книг. Эффективность узелкового письма кипу как инструмента административного учета в условиях отсутствия алфавитной письменности и необходимости оперативного сбора данных по вертикали власти подтверждается масштабами и сложностью управления империей Инков. Данный критерий требует конкретного исторического анализа: например, эффективность устного обычного права оценивается по его способности разрешать большинство локальных конфликтов без эскалации, а эффективность ремесленного навыка – по соответствию конечного продукта утилитарным и социальным ожиданиям (прочность, функциональность, соответствие эстетическому канону). Подход, оценивающий технологии с точки зрения их внутренней эффективности в собственном контексте, а не с позиций более поздних изобретений, разработан в рамках history of technology и science and technology studies (STS), например, в работах Джона Стадена (Staudenmaier, 1985) о контекстуальности технологического выбора.
**Адаптивность** является критерием, характеризующим динамическую устойчивость системы знаний. Он отражает способность компетенций и лежащих в их основе ментальных моделей видоизменяться в ответ на изменения внешних условий – климатических флуктуаций, демографических сдвигов, появления новых материалов или инструментов, социально-политических трансформаций – без потери своей идентичности и базовых функций. Адаптивность демонстрирует не статичность, а гибкость функциональной грамотности. Классическим примером может служить адаптация агротехнических комплексов при миграции земледельческих сообществ в новые экологические зоны: перенос основных принципов землепользования с корректировкой календаря работ, набора возделываемых культур и приемов обработки почвы. Исследования в области environmental history, такие как работы Джона МакНила (McNeill, 2000) или Веры Мучник о взаимодействии общества и природы в Русском государстве (Mucnik, 2023), показывают, как традиционные экологические знания включали механизмы реагирования на кризисы. Адаптивность проявлялась и в семиотических системах: геральдика эволюционировала, усложняясь и стандартизируясь; устное право инкорпорировало нормы государственного законодательства, переинтерпретируя их в своих категориях. Система, лишенная адаптивности, быстро становилась нефункциональной и исчезала. Поэтому устойчивость многих традиционных практик на протяжении столетий свидетельствует о высокой степени их адаптивности к меняющимся, но в рамках определенного диапазона, условиям.









