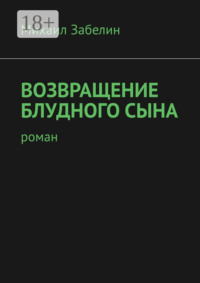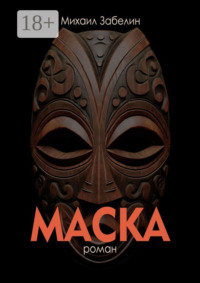Полная версия
Русы. роман
Причмокивая во сне, Аскольд засыпал.
– — – — – — – — – — – — – — – — – — – — —
Неожиданно, не прошло и месяца после свадьбы, зашла к Любаве Марья. Глаза у нее были красными, и сама она выглядела неприбранной, растрепанной, несчастливой.
– Что случилось, Марьюшка?
Любава обняла Марью, усадила на скамью, присела рядышком и еще раз спросила:
– Что у вас случилось?
Марья вдруг стряхнула ее руку с плеча, отодвинулась, резанула взглядом и крикнула зло, надрывно:
– Это ты виновата!
– Что ты? В чем? Да скажи толком.
Марья немного успокоилась, вытерла набухшие на глазах слезы и, спотыкаясь всхлипами, принялась рассказывать.
Любомир сватался к Марье давно. И Марье он был люб, и матушка ее была согласна, а боярин Мстислав вдруг уперся. Никто не подозревал, что он может так гневаться. Он стучал кулаком и кричал так, что домочадцы притихли, а слуги попрятались.
– Глупые бабы! Любомир! Любомир! Этот Любомир сладко поет, да больно слушать. Не знаете вы, что это за Любомир, а я знаю. Скользкий он, как уж, алчный, ненадежный. И тебя, Марья, предаст, и меня.
– Государь его любит, – пыталась возразить боярыня Марфа.
– Он и царю застил глаза велеречивостью своей. Хитрый он и расчетливый. Был бы глупее, все бы скоро поняли, что он за человек.
– Государь не разобрался, только ты один понял.
– Царь тоже поймет когда-нибудь, да, боюсь, поздно будет. Но сейчас не в этом дело. Над государем я не властен, а Марья без моей воли за Любомира не пойдет.
Марья рыдала. Мать гладила ее по головке и тихо, чтобы муж не услышал, приговаривала: «Это мы еще посмотрим».
То ли боярыня дошла до царя, то ли Любомир с ним говорил, неизвестно, но в скором времени сам царь приехал сватом в дом боярина Мстислава. Здесь уж отказать было невозможно. Стали готовиться к свадьбе. А потом узналось, что за несколько дней до назначенной свадьбы Любомир пришел к царю, низко поклонился и сказал:
– Прости, государь. Не могу я на Марье жениться. Не люба она мне.
Говорят, что хакан был в ярости.
– Ты что, боярин, белены объелся? Девку опозорить решил? Меня, свата, дураком хочешь выставить?
– Я другую люблю.
– Кого же?
Марья прервала свой рассказ и вдруг разрыдалась навзрыд.
– Что ты, что ты, – успокаивала Любава.
Сквозь слезы Марья выкрикнула:
– Он назвал тебя.
Любава вспомнила неотступный, какой-то иступленный взгляд Любомира на свадебном застолье и всё поняла. Марья, чуть успокоившись, продолжила свой рассказ.
– Да как ты смеешь даже думать об этом! – закричал царь. – Она мужняя жена, жена моего сына, князя Борислава.
– Я знаю, государь, прости. Она ни о чем не догадывается. А я ничего не могу с собой поделать.
Голос царя немного смягчился.
– Что же ты Любаве раньше ничего не говорил, до того, как она за Борислава замуж вышла?
– Мы друзья с Бориславом, государь. Она его полюбила, вот я и молчал. И к Марье посватался. Думал, забудется. Ан нет. Понимаю, не судьба мне быть с Любавой, но и на Марье жениться не могу.
– Вот тебе мое царское слово, Любомир. Ты хорошо мне служишь, и я не хочу тебя терять. Про Любаву забудь, а свадьбе твоей с Марьей быть. Я не позволю ни боярина Мстислава обидеть, ни его дочь опозорить. С Марьей живи, как сможешь, глядишь и слюбится. Но коли дерзкое слово о тебе услышу, коли обидишь ее, знай, я этого не спущу. Теперь ступай. Больше ничего не хочу слышать.
Марья умолкла.
– Как же ты об этом узнала? – удивилась Любава.
– Уши и во дворце есть. В тот же день моему батюшке и матушке рассказали, а я услышала.
– Теперь видишь сама, я ничего не знала.
– Прости меня, Любава. Да мне-то как теперь быть? Он ведь холоден со мной. Не взглянет на меня лишний раз, слова не вымолвит. Как жить-то?
– Правду царь сказал, Марьюшка. Стерпится-слюбится. Терпи. Глядишь, и он переменится к тебе.
И после этих слов они обнялись, как раньше, и обе заплакали. Заплакали о своих любимых: один далеко, другой – рядом, а будто далече. Заплакали о своей женской доли: ждать и терпеть. Со слезами на время откатились невзгоды, разлуки и обиды, и стало легче на душе.
II
– Скажите, князь, чему учат человека ваши языческие Боги?
– Разве Боги должны учить? Они – Боги, они выше этого.
– Нет, дорогой Борислав. Человек – что дитё малое. Он поддается дурным помыслам и совершает дурные поступки. Для христианского Бога все люди – его дети, о которых он заботится и которых учит.
– Чему же учит ваш Бог?
– Он учит самому простому, самому естественному состоянию человека и самому трудному для понимания. Он учит любви, он учит любить других людей так, как любишь себя. «Возлюби ближнего, как самого себя,» – так говорил Исус Христос. Вы понимаете, Борислав? Любить других людей, всех людей, – вот в чем истина.
Патриарх Иоанн просветлел лицом при этих словах, будто открыл своему духовному ученику величайшую тайну.
– Возможно ли это? Я встречал разных людей. Одни были добрыми, другие злыми, одним я мог довериться, другие пытались обмануть. Есть друзья, но есть и враги. Как можно любить всех?
– Разве не бывает так, что враги становятся друзьями? Разве со временем грешник, человек испорченный, не может измениться к лучшему? Люди рождаются безвинными для радости и любви, но одни сохраняют на своем пути искру Божью, а другие блуждают во тьме. Христос пришел на землю, чтобы спасти этих заблудших. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», – говорил он. Христианский Бог учит людей добру. И еще словами Исуса скажу я вам: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенных, защищайте сироту, вступайтесь за вдову».
Неужели вы с этим не согласны, Борислав?
– С этим, конечно, я соглашусь. Но как быть, если, к примеру, хазары придут в мой дом? Разве должен я это стерпеть? Нет, я выхвачу меч из ножен и стану сражаться.
– Вы с хазарами, – улыбнулся патриарх, – похожи на соседских мальчишек: один задирает другого, а тот тоже спуску не дает. Вот и дерутся. А когда мальчишки подрастут, да ума, может быть, наберутся, то поймут, что с соседями лучше жить в мире. «Будьте в мире со всеми людьми», – говорил Христос. Только до этого дорасти надо. А чтобы расти и понимать эти истины, и жить так, как велит Христос, надо учиться и вкушать пищу, только не обычную, а духовную.
Слушайте сердцем, князь. Частица Бога – внутри вас. Не в каменных идолах и не в изображениях, не в стенах и досках, в духовной связи с Господом кроется истинная вера. Образ Христа не в руках, не перед глазами, а внутри, в сердце. И напоследок я скажу вам самое главное: не делай другому того, чего не желаешь себе.
Подумайте, Борислав, над нашими беседами. Почему-то мне кажется, что скоро вы придете к пониманию веры. И тогда, Бог даст, мы встретимся вновь.
Видно, зерна, посеянные в беседах с князем Бориславом патриархом Иоанном, упали в добрую землю. Плоды еще не выросли, даже ростки не взошли, но их движение, пока не видимое глазу, началось. Мысли набухали, как побеги этих зерен, они рождали сомнения и вопросы, вопросы требовали ответов, ответы находились в книгах, книги давали толчок для новых сомнений и новых открытий. За эти полгода, проведенные в Константинополе, Борислав из купца и воина, неожиданно ставшего посланником, превратился в человека, мыслящего иначе: шире, объемнее. Он впервые ощутил себя князем, то есть человеком государственным.
III
В это утро Петрона всем своим видом выражал особую торжественность.
– День отъезда назначен, дорогой Борислав. Завтра тебя и посланника Кушку примет император. Он представит вас нашим послам. Ты их не знаешь – это халкидонский митрополит Феодосий и спафарий* Феофан. С ними вы и отправитесь к императору Людовику. Василевс выбрал в посольство людей церковных, поскольку король Людовик – император христианский, его еще называют Людовиком Благочестивым. Хотя росы и не христианской веры, но мне думается, что ты, Борислав, много нового для себя узнал из бесед с патриархом, так что и с митрополитом Феодосием, я уверен, найдешь общие темы для обсуждений, так что дорога не будет казаться долгой.
– Что он за человек, митрополит Феодосий?
– Не столь легкий и терпимый, как Иоанн Грамматик, но не сомневаюсь: вы сойдетесь. Ты умеешь располагать к себе людей, Борислав. Это я говорю не для того, чтобы понравиться, мы с тобой уже достаточно знакомы, но это правда. Ты не заперт на все замки, как, скажем, боярин Кушка. Ты открыт для людей, ты открыт для знаний, и люди чувствуют это. Я тебе честно скажу: узнав тебя, я с большим уважением стал относиться ко всем росам.
– Ты умный царедворец, Петрона. С тобой приятно и опасно иметь дело.
В лице Петроны и впрямь было что-то лисье. Он покачал головой, не то отвергая эти слова, не то соглашаясь с ними.
– Я вот что еще хотел сказать. Если есть какие-то просьбы к императору, выскажи их завтра. Василевс благосклонен к тебе, князь. Carpe diem*.
– — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — —
По правую руку от Феофила сидели митрополит Феодосий и спафарий Феофан, по левую – князь Борислав и боярин Кушка. Император пребывал в хорошем настроении, и это благодушие отражалось и на лицах вельмож, среди которых был и Петрона, стоящих за троном. Борислав исподволь разглядывал византийских послов, боярин Кушка по обыкновению был серьезен, даже строг. Орлиный нос его и глаза, похожие на разгоревшиеся угли в черных горшках, были устремлены в сторону Феофила и, казалось, отделились от лица, а щеки, лоб и губы служили лишь подпоркой к этому носу и к этим глазам. Оба посланника были одеты в дорогие русские кафтаны, расшитые золотыми нитями.
Первое впечатление о митрополите Феодосии сложилось такое: это очень расчетливый и умный человек, умеющий прятать свои мысли за неприступной маской суровости и непримиримости к отступникам от истинной веры. Он был высок ростом, худ, бел от седин, впавшие щеки и узкое лицо удлиняла седая борода. На русских послов он взирал бесстрастно, цепко и почти равнодушно. Бориславу в этом монашеском, отрешенном от мира лице чудилась какая-то недосказанность. Он почему-то представил ровную морскую гладь с подводными невидимыми течениями, которая в любой момент может смениться рябью, волнами или штормом.
Император начал свою напутственную речь. Было видно, что со своими посланниками он всё давно обсудил и обговорил, и поэтому больше обращался к русским послам.
– Я решил объединить посланников Константинополя и посланников хакана росов в одно посольство к императору Людовику, потому что цели наши едины. Так же как хакан росов послал вас ко мне ради дружбы и просил поручиться за вас перед императором Запада, так и я подтверждаю своим посольством к королю Людовику заверения в вечной дружбе и любви. В своем послании к нему я просил его отнестись к вам, посланникам росов, с такой же милостью и благорасположением. Я также написал ему, что вы и страна ваша ищете дружбу с императором, и что вы уже нашли эту дружбу здесь, в Византии, в моем лице.
«Жаль, что отец не слышит этих слов, – подумал Борислав. – Ему было бы приятно.» Боярин Кушка вдумчиво кивал, слушая эти слова. Борислав встал и поклонился.
– Скажите, князь, есть ли у вас ко мне еще просьбы? – обратился к нему император.
– Да, василевс. Наш государь, хакан русов, повелел после того, как закончится наше посольство ко двору императора Людовика, не сразу возвращаться домой, а навестить сперва правителей северных русов. Как мне сказывали, город Ингельхайм на Рейне, куда мы держим путь, не столь далеко отстоит от Варяжского моря, на берегах которого располагаются земли наших сородичей. Но до них нам придется добираться через империю короля Людовика. Прошу вас передать эту просьбу королю франков.
Феофил уже знал по рассказам Борислава о том, что, кроме южных росов, есть еще и северные, и, на самом деле, это один народ. Тогда он удивился столь большим расстояниям, разделяющим их, и еще больше тому, что благодаря речным путям связи между ними не потеряны. Он еще подумал тогда: «Эти торговые пути нам известны, но это еще один довод к тому, что с росами стоит дружить».
– Хорошо, князь. Я добавлю в послание к императору просьбу о том, чтобы с его помощью вы получили возможность вернуться через его империю, не подвергаясь какой-либо опасности.
Боярин Кушка слушал и удивлялся про себя: «Не зря Бориславка встречался с Феофилом. Ай да князь. Ай да молодец.»
– Благодарю вас, василевс. Я расскажу русскому царю о ваших милостях по отношению к его посланникам, что есть лучшее подтверждение нашей дружбы.
Император выдавил из себя улыбку и даже махнул рукой на прощание.
Послы поклонились и вышли.
Этот прощальный дружеский жест и слабая улыбка долго еще стояли в голове, как отзвук, как затухающее эхо. Может быть, в этом жесте и в этой улыбке впервые за их с Бориславом встречи промелькнуло что-то человеческое, не царское. Будто вместе с короной он носил на себе и лицо императора и устал от этой тяжелой ноши, приподнял на секунду перед Бориславом свой панцирь и снова надел его на себя, пока другие не увидели. А может быть, это только показалось.
– — – — – — – — – — – — – — – — – — – —
Борислав писал отчет государю, чтобы поутру отправить его с гонцом. Он слышал, как хлопнула дверь: Богдан побежал прощаться со своей Леонией. Стемнело. Борислав зажег свечи и в пляске огней, разгоняемых ветерком, увидел выходящую из огня Любаву. Она вырастала на глазах, приближалась, будто плыла в воздухе, оказалась рядом, совсем близко, он чувствовал ее запах, ее тепло. «Как хорошо, что ты со мной, Любава».
Борислав открыл глаза, зажег погасшую свечу и принялся писать письмо.
«Дорогая моя Любава. Как же я соскучился по тебе.»
– Спафарий – византийский титул среднего достоинства
– Carpe diem (лат.) – лови момент
Глава пятая
Бремя власти
I
Посольство Византии ко двору короля франков Людовика, в котором находились и русские посланники, вышедшее из Константинополя в начале марта 839-го года, имело вид торжественный и внушительный. Послов императора Феофила сопровождали многочисленные слуги, переводчики, квартирмейстеры, гонцы, проводники, повара, возничие, носильщики и воины, конные и пешие. Русское посольство выглядело скромнее: князь Борислав да боярин Кушка, их слуги, писари, толмачи и носильщики. Ехали с посольским караваном и купцы с товарами: византийские и русские. На ночлег останавливались в богатых домах или поместьях, бывало, и на постоялых дворах, но, чем дальше продвигались вперед, тем чаще разбивали шатры под открытым небом.
Богдан и Глеб из кожи вон лезли, чтобы угодить князю, как бы восполняя ежедневными трудами константинопольские месяцы праздности. Порой Богдан, не оставляя работы, делался задумчивым, вид его становился мечтательным, и когда он, к примеру, расчесывал гриву княжеского скакуна, так нежно прижимал к себе его морду, что наблюдавшему за этой сценой Бориславу было совершенно ясно, кого мальчик видел в этот момент в своем воображении.
Боярин Кушка был погружен чаще всего в какие-то свои мысли, взирал на ромеев с недоверием и общался только с Бориславом и своими слугами. Сам же князь, напротив, старался наладить отношения и сойтись поближе с императорскими посланниками, пользуясь любым удобным случаем, чтобы вступить с ними в разговор. Петрона был прав: Борислав своей искренностью и дружелюбием, некоторой наивностью и видимым желанием познавать неизведанное и разбираться в непонятном, а главное, умением слушать невольно располагал к себе самых разных людей. Поначалу все его попытки завязать разговор с митрополитом Феодосием разбивались о его холодный и твердый, как остывший за ночь камень, взгляд. Это неприязненное, высокомерное отношение к русским посланникам задевало Борислава. Создавалось впечатление, что ромейские послы намеренно избегают русов, а при случайных встречах на привале прямой, как палка, митрополит, едва кивая, проходил мимо, а круглый, как шар, спафарий Феофан молча семенил за ним.
В тот вечер они разбили лагерь и возвели шатры на большом лугу рядом с лесом. Смеркалось. В этом зыбком равновесии между уходящим днем и подступающей тьмой Борислав находил нечто общее с тем, что он чувствовал в самом себе. Беседы с патриархом Иоанном не пропали втуне. Борислав не столько мыслью, сколько внутренним чутьем ощущал в них зерно истины. В его голове складывалась стройная картина единого устройства мира, в которую вписывались и зеленевший луг, и темная чаща леса, и блекнувшее небо, и солнце, катящееся за горизонт, и свежие запахи пришедшей весны. Сейчас ему казалось, что Иоанн Грамматик был прав, когда говорил, что всё в мире устроено так гармонично и так складно, так всё дополняет друг друга, так естественно складывается из разных частей: природы, животных птиц, людей – общая картина бытия, что невольно понимаешь: есть только один творец и создатель всего живого, и имя его Бог. Борислав чувствовал, как что-то новое, молодое, как распустившаяся листва на деревьях, теплое, пряное, как аромат весны, заполняет его разум и сердце.
В наступивших сумерках он едва разглядел проходящего мимо Феодосия и, сам не зная почему, выплеснул ему вслед по-гречески слова из Писания, которые слышал от патриарха:
– Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.
Так говорил Исус Христос. Почему же вы, святой отец, так суровы к нам?
Митрополит остановился, как вкопанный, потом обернулся и сделал шаг к Бориславу.
– Вы христианин, князь?
– Добрый вечер, ваше преосвященство. Нет, я не христианин, но, наверное, уже и не язычник, каковым вы меня считаете.
– Я не предполагал, что вы знаете евангелие и так хорошо говорите по-гречески.
– Впереди у нас с вами долгий путь, и есть время узнать друг друга лучше, – улыбнулся Борислав.
В наступившей темноте Феодосий скорее почувствовал, чем увидел эту улыбку, и почему-то именно эта доверчивая улыбка больше всего растрогала его. С того вечера он сам стал искать встречи с Бориславом. Они отходили подальше от больших ушей Феофана-спафария и подолгу беседовали. Феодосий словно вылез из раковины, в которую сам себя запрятал, помолодел и будто приблизился по возрасту к Бориславу. Они говорили о религии и вере, о своем посольстве ко двору императора Людовика и о вещах совсем уж запретных в Византии: об иконоборчестве и иконопоклонении. Митрополит говорил об этом туманно, обтекаемо, но князю Бориславу показалось, что не все в империи разделяют взгляды Феофила. Хотя для него это не казалось важным: написан ли образ Христа на доске или отпечатан в сознании человека? Для него образ Христа уже вошел в сердце. И Феодосий, как ребенок, радовался за него.
Чем ближе приближалось посольство к землям императора Запада, короля франков Людовика, тем больше вопросов задавал Борислав о том, как там люди живут, и что за правители владеют этими землями, и что за человек, что за король этот Людовик.
Митрополит Феодосий уже бывал посланником Византии к королю Людовику. Посольство это было не первым, и он многое знал и о самом Людовике, и об императрице, и о его сыновьях, и о драматических, неведомым многим событиях, которые изнутри разрывали империю, созданную еще отцом нынешнего императора – Карлом Великим. Постепенно из отрывочных рассказов митрополита Феодосия в голове князя Борислава сложился трагический портрет Людовика Благочестивого, и он мысленно представил, как неумолимо и непомерно тяжко может давить бремя власти на человека, не стремящегося к власти, как печально может сложиться судьба человека доброго и слабого, облеченного этой властью.
II
В сером рубище, похожем на грязный мешок, с опущенной головой, на коленях, на помосте посреди толпы придворных, монахов, священников и простолюдинов стоял сын Карла Великого*, император Запада, король франков Людовик Благочестивый. Рядом стояли и взирали на его прилюдное унижение графы, вассалы, епископы, аббаты и его сыновья, и среди них старший, Лотарь, который и задумал это публичное оплевывание. Людовик не чувствовал в себе ни обиды, ни злости, ни стыда, а только слезы совести за всё то праведное и неправедное, что он совершил. Перед публичным покаянием, похожим на казнь или пострижение в монахи, с него сняли корону, королевские одежды и регалии и облачили в холщу. Вся церемония была продумана его палачами досконально. Напротив него стояли архиепископы Агобард Лионский и Эббон Реймский, старый друг, отрекшийся от него, и громко зачитывали длинный список прегрешений низложенного императора, и после каждого параграфа поверженный помазанник божий должен был отвечать: «Виновен».
Судилище выглядело настолько мерзко, что младшие сыновья Людовика – Пипин и Людовик, глядевшие поначалу свысока, победоносно и насмешливо на коленопреклоненного отца, стали отворачиваться и прятаться за чужие спины. Архиепископы поочередно оглашали его вины: «повинен в вероломстве», – и он говорил: «виновен», «повинен в лицемерии», – «виновен», «повинен в неспособности управлять государством», – «виновен».
Людовик отвечал, как от него требовалось, но не вдумывался в слова, – мысли его были далеко. Кто-то крикнул: «Как так можно с родным отцом?» Толпа роптала, графы переглядывались в сомнении, аббаты вздыхали, потупив глаза. Такого издевательства над собственным государем еще не бывало. Лотарь, король Италийский, наследник престола, старший сын императора, улыбался. Он чувствовал себя победителем.
Ничего этого Людовик не замечал. Его мучила и не давала покоя одна мысль: как могло такое случиться, что он, стремясь с первого дня своего царствования к справедливости, мысля полученную в наследство от отца огромную империю как будущий Град Божий и представляя свою божественную миссию в том, чтобы быть пастырем вверенного ему христианского народа, вести его к спасению, благоденствию, миру и добру, допустил, что на земле, за которую он, король, нес ответственность, пролилась кровь, безвинная кровь. И вот за это, за то, что не сумел удержать вражду, помирить детей, остановить раздоры, дал уговорить себя на казни людей, которых можно было помиловать, вот за это он винил теперь себя и каялся, и с кротостью принимал свое унижение, как наказание за свой главный грех, и в страдании своем видел искупление.
Всё началось шестнадцать лет назад, в 817 году, с события совершенно не примечательного. Теплым апрельским вечером вместе со свитой он возвращался во дворец после богослужения по открытой деревянной галерее, соединявшей церковь с палатами. Неожиданно со страшным грохотом прогнившие балки свода обрушились на головы людей. Сам он не пострадал, так, несколько царапин, но многие были покалечены. Людовик посчитал это знамением. Он вдруг представил, что будет с королевством, какая начнется грызня между наследниками, какая смертельная борьба развернется за власть и корону, если он внезапно умрет. И тогда он составил завещание, которое было опубликовано в виде указа – «Ordinatio imperii» («Обустройство империи»). Невозможно было угодить всем, но в то время ему казалось, что он поступил справедливо. По указу Людовика титул императора и Италийского короля получал старший сын Лотарь, двум другим сыновьям он оставлял по небольшому королевству на окраинах империи: Пипину – Аквитанию, Людовику Юному – Баварию.
Этим Ordinatio оказались недовольны все: и сыновья, и многочисленная родня, и даже церковь. Младшие сыновья затаили на отца обиду за то, что наследство не было поделено поровну, старший возмущался, что ему не достается вся империя, а старый друг и советник короля монах Бенедикт сказал ему так: «Мы хотели объединять христианские народы, чтобы построить Град Божий, а ты их разъединяешь».
Но самое ужасное случилось чуть позже. После обнародования Указа вспыхнуло восстание в Италии. Его поднял племянник императора Бернар. Он получил итальянскую корону еще при Карле Великом, а в Ordinatio о нем вовсе не упоминалось. К мятежу присоединились все недовольные: сводные братья и многие из бывших сподвижников отца. В Италию были отправлены войска, и мятеж был подавлен.
Людовик долго тогда не мог принять решения. До этих событий дела в империи шли неплохо: при дворе царило оживление, постоянно приезжали посольства – греческие, римские, сарацинские, болгарские, норманнские. Этот установившийся порядок представлялся Людовику правильным и обычным. Съезжались и разъезжались вельможи, император отправлялся в поездки или выступал в поход, затем наступала пора осенней охоты в Вогезах или Арденнах, потом зимнее пребывание в Аахене за чтением книг, в молитвах и богословских беседах, в размышлениях и прогулках. Он любил охоту, метко стрелял из лука и метал копьё. Хотя все-таки больше его привлекали богослужения, изучение писаний в латинских и греческих книгах, мысленное проникновение не только в духовный и нравственный, но и в тайный их смысл. Если бы так не распорядилась судьба, и не умерли бы оба его старших братьев, он бы с легким сердцем погрузился бы в тишину монастырской кельи и стал бы священником, а не императором. В отличие от отца Людовик не пытался расширить границы империи, а если и вел войны, то оборонительные, на границах: с арабами на юге, с норманнами на севере, со славянами на востоке.