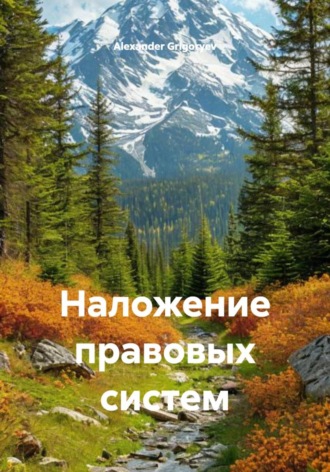
Полная версия
Наложение правовых систем
Интеграция данных, полученных этими разнородными методами, позволяет осуществить триангуляцию – проверить и дополнить выводы, сделанные на основе одного источника, информацией из других. Так, выявленная в архивных делах XIX века стратегия обращения к разным нормативным системам может быть сопоставлена с современными нарративами из интервью, а масштабы деятельности цифровых платформ – с официальной судебной статистикой. Такой подход обеспечивает необходимую глубину, репрезентативность и достоверность исследования.
ЧАСТЬ I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ: Что предшествовало «первой» системе?
Глава 1. Догосударственное право: ритуал, табу, память
1.1. Право как *охрана баланса*: экологические и родовые табу
Анализ происхождения правовых систем требует обращения к догосударственным регулятивным комплексам, которые не были правом в современном формально-институциональном смысле, но выполняли ключевые социально-регулятивные функции. Эти комплексы, основанные на ритуале, табу и устной памяти, представляли собой не набор абстрактных норм, а технологию поддержания экологического и социального баланса, необходимого для выживания коллектива в конкретных природных условиях. Данный подход согласуется с концепцией «экологического права» в правовой антропологии, рассматривающей ранние регулятивные системы как механизм адаптации к среде (Berkes, 1999).
На обширном пространстве Евразии, от степей до лесной зоны, у тюрко-монгольских и финно-угорских народов складывались сходные системы запретов, охранявшие критически важные ресурсы. Центральное место занимали табу на осквернение или нерациональное использование воды, огня и земли. Эти элементы воспринимались не просто как физические субстанции, а как сакральные основы миропорядка, нарушение баланса которых вело к коллективной катастрофе.
У кочевых и полукочевых народов тюрко-монгольского мира, таких как монголы, буряты, казахи, киргизы, существовал строгий запрет на загрязнение источников воды – рек, озер, родников. Запрещались стирка, мытье посуды, сброс нечистот в непосредственной близости от водного источника. Нарушение этого табу каралось не только сверхъестественными санкциями (болезнь, неурожай), но и вполне материальными мерами со стороны общины, вплоть до изгнания, что документально фиксировалось в записях русских этнографов и администраторов XIX века (например, в материалах Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева). Аналогичные запреты, связанные с культом воды, фиксировались у финно-угорских народов Поволжья – марийцев, удмуртов, мордвы.
Огонь, особенно домашний очаг, выступал как символ единства рода и непрерывности поколений. У монголов и тюрков запрещалось плевать в огонь, бросать в него нечистоты, тушить его водой. Осквернение огня считалось тягчайшим преступлением против предков и всего коллектива. Санкцией могло стать не только ритуальное очищение, но и серьезное имущественное взыскание в пользу пострадавшей стороны или всей общины, что уже содержало в зародыше будущие правовые институты компенсации.
Земля, пастбищные угодья, охотничьи территории регулировались системой родовых и племенных границ, маркируемых сакральными объектами – горами, деревьями, курганами (например, *обо* у монголов). Их нарушение приравнивалось к святотатству и являлось casus belli. У финно-угров аналогичную роль выполняли священные рощи (*кереметы* у марийцев и чувашей), доступ в которые и любые хозяйственные действия внутри были строго табуированы. Эти рощи, как показали исследования второй половины XX – начала XXI века (работы В.Н. Петрова, А.С. Казимова), часто служили не только культовыми центрами, но и своего рода «живыми архивами»: границы родовых наделов, места захоронений, историческая память о сделках и конфликтах были закреплены в коллективном сознании через связь с конкретными природными объектами.
Эти системы запретов не были правом в смысле позитивных предписаний государства, но выполняли его ключевые функции: предупреждение конфликтов (путем четкого разграничения прав доступа к ресурсам), разрешение споров (через апелляцию к авторитету традиции и ритуальным процедурам) и обеспечение санкций (от общественного порицания до изгнания). Они формировали **глубинный слой правосознания**, основанный на принципе баланса и сохранения. Данный принцип, условно обозначаемый как «женский» в предложенной теоретической рамке, предшествовал и зачастую переживал более поздние наслоения «мужских» имперских систем, таких как Яса, которые не отменяли эти табу, а встраивали их в свою административную логику, трансформируя, например, в нормы об охране ханских заповедных земель или регламентации пользования водопоями. Таким образом, догосударственные практики не исчезали, а становились первым, базовым слоем в формирующейся стратиграфии права.
1.2. Священные ландшафты как архивы: топографическая память и фиксация права
Догосударственные общества, не располагавшие письменностью в ее классическом понимании, выработали сложные системы сакральной топографии, в которых функции хранения и передачи социально-правовой информации были делегированы ландшафту. Природные и рукотворные объекты – священные рощи, горы, источники, родовые кладбища – служили не только культовыми центрами, но и материальными носителями коллективной памяти, выполняя роль устойчивых, общепризнанных «архивов». Эти системы обеспечивали фиксацию прав, прежде всего на ключевые ресурсы – землю и пастбища, а также закрепляли структуру родственных связей и историю межродовых договоров.
У народов Среднего Поволжья, в частности чувашей и марийцев, эту функцию выполняли **кереметы** – священные рощи, почитаемые как места обитания духов предков или низших божеств. Исследования этнографов XIX-XX веков (В.К. Магницкий, Н.И. Ашмарин), а также современные полевые работы (А.В. Губин, 2018) демонстрируют, что каждая такая роща была неразрывно связана с конкретным родом или селением. Ее границы, отмеченные старыми деревьями, оврагами или ручьями, символически и фактически маркировали территориальную юрисдикцию коллектива. Ритуальные запреты на хозяйственную деятельность (рубку, пастьбу, пахоту) внутри керемета обеспечивали физическую неприкосновенность этой «живой межи». Память о том, какой род каким кереметом владеет, передавалась из поколения в поколение через регулярно совершаемые коллективные жертвоприношения и моления. Таким образом, священная роща выступала гарантом незыблемости границ и прав рода на прилегающие угодья, а ее осквернение или захват воспринимались как акт войны, требующий санкций по нормам обычного права.
В бурятской традиции аналогичную роль играли **усы** (үсэ) – родовые горные святилища, места поклонения хозяевам-эжинам местности. Каждый бурятский род имел свой ус, где хранились онгоны (изображения духов-покровителей) и совершались регулярные тайлганы (жертвоприношения). Работы современных исследователей бурятского права (М.Н. Балдано, 2021) указывают, что территория, с которой род ассоциировал себя и на которую распространялись его хозяйственные права, была концептуально «привязана» к такому святилищу. Усы служили точками сборки родовой идентичности и пространственными маркерами, разграничивавшими юрисдикции разных родов. Их местоположение и связанные с ними предания фиксировали историю расселения и межродовых договоренностей о границах пастбищных и охотничьих угодий.
У народов Алтая, в частности у алтай-кижи и теленгитов, функцию социально-правового архива выполняли **айылы** (айлы) – традиционные поселения, понимаемые не просто как совокупность жилищ, а как сакрально осмысленное родовое пространство, включающее дом, хозяйственные постройки, прилегающую территорию и родовую гору. В работах этнографов (Л.И. Шерстова, 2005; современные полевые данные С.С. Амосовой, 2023) подчеркивается, что айыл был носителем правовой информации о системе родства, наследовании имущества и пользовании землей. Родовая гора, часто носящая имя основателя, служила неотъемлемым элементом этой системы, визуально закрепляя связь коллектива с территорией. Передача прав на айыл и связанные с ним угодья происходила в рамках строгой генеалогической логики и сопровождалась ритуальными действиями у родовых святынь, что делало сделку легитимной и запоминаемой.
Эти системы «ландшафтного архивирования» представляли собой эффективный социальный механизм в условиях устной культуры. Они обеспечивали публичность, стабильность и интергенерационную передачу правовых отношений, минимизируя потенциальные споры. Важно отметить, что с наложением более поздних правовых систем – Российской империи, советского государства – данные сакральные объекты не утратили своего значения. Напротив, они часто становились точками сопротивления или адаптации. В советский период, например, факты тайных молений в кереметах или у усов фиксировались в отчетах уполномоченных по делам религий как проявления «пережитков», что косвенно подтверждает их устойчивость как маркеров коллективной идентичности и права. В постсоветское время наблюдается процесс ревитализации этих мест, часто в рамках культурно-этнического возрождения, что свидетельствует о сохранении их глубинной социально-мнемонической функции, пусть и в трансформированном виде. Таким образом, священные ландшафты сформировали еще один устойчивый пласт в системе правового наслоения, где право было материализовано не в тексте, а в топографии.
1.3. Ритуальные практики как договор: перформативная фиксация обязательств
В догосударственных обществах отсутствовали формализованные институты для удостоверения сделок и обязательств, аналогичные современному нотариату или договорному праву. Их функцию выполняли сложные ритуальные практики, которые через перформативное действие – произнесение клятв, совершение жертвоприношений, выполнение обрядов – придавали соглашению публичный, сакральный и потому обязательный характер. Эти практики конституировали договорные отношения, фиксировали их содержание и активировали механизмы санкций в случае нарушения, выступая прототипом будущих правовых процедур.
Ключевую роль играли **клятвы, приносимые на сакральных природных объектах**. У многих народов Евразии, включая тюркские, монгольские и финно-угорские, высшей гарантией истинности утверждения или верности договору служила клятва, произнесенная у священного камня, дерева, горы или родника. Например, у башкир и казахов существовала практика клятвы на камне (*таш ант*). Считалось, что дух места становится свидетелем и гарантом договора, а его нарушение влечет наказание со стороны этого духа – болезнь, смерть, неурожай. Этнографические записи XIX века, такие как материалы А.Е. Алекторова (1885) по казахам, фиксируют, что подобные клятвы использовались для скрепления соглашений о разделе пастбищ, разрешении кровной мести или гарантиях безопасности. Публичный характер обряда, совершаемого в присутствии рода, обеспечивал социальный контроль за исполнением.
Особой формой заключения и гарантии договора выступало **жертвоприношение**. Актом дарения сакральным силам (духам предков, духам местности) скреплялись наиболее важные межродовые соглашения – о мире, союзе, браке. Совместное вкушение жертвенного мяса (обычая, зафиксированного, в частности, у монголов и калмыков) символически создавало между сторонами узы родства и взаимных обязательств, нарушение которых считалось святотатством. В работе современного исследователя обычного права казахов Р.С. Карсакбаевой (2019) отмечается, что подобные «кровавые договоры» (*канды келісім*) рассматривались как нерасторжимые, а санкцией за их нарушение объявлялась кровная месть. Таким образом, ритуал трансформировал межгрупповое соглашение из сферы условного в область абсолютного, подкрепляя его сверхъестественными и самыми суровыми социальными санкциями.
Свадебный обрядовый комплекс служил институциональной рамкой для фиксации одного из ключевых имущественных соглашений – **калыма** (выкупа за невесту). Калым не был простой куплей-продажей; это была сложная компенсация роду невесты за потерю работницы и продолжательницы рода, а также механизм создания имущественной основы для новой семьи. Ритуал свадьбы, растянутый во времени и состоявший из множества этапов (сговор, обручение, уплата частей калыма, собственно свадьба), обеспечивал поэтапную фиксацию и публичное признание обязательств. Каждый этап сопровождался конкретными действиями: передачей определенного количества скота (основная часть калыма у кочевников), вручением подарков, совместными трапезами. Эти действия, совершаемые в присутствии многочисленных свидетелей из обоих родов, делали соглашение очевидным и обязательным. Этнографические исследования, такие как работы Н.В. Бикбулатова (1969) по башкирам, детально описывают, как размер, состав и сроки выплаты калыма жестко регламентировались обычаем, а их нарушение могло привести к расторжению брака и межродовому конфликту. Ритуал, таким образом, инкорпорировал нормы имущественного права, обеспечивая их соблюдение через механизмы коллективного контроля и родовой чести.
Эти ритуально-договорные практики формировали важнейший пласт регулятивной культуры, в котором правовая норма была неотделима от религиозного представления и социального действия. Они создавали прецеденты, формировали ожидания и структурировали отношения собственности и обязательств. Когда в регионе начали накладываться письменные правовые системы (Яса, затем шариат и российское право), они не отменили эти практики, но часто пытались их регламентировать, ограничить или подчинить своей логике. Например, калым, хотя и осуждаемый с позиций шариата как неисламский обычай и законодательно запрещенный в советский период, продолжал и продолжает существовать в адаптированных, часто символических формах, демонстрируя устойчивость ритуальных механизмов фиксации договоренностей, укорененных в глубинных структурах правосознания.
1.4. Источники для реконструкции догосударственного права: этнографические корпуса
Реконструкция догосударственных правовых практик, по определению не оставивших письменных кодификаций, опирается на два основных комплекса источников: этнографические записи, сделанные в период активного бытования или частичного сохранения этих обычаев (вторая половина XIX – начало XX века), и современные полевые исследования, фиксирующие их реинтерпретации и трансформации в условиях поздне- и постсоветской действительности вплоть до 2025 года. Совокупный анализ этих материалов позволяет провести историко-антропологическую верификацию существования и содержания обсуждаемых регулятивных механизмов.
**Этнографические экспедиции XIX – начала XX века** зафиксировали обычное право народов Евразии в период, предшествующий его тотальной модернизации и советской трансформации. Исключительную ценность представляют труды В.В. Радлова. В частности, его четырехтомный труд «Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи» (1866-1907), содержащий не только фольклорные тексты, но и подробные описания быта, обрядов и правовых обычаев казахов, киргизов, алтайцев. Его «Этнографический обзор тюркских племен Сибири и Монголии» (1884) служит систематизированным источником по нормам брака, наследования и разрешения споров. Работы Н.Н. Харузина, особенно его «Этнография» (1905) и монографии по отдельным народам (например, «Киргизы Букеевской орды», 1889), содержат детальные наблюдения за адатом, включая описание судебных процессов у биев, института присяги и композиций. Материалы этих исследователей хранятся в архивах (РГО, Архив РАН) и представляют собой первичные полевые записи, протоколы бесед с информантами, что обеспечивает их высокую достоверность. Аналогичные данные по финно-угорским народам содержатся в трудах В.К. Магницкого («Чувашские языческие имена», 1905), Н.И. Ашмарина и других участников научных экспедиций Русского географического общества.
**Современные полевые исследования (конец XX – начало XXI века)** позволяют проследить судьбу догосударственных правовых элементов в изменившихся социальных условиях и оценить их устойчивость. Важнейшую роль играют материалы, собранные Центром этнологических исследований Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (ЦЭА УНЦ РАН). Систематические экспедиции центра в районы Республики Башкортостан, Оренбургской области и сопредельных территорий, проводившиеся в период с 1990-х по 2020-е годы, фиксируют сохраняющиеся в памяти информантов нормы обычного права, ритуальные практики, топонимические предания, связанные с сакральными объектами. Опубликованные монографии и статьи на основе этих материалов (например, работы А.В. Губина, З.Г. Аминева) содержат транскрипты интервью, в которых респонденты детализируют правила пользования общинными землями, принципы организации взаимопомощи (*өмә*), пережиточные формы калыма и процедуры примирения. Эти данные демонстрируют не просто «пережитки», а активно используемые, хотя и модифицированные, стратегии поведения в сферах, недостаточно или неэффективно регулируемых государственным правом (земельные отношения, локальные конфликты).
Кроме того, для кросс-культурного анализа и углубления теоретической интерпретации привлекаются современные зарубежные исследования по правовой антропологии и экологическому праву коренных народов, опубликованные в период до 2025 года. Эти работы позволяют поместить евразийские материалы в сравнительный контекст и использовать разработанные в мировой науке аналитические модели для изучения взаимодействия устной традиции, ритуала и права.
Таким образом, сочетание классических этнографических записей, зафиксировавших систему в относительно «живом» состоянии, и данных современных полевых исследований, выявляющих механизмы ее адаптации и устойчивости, создает надежную эмпирическую базу для анализа догосударственного права как первого и фундаментального слоя в общей стратиграфии правового наслоения.
Глава 2. Яса Чингисхана: не изобретение, а реставрация
2.1. Исторический контекст: кризис родового порядка как вызов
Формирование Ясы Чингисхана (Великой Ясы) в начале XIII века не было спонтанным «изобретением» права, но представляло собой системный ответ на глубокий кризис нормативного порядка в степном мире Центральной Азии. Этот кризис был вызван неспособностью традиционных родовых и племенных структур регулировать отношения в условиях растущей политической конкуренции, экономического давления и военной мобилизации конца XII века. Анализ источников, в первую очередь «Сокровенного сказания монголов» (датируется серединой XIII века), а также более поздних персидских (Рашид ад-Дин) и китайских («Юань ши») хроник, позволяет реконструировать ключевые вызовы, которые привели к необходимости кодификации.
Основным вызовом была **дезинтеграция родовых (обо) и племенных союзов** как эффективных политико-правовых единиц. Степное общество того периода характеризовалось перманентной межплеменной и межродовой войной (барымтой), целью которой был захват скота, пастбищ и людей. Система кровной мести (кисас), основанная на коллективной ответственности рода, вела к затяжным, самовоспроизводящимся конфликтам, подрывавшим хозяйственную стабильность. В «Сокровенном сказании монголов» этот период описывается как время, когда «всемонгольское государство распалось, и каждый улус жил отдельно», а «люди грабили друг друга» (§ 50-52). Экономический фактор усугублялся демографическим давлением и климатическими изменениями, что приводило к обострению борьбы за ограниченные ресурсы, в первую очередь за ключевые пастбищные угодья и водные источники. Догосударственные обычаи, рассчитанные на поддержание баланса внутри относительно стабильных и небольших коллективов, не могли обеспечить регулирование в масштабах всего степного региона.
Вторым вызовом стала **отсутствие наднационального механизма для разрешения споров и мобилизации на общие цели**. Межродовые советы и авторитет старейшин оказывались недостаточными для урегулирования конфликтов между крупными племенными объединениями, такими как кереиты, найманы, татары и собственно монголы. Не существовало единого, общепризнанного источника легитимной власти, способного монополизировать право на насилие и принуждение к миру. Этот правовой вакуум препятствовал созданию устойчивых военно-политических коалиций, необходимых как для обороны, так и для экспансии.
Таким образом, к моменту возвышения Темучина (будущего Чингисхана) степное общество переживало системный кризис, который в терминах институциональной теории может быть определен как кризис порядка, основанного на неформальных, партикулярных нормах. Старые механизмы социального контроля, действовавшие в рамках рода, перестали работать на межродовом и межплеменном уровне. Потребовался новый нормативный порядок, способный интегрировать разнородные коллективы под единой властью, прекратить внутренние распри и перенаправить насилие вовне. Именно этот исторический контекст – кризис масштаба и поиск универсальной для всех племен легитимности – сформировал предпосылки для создания Ясы не как отмены старых обычаев (адата, төре), а как их насильственного упорядочивания и подчинения единой высшей цели: строительства империи. Яса возникла как инструмент преодоления кризиса родовой раздробленности путем наложения поверх партикулярных обычаев универсального имперского правового каркаса.
2.2. «Старый закон»: реконструкция нормативной основы дочингизидской степи
Одним из ключевых свидетельств о преемственности Ясы по отношению к более древним правовым системам является упоминание в «Сокровенном сказании монголов» (§203). В контексте подготовки к курултаю 1206 года, провозгласившему Темучина Чингисханом, указывается: «Прежние порядки [старые законы] были забыты. [Он] вновь утвердил государственные порядки». Эта формулировка позволяет выдвинуть гипотезу о том, что Яса не была создана эксклюзивно, а представляла собой реставрацию, унификацию и усиление уже существовавшего в степной среде нормативного комплекса, который в условиях кризиса конца XII века пришел в упадок или не соблюдался. Реконструкция содержания этого «старого закона» опирается на сравнительный анализ более поздних сведений о праве тюрко-монгольских народов и данные исторической лингвистики.
Под «старыми законами», вероятно, подразумевалась совокупность обычаев и правовых принципов, известных в дочингизидской степи под терминами **төре** (түрк. *töre*) и **идик** (кыпч. *yıdıq* или *ıdıq*). Термин «төре» является общетюркским и обозначает обычай, установленный порядок, закон. В тюркских каганатах VI–VIII веков он уже фигурировал как понятие, связанное с государственным правлением и сводом неписаных правил. В работах современных исследователей (Д.М. Исхаков, 2016; И.Л. Кызласов, 2005) отмечается, что төре регулировало вопросы военной организации, суда, наказаний и общественного порядка в рамках племенных союзов. Его нормы, передававшиеся устно, были основой легитимности власти кагана и знати.
Термин **«идик»** или **«идикт»** (священный, установленный), по мнению ряда исследователей (С.Г. Кляшторный, А.И. Плетнева), мог обозначать у кыпчаков (половцев) свод сакрализованных обычаев и табу, регулировавших не только общественную жизнь, но и отношение к природным ресурсам. Этот комплекс включал в себя рассмотренные ранее экологические табу, нормы гостеприимства, правила ведения войны и общие принципы разрешения споров через институты старейшин или военных вождей. Нормативное содержание идиката реконструируется фрагментарно по косвенным упоминаниям в восточных хрониках и поздним этнографическим параллелям у народов, сохранивших кыпчакский субстрат.
Таким образом, гипотеза заключается в следующем: «старые законы», о которых говорит источник, представляли собой разрозненный и ослабленный в условиях междоусобиц корпус обычного права (төре) и связанных с ним сакральных установлений (идик), общий для различных тюркских и монгольских племен степного пояса. Чингисхан, объединяя разноплеменную конфедерацию, не отменил этот корпус, а предпринял его масштабную кодификацию и адаптацию к задачам строительства централизованной военно-административной империи. Яса стала не отменой төре, а его имперской версией: она закрепила и усилила те его аспекты, которые работали на унификацию и дисциплину (например, принцип безусловной верности предводителю и суровые наказания за измену), и, возможно, подавила или модифицировала те, что поддерживали партикуляризм родов (например, смягчив или канализировав практику кровной мести в пользу централизованного суда). Поэтому утверждение Ясы может быть интерпретировано как восстановление авторитета общего для всех племен «старого закона», но уже в новой, императивной редакции, подчиненной фигуре каана. Это подтверждает тезис о наслоении: Яса стала не первым, а новым, доминирующим слоем, наложенным на глубоко укорененный пласт степного обычного права.
2.3. Структура Ясы: имперский каркас как ответ на кризис
Полный текст Великой Ясы не сохранился и реконструируется по упоминаниям и фрагментам в трудах персидских, арабских, армянских и китайских историков XIII-XIV веков (Рашид ад-Дин, Джувейни, Григор Акнерци). Анализ этих реконструкций позволяет выделить три взаимосвязанных структурных принципа, которые превратили Ясу из свода обычаев в инструмент имперского строительства: военно-административная унификация, монополизация насилия и эзотерический контроль над знанием закона.









