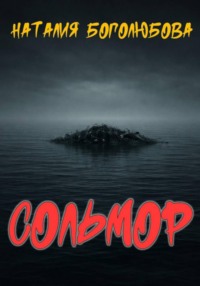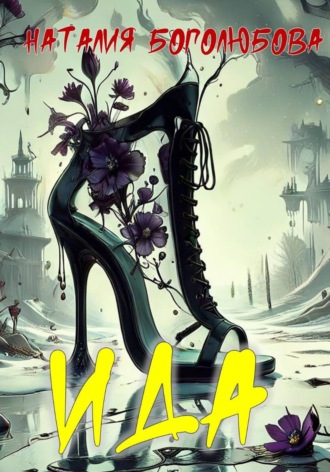
Полная версия
Ида
Ида свернула в переулок. Её нога скользнула по влажному камню – девушка чуть не упала.
Шаги Гнилохвата уже за спиной – влажные, хлюпающие…
Дверь в подвал зияла тёмной дырой.
Девушка влетела внутрь, захлопнула дверь, задвинула засов.
Рухнула на каменный пол.
Грудь вздрагивала, дыхание кололо рёбра.
Ида затаилась в темноте. Закрыла глаза.
Вслушалась. Тишина…
И только тогда позволила себе подумать:
она выжила. Ей повезло.
Пришли слёзы – тяжёлые, солёные, горячие…
От ужаса, густого и липкого как смола.
От одиночества, что дышало рядом.
От осознания, что мир стал чужим и хищным.
Иде казалось, что если она опять поднимется наверх,
то станет частью этой огромной, живой, голодной ткани,
которая медленно и неотвратимо поглощала всё вокруг.
СКОРО ВЕРНУСЬ
Ида стояла у развалин магазина – у того самого, где когда-то продавали свежеиспечённый хлеб и дешёвые тетради с блёклыми рисунками. Теперь от него осталась почти одна тень: перекошенная витрина, оплавленный жестяной каркас крыши, да обугленный запах, который никак не выветривался, будто сам воздух цеплялся за былое, не желая отпускать.
На выбитом стекле, прорезая собой мрак и пустоту, всё ещё держалась надпись маркером:
«СКОРО ВЕРНУСЬ».
Маркер выцвел, расплылся под дождями, но буквы – живые, злые – будто бы вплавились в стекло, стали его частью. Ида смотрела на них так, как смотрят на надгробия: долго, тихо, не мигая.
«Скоро»…
Смешное слово. Призрак. Тень языка, который принадлежал эпохе, где время ещё не умерло, не распалось на лоскуты. Тогда «скоро» значило дни, часы, минуты. Теперь – это было что-то вроде молитвы, которую никто не услышит.
Ночью лёг снег – светлый, девственный, чистый, будто не с неба упал, а просочился из другой, не сломанной реальности.
Не к месту. Не ко времени.
Здесь, среди обугленных стен, такая чистота выглядела почти непристойно. Ида уже перестала верить, что мир может быть иным.
И вдруг… среди этой белизны девушка увидела следы.
Не рваные, не хаотичные, не звериные. Чёткие отпечатки подошв, уходящие вперёд ровной линией.
Кто-то шёл уверенно, не спеша. Кто-то живой.
Ида подошла ближе.
Наклонилась.
Даже дыхание задержала – снег был таким свежим, что казалось: вдохни – и смоется весь узор, разрушатся чьи-то последние шаги, последние сомнения, последнее… присутствие.
«Человек», – думала она. – «Наконец-то… человек».
Сердце забилось быстрее, но не от страха. От ожидания.
Следы вели на пустырь – туда, где из белой земли торчали обнажённые рёбра разрушенных домов.
Ида вздрогнула – то ли от холода, то ли от дурного предчувствия…
Каждый кирпич там был застывшим криком, каждое окно – пустой глазницей. Каждый провал в стене – укус, оставленный кем-то крупе времени.
Девушка шла минут пять. Может, больше. Здесь время не умело держать форму. Оно крошилось, рассыпа́лось, застревало между шагами, как ледяная крошка в швах ботинок. Ида продолжала идти по следам, позволяя себе редкую, почти преступную надежду.
И вдруг – следы оборвались.
Дальше – идеальная пелена нетронутого снега.
Белизна была не ласковой, не радостной.
Она была слепящей, стерильной, как бинты в морге.
Снег не искрился. Он молчал.
Девушка остановилась.
Сердце ударило раз, второй.
Снег лежал ровно, как аккуратно заправленная постель.
Слишком ровно. Слишком правильно.
Ида замерла.
Ужас пришёл не сразу. Сначала было недоумение.
Потом холодное, липкое подозрение.
А уже после него, медленно, как яд, начал подниматься страх.
Такой, от которого немеют пальцы, будто кровь в них превращается в стекло. Страх, который не кричит и не толкает бежать, а уговаривает остановиться, врастает в суставы, утяжеляет колени, шепчет, что следующий шаг не просто опасен – он окончателен.
Такой страх лишает будущего, оставляя только вязкое «сейчас», где даже дыхание кажется лишним, где хочется застыть, вмёрзнуть в сугроб, лишь бы не пересекать невидимую черту, за которой мир уже сделал выбор за тебя.
Но Ида всё же шагнула.
Снег не скрипнул.
Сделала второй.
Ни звука.
Тишина вокруг была плотной, как ватный тампон, вдавленный в ухо. Снег вокруг оставался безупречным, нетронутым… поддельным.
Ида почувствовала – тем древним, животным инстинктом, который появляется раньше мысли – внезапную пустоту под ногами.
Существо не спешило. Оно дало ей время – ровно столько, чтобы надежда успела расправить плечи и тут же сломаться.
Ида поняла: следы были приманкой. Существо знало.
Знало, как выглядит надежда. Знало, что следы значат для неё.
Эти следы обрывались не случайно – они заканчивались там, где девушка должна была остановиться и поднять глаза.
И она подняла.
Земля под снегом стала мягкой, податливой, живой.
Белая гладь вздулась, вспучилась, и из неё медленно, с ленивой уверенностью, начали подниматься формы.
Сначала что-то похожее на спину, горбатую, бугристую, усыпанную ледяными наростами.
Затем – конечности, похожие на обломки перил, обросшие инеем и сухожилиями. Они несли на себе следы чужих попыток бегства: лоскуты ткани, волос, тёмные пятна, вмёрзшие в лёд навсегда.
Существо поднималось без спешки, как если бы знало, что убегать здесь некуда. Туловище твари медленно вытягивалось из снега, словно город сам выдавливал её наружу. Нижняя часть была рыхлой, слоистой, будто состояла из смёрзшихся тел.
От него пахло старыми сгнившими простынями, тем особым холодом, который бывает у мёртвых тел.
А потом поднялась голова.
Последней. С нарочитой медлительностью. Вместо лица – вогнутая пустота, заполненная мутным, молочным льдом.
Под этой коркой что-то жило – скользили тени. Медленно. Осмысленно. Они плавали, сталкивались, слипались.
Снег вокруг вдруг начал вести себя неправильно – задрожал, потом закружился – не хаотично, не по ветру.
С неестественной покорностью, будто его кто-то звал.
Беззвучно, настойчиво.
Белые хлопья тянулись к чудищу, липли к его телу, намертво приставали к ледяной плоти, как если бы находили наконец-то, ради чего падали с неба.
Слой за слоем.
Снег становился кожей.
Он нарастал тяжело, с торжественной неизбежностью обряда. Существо увеличивалось, как памятник смерти, который воздвигают не из камня, а из забытых зим, несбывшихся дорог и замёрзших надежд.
Ида хотела бежать, но ноги не слушались. Страх сковал её так плотно, будто позвоночник залили холодным свинцом. Воздух стал густым. Каждый вдох резал горло.
Ледяные конечности потянулись к девушке, медленно, уверенно. Чудовище не боялось. Оно знало, что Ида никуда не денется.
И тогда снег вспыхнул движением.
Силуэт. Высокий. Прямой.
Движущийся не вопреки этому кошмару, а в согласии с ним. Шаги его не тонули в снегу, не вязли, не оставляли следов, будто земля сама подставляла ему опору. В нём не было паники, не было суеты беглеца. Он шёл так, будто здесь уже был.
Юноша. Светлые волосы. Лицо спокойное, но не холодное. Скорее сосредоточенное, как у человека, который держит в голове слишком много, а времени – слишком мало. Тёмно-синие глаза – острые, холодные осколки льда.
Незнакомец шагнул к чудовищу.
Снежная тварь отреагировала сразу. Её торжественность дала трещину. Снег на её теле начал осыпаться мелкими лавинами.
Матовое ледяное лицо покрылось рябью – тени внутри заколыхались, сбились в стаи, почуяв хищника опаснее себя.
Мгновение, и юноша оказался рядом с Идой, без рывка, без звука.
Рука сомкнулась на её запястье.
Тепло было настоящим.
Живым, плотным, резким, почти болезненным.
Оно ударило в ладонь, поднялось по венам, отозвалось в груди.
Ида судорожно вдохнула.
Мир, до этого плоский и ледяной, вдруг обрёл глубину.
Ужас не исчез, но стал отступать, как тьма от огня. Нехотя, с обидой. Пальцы её дрожали, но не от холода. От узнавания.
Она знала это тепло.
Не разумом.
Не памятью.
Кровью.
Он наклонился к ней, и в этом движении не было защиты, но была уверенность. Такая, от которой хочется подчиниться не потому, что слаб, а потому что больше не нужно бороться одному.
Его голос прозвучал тихо, почти буднично, но в этой тишине он оказался громче любого крика.
– Не смотри на него. И не отпускай руку.
Снежное чудище дёрнулось. Его корни ударили по земле, снег взвился, воздух застонал, словно город попытался вмешаться. Но мужчина уже тянул Иду за собой, не бегом, не рывком, а тем быстрым, точным шагом, которым уходят из обречённых мест те, кто знает дорогу. Девушка оглянулась всего на миг.
Тварь уменьшалась. Она ещё оставалась страшной, огромной, смертоносной, но вдруг стала размытой. Как кошмар, который ещё продолжается, но ты уже понимаешь, что скоро проснёшься.
Туман снова сомкнулся за их спинами.
Когда они бежали, Ида попыталась выговорить вопрос, но слова застряли, рассы́пались, не выдержав скорости.
Она знала, что должна спросить: «Кто ты? Откуда?»
Мужчина сам ответил не оборачиваясь.
– Милан.
Имя пронзило сознание, отозвалось фантомной болью.
А потом библиотека.
Лестница вниз.
Чёрный провал входа.
Скрип дверей.
Подвал, пахнущий пылью, старой бумагой.
Стальные двери, холодные, надёжные, исцарапанные временем.
Здесь тьма была иной.
Не хищной.
Спасительной.
Ида опустилась на пол. Руки дрожали.
Она подняла на него взгляд.
Милан стоял рядом, высокий, светловолосый, слишком спокойный для этого места.
В его глазах было что-то древнее и усталое, как у того, кто слишком долго идёт за одной и той же тенью.
– Почему ты спас меня? – спросила она.
Юноша промолчал, будто решил, этому миру не стоит этого знать.
И сделал шаг назад.
Туман уже тянулся внутрь, сочился в проёмы, как живая пыль.
Милан отступил в него. На мгновение Иде показалось, что он улыбается, но это могла быть игра света.
Когда туман рассеялся, Милана уже не было.
Остались книги. Сталь. Тишина.
И медленно остывающее тепло в ладони.
НЕ ВЫДУМЫВАЙ
Мир ломается не в момент катастрофы.
Он ломается задолго до неё.
Тихо. Почти извиняясь.
И всегда – на глазах у детей, которым взрослые не верят.
В шесть лет Ида заметила, что тени иногда запаздывают.
Мяч уже катится по двору, а его тень всё ещё лежит под ногами.
Мать, взглянув мельком, сказала: «Не выдумывай», —
и тень тут же послушно вернулась на место,
словно испугалась, что её заметили.
– Тебе показалось, – усмехнулся отец.
А Иде так хотелось, чтобы хоть кто-то поверил, подтвердил:
«Да, мир ломается».
С годами это ощущение только усиливалось.
Ида чувствовала это телом.
Кожей.
Затылком.
Она научилась не паниковать.
Слушать тишину.
Смотреть на края.
Запоминать странности,
не давая им раствориться в привычке.
Она ещё не знала слов «разлом», «аномалия».
Но знала главное:
мир скоро перестанет притворяться.
К тринадцати Ида поняла: взросление – это не про тело.
Оно про способность смотреть в бездну…
и не отводить взгляд.
В шестнадцать Ида больше не задавала вопросов вслух.
Ответы приходили сами, тяжёлые, неприятные, но точные.
Когда в доме умерла соседка, Ида стояла у окна и видела, как из подъезда вынесли тело.
Всё было правильно: люди, носилки, простыня.
Только тень под простынёй была слишком длинной, растекалась по асфальту, цеплялась за бордюр и не хотела возвращаться.
Тогда Ида впервые подумала, что смерть – это не точка. Это дверь, которую иногда забывают закрыть.
На следующий день, небо провисло, как плохо натянутое полотно, но мир ещё дышал ровно, без хрипов.
Улицы были наполнены обычным шумом, не несущим угрозы: шуршание шин по мокрому асфальту, разговоры, смех, кофейные машины, плюющиеся паром.
Ида зашла в кофейню, спасаясь от ветра. Колокольчик над дверью звякнул негромко, без тревоги. Внутри было тесно, уютно. Люди говорили о пустяках. Смех не резал слух. Стаканы не дрожали.
Она встала в очередь, разглядывая своё отражение в стекле витрины.
Он сидел у окна.
Бажен.
Имя она узнает позже, но вздрогнет сразу.
Не от страха – от узнавания, которому не находилось объяснений.
Ида поймала его взгляд случайно – и тут же отвела глаза, ощутив, как сердце отозвалось глухим толчком.
Он улыбнулся, вежливо, сдержанно.
– Простите, – сказал он, когда она уже взяла стакан и повернулась, – не вы уронили?
На полу лежала её перчатка. Ида не помнила, как она выскользнула из кармана.
– Спасибо, – сказала она и вдруг поймала себя на том, что внимательно рассматривает его лицо.
Они разговорились легко.
О кофе. О погоде. О том, что в этом городе слишком часто меняют вывески.
Он говорил спокойно, чуть иронично, и в его словах не было ни нажима, ни пустоты.
Они стали встречаться.
Прогулки.
Короткие разговоры.
Редкие касания рук, от которых не бросало в жар, но становилось чуть тише внутри.
Ида замечала странное: рядом с Баженом мир казался устойчивым. Как будто рядом с ним всё возвращалось на места.
Часы снова шли ровно. Небо не меняло цвет без причины.
Она ловила себя на мысли, что рядом с ним
можно было бы прожить жизнь.
Спокойную. Правильную.
Такую, о которой потом говорят:
«Ничего особенного, но неплохо».
И именно это её пугало.
Любви не было.
Той, от которой подкашиваются ноги.
Было уважение.
Тепло.
Симпатия.
Удобство.
Рядом с Баженом Ида верила: мир, возможно, не сломается.
«Может, любовь – это не всегда пожар?
Может, это просто тёплый свет?» – думала девушка.
Иногда ей снились сны.
В них был снег,
которого не было в прогнозах.
Музыка, доносящаяся издалека, будто
кто-то репетировал вальс в пустом доме.
И мужчина с синими глазами,
в которых утонуло время.
Просыпаясь, Ида долго смотрела в потолок,
чувствуя смутную вину —
не перед Баженом, а перед тем,
чего ещё не случилось.
А потом мир рухнул…
ЛЮБАВА
Город Мегловск, 1893
Зима ползла по земле, медленно вытягивая свои ледяные лапы.
Снег не падал – он стекал с крыш, как густая замёрзшая слюна.
Иногда хлопья падали с веток – медленно, лениво, бесшумно, словно чьи-то давно застывшие воспоминания сползали на землю.
Вечер растекался по саду, как чернильное пятно. Холод – рваными, ледяными лоскутами – вплетал тишину в каждый куст.
Дом, в котором жила Любава Беловская, дремал. Толстые стены выдыхали холод; стёкла были матовыми, как глаза слепого; балки постанывали – так, что временами казалось, будто дом рассказывает свои старческие, бесконечные сны. Снег был не белым – а серым, пепельным, будто пропитался пылью времени.
Любава смотрела на эту серость и чувствовала, как в груди разрастается странное чувство: смесь тревоги и мучительного предвкушения.
На столе лежало письмо. Плотный лист бумаги, чуть пожелтевший, с сургучом цвета засохшей крови. И было ещё что-то… Едва уловимый, сладковатый аромат пчелиного воска – будто письмо держали над свечой слишком долго.
Любава знала: письмо не приглашает, а зовёт. В город Мегловск – тот самый, что описывали в толстых журналах.
Город, где улицы, запутанные, как паутина, шумят днём и шепчут ночью. Дома, высокие и холодные, тянутся ввысь, как скелеты. На площади пахнет горячими каштанами и сладкой ватой, но под этим медовым слоем притаились тьма, стужа и гниль.
Девушка вздрогнула от этой мысли и с тревогой посмотрела на спящую мать.
Её дыхание – тяжёлое, размеренное…
Мать болела уже давно – и, казалось, болезнь делала её слабее, прозрачнее с каждым днём.
Снаружи что-то щёлкнуло.
Калитка. Скрип – лёгкий, тонкий, будто чужая рука коснулась ржавого железа. Девушка дёрнулась, сердце остановилось на миг. Но никто не вошёл. Она видела только, как ветер, будто единственный хозяин этого сада, пробегает между яблонями, трогает ветви, пробует снег на прочность.
Сад был её детством. Её шаги жили в земле, её голос – в листве. Но сегодня в саду что-то изменилось. Любаве показалось: сад глядит на неё как на чужую. И это чувство – странное, липкое – заставило её отступить от окна.
Издали донёсся звук – глухой, мерный: колёса.
Кто-то проезжал мимо усадьбы, не желая останавливаться.
Затем – глухой треск – оглобля рухнула на лёд. Звук разрезал зимнюю тишину и на мгновение повис в воздухе, холодный и голодный, будто всматриваясь в пустоту в поисках слушателя. В этом звуке было что-то окончательное, как удар земли по крышке гроба.
Любава поняла: этот звук – прощание.
Её детство уходит таким же скрипом.
Она вернулась в комнату. Пальцы легли на письмо, и в тот же миг – будто вспышка – холод прошёл по спине. Письмо было тяжёлым, будто в него вложили чью-то судьбу, а не приглашение.
«Ольга Андреевна Куницына желает видеть вас в Мегловске…»
Имя баронессы звучало для Любавы, как шёпот забытого ветра в пустом замке – холодное, зыбкое, почти нереальное. Она казалась призраком, скользящим по залам в старинных платьях, пропитанных запахом старой парчи, сгоревших свечей и увядающих роз. Любава слышала о ней только то, что в свете Ольга Андреевна появляется редко, но… когда появляется – люди говорят о ней долго.
Вечером мать позвала её. Комната была похожа на медленно угасающий костёр: запахи лекарств, розового масла и старости смешивались с темнотой.
– Ты уедешь, – сказала мать. Не спросила; просто произнесла, как приговор.
– Да, мама.
– Правильно. Здесь тебе больше нечего ждать. Здесь всё кончилось.
Девушка почувствовала, как слова ударили её в самое сердце. Мать подняла глаза – тусклые, уставшие, но не слабые.
– И главное – не возвращайся.
– Я буду писать…
Мать замолчала, будто слушает что-то, что слышит только она.
– Не буди меня утром, – попросила она. – Считай, сейчас мы попрощались.
Ночью Любава не пыталась уснуть.
Ветер бил в ставни, как чужое сердце – равномерно, настойчиво, невыносимо живо.
Дом отвечал редкими вздохами, треском, скрипом.
Утром снег стал мягким, словно подтаял не от тепла, а от времени, от старости. Набухшее небо висело низко, давя лошадям на спины, деревьям на плечи.
Любава собрала вещи – мало, слишком мало, чтобы называться багажом, но достаточно, чтобы называться бегством.
Письмо, книги, несколько платьев, серебряный крест – то, что нельзя оставить.
Дом выдохнул холодом ей в спину, когда она подошла к двери.
Деревянные доски под ладонью были ледяными.
За дверью стояла зима – бесцветная, тягучая, та, что приходит только в годы, когда мир устаёт слишком сильно.
Девушка закрыла за собой дверь – дом будто сжался.
Казалось, он дышит ей вслед – болезненно, грустно, тяжело.
Земля под ботинками пружинила, скрипела.
Снег лежал на дороге плотными серыми кляксами.
Любава оглянулась.
Печаль застыла серым комком в горле – безвкусным, тягучим.
Дымно-молочная мгла тянулась между стволами яблонь, цепляясь за ветви, как забытый на ветру бинт.
Возница стоял у дороги, закутанный в такой старый тулуп, будто он достался ему по наследству.
Лошадь дремала, опустив голову, из её ноздрей валил пар – густой, тёплый.
В санях лежала шаль, – серо-зелёная, истлевшая по краям, с едва заметным запахом влажной шерсти. Такая, какой укрывают людей в больницах, когда они уже наполовину не здесь.
– Далеко, барышня? – спросил возница, не поднимая глаз.
– В Мегловск.
Он лишь едва заметно поморщился, как человек, который давно знает плохие новости, и принимает их, потому что больше ничего не осталось.
– Там нынче неспокойно, – пробормотал извозчик глухо.
Любава не стала спрашивать почему. Села в сани.
Снег под полозьями застонал.
Ветер ударил в лицо – ледяной, терпкий. Вкус железа – на языке.
Лошадь тихо фыркнула. Сани тронулись.
Дом – каменный истукан, замерший на вздохе, – казалось, смотрит девушке вслед.
Дорога вдаль тянулась белой лентой, уходящей в чужие судьбы.
Они ехали долго. Поля по обе стороны дороги казались бескрайними плато из мёртвых простыней. Никакого движения – только редкие птицы, тёмные, отчаянные, будто вырвавшиеся из сна. Лошадь шла мерно; стук копыт был единственным звуком, который уверенно доказывал, что мир не умер окончательно.
Любава всматривалась в горизонт, и ей казалось, что каждый холм – это кто-то огромный, скрючившийся, сгорбившийся от вековой усталости, прислушивающийся к их приближению.
Иногда снег казался ей телами – уложенными в аккуратные ряды невидимыми пальцами. Слишком ровными. Слишком тихими.
Временами Любаве казалось, что кто-то касается её плеча – легко, почти дружелюбно. Она оборачивалась – никого. Только редкие вороны, чёрные, как дыры в ткани дня, клевали воздух.
– Видал я одну барышню, похожую на вас, – вдруг сказал возница. – Тоже ехала в Мегловск. Тихая такая. Красивая. Глаза большие. Сидела молча, будто на похоронах собственных мечтаний.
Любава зябко передёрнула плечами.
– И что с ней?
– Говорят… – он затянулся трубкой, выпустил дым, и дым потянулся за санями длинной слепой змеёй. – Говорят, в реке нашли. Только без лица.
Он сказал это так ровно, будто рассказывал о вчерашнем снеге.
Любава медленно повернула к нему голову.
– Что значит – без…?
– То и значит, барышня. – Он пожал плечами. – Вода с неё лицо сняла.
Он говорил без зловещих интонаций – просто факт. Просто ещё одна история, которую дорога выдыхает путникам, чтоб не скучали.
К вечеру они добрались до трактира – скособоченный дом с покатой крышей, облезлой вывеской и ковшом дыма, который вырывался из трубы. Воздух здесь пах хлебом, потом и давней тоской, разъедающей стены, как оспины.
Внутри было людно. Посетители – люди с красными лицами, тяжёлыми плечами – смотрели на Любаву так, будто она принесла с собой сквозняк. Никто не улыбался. Сидели молча, и их молчание было не покоем – напротив, густым напряжением, как перед дракой.
Когда Любава села за стол, все взгляды сосредоточились на ней – долгие, мокрые, внимательные.
Хозяйка – женщина широкая, тяжёлая, словно вырубленная топором, – принесла девушке глиняную миску супа.
– К баронессе, значит? Что ж. Доехали бы.
– Вы её знаете? – спросила Любава.
Женщина рассмеялась – коротко, сухо.
– Её знают все. Она как колокол над городом – видна отовсюду. Глядите ей в глаза поменьше, целее будете.