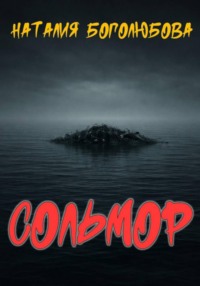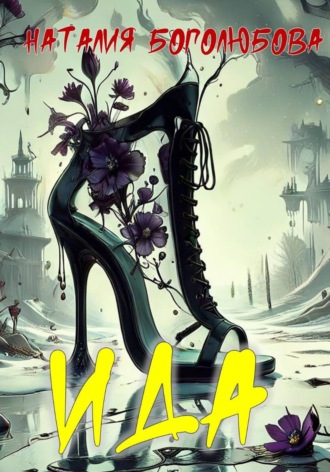
Полная версия
Ида

Наталия Боголюбова
Ида
Город Кромвельск, 2089 г.
Когда последний луч света гибнет,
с хрустом ломаясь о край горизонта,
и проваливается в чёрную пасть тьмы,
город остаётся голым,
как труп без савана.
Тьма здесь не смена суток.
Она – наказание.
Для чудовищ – это музыка.
Песнь кровавого пира.
Колокольный звон, зовущий к добыче.
Они помнят запах тепла.
Помнят вкус крови,
которая ещё движется.
Ида слышит их шаги.
Медленные.
Обдуманные.
Терпеливые.
Она считает
удары сердца
до рассвета.
Каждую.
Проклятую.
Ночь.
СТЕКЛЯННИЦА
Ида проснулась раньше рассвета от ощущения, что воздух стал другим. Он уже не был пустым. Он стал внимательным. Туман подсвечивался белёсым рассветом, но света в нём не было, только молочное, бессильное равнодушие.
Внешне город был неподвижен, но под неподвижностью чувствовалась набухшая, живая внутренняя пульсация.
Как у скорлупы, внутри которой шевелится что-то нерождённое, но уже созревшее.
Девушка поднялась с пола, где спала, и застыла.
Тишина больше не была мёртвой. В ней появились крошечные всполохи – будто кто-то пальцем проводил по стёклам зданий, пробуя, насколько они хрупкие.
«Скр-р-р… скр-р-р… скр-р-р»…
Ида подошла к окну. Туман больше не стлался по земле – он закручивался, свиваясь в тугую, бешеную спираль.
Его белёсые клочья сбивались в комья, наливались плотью, темнели по краям, как старые синяки под кожей мира.
Он набухал, пульсировал, дышал – медленно, мучительно, с хриплым всасывающим звуком… А затем – сорвался с места и прильнул к стеклу.
«Скр-р-р… скр-р-р… скр-р-р»…
Трещинка на стекле.
Как начало чужой улыбки.
За окном – силуэт. Тонкий, высокий, прозрачный.
Лёгкие линии, неровные грани, болезненно вытянутое тело, словно сотканное из слёз отчаяния, застывших на морозе.
Пальцы – длинные, как стеклянные иглы.
Они постукивали по стеклу с удивительной настойчивостью.
«Тик… тик… тик…»
– Стеклянница… – дрожащими губами выдохнула Ида.
Имя пришло, как вспышка – точное, режущее.
Тварь наклонила голову.
Границы её лица дрожали, как жидкое стекло.
Там, где должны быть глаза, было пусто,
но пустота как будто смотрела:
пытливо, тоскливо, нежно…
У чудовища не было рта, но Ида услышала приглушённый шёпот:
«Можно войти?..»
Голос не шёл снаружи.
Он вспыхнул внутри – между висками…
Бархатный, жалобный, почти человеческий шёпот.
Девушка вздрогнула, вскинула руки, прижала ладони к вискам —
но это не помогло.
Голос Стеклянницы был внутри, тревожил мягкие ткани сознания:
– Впусти… мне одиноко…
Пальцы-иглы, царапающие стекло…
«Скр-р-р… скр-р-р… скр-р-р»…
Ида отпрянула. Она могла бы закричать, но страх сковал горло.
Существо продолжало стучать – не злобно, не яростно, а умоляюще.
«Тик… тик… тик…»
«Скр-р-р… скр-р-р… скр-р-р»…
Пальцы оставляли тонкие белые царапины.
Ида чувствовала – стоит ответить —
и Стеклянница проникнет внутрь.
Не ломая стёкол.
Не распахивая створок.
Она войдёт
через трещинку в душе,
через жалость.
Девушка прижалась к стене, хватая воздух рваными глотками.
В груди холод расправил крылья.
Ида закрыла глаза.
Попыталась стать тишиной.
«Тик… тик… тик…»
– Впусти…
Но девушка не отвечала.
Она училась быть немой.
Училась выживать.
Стеклянница плаксиво вздохнула и прижалась к окну.
Белёсый сгусток тумана, блуждающий в темноте в поисках человеческого тепла…
Одиночество, которое вдруг обрело форму и вышло к людям…
«Впусти… Согрей меня…», – шептала она.
На этот раз – мягче, настойчивее, тоньше.
Ида закрыла уши.
Но это было бесполезно.
Голос звучал внутри, расползался по мозгу, как холодная плесень.
Тварь провела пальцами по стеклу, будто лаская его.
Потом наклонила голову – и ударилась лбом о поверхность.
Не сильно.
А затем снова.
Ида прикусила губу.
Слёзы опалили щёки.
И вдруг существо… изменилось – прозрачная фигура начала «таять», словно её стирал ветер.
Напоследок – рваная царапина на стекле —
как обещание вернуться.
Мир, уставший от себя, таял в чернильной мгле.
СЛОМАННОЕ НЕБО
Город Кромвельск, 2089
До катастрофы мир Иды Селивановой был тихим и светлым, невыносимо обычным.
Она жила в старом доме у железнодорожной насыпи. Когда проходил поезд, стёкла звенели, и Ида считала это музыкой. По утрам мать пекла хлеб – запах ржаного теста вплетался в шум ветра. Казалось, сам воздух в доме был тёплым.
Отец Иды работал в Институте метеорологических коррекций – девушка не понимала, что это значит, только знала, что там «чинят небо». Иногда он приносил домой небольшие приборы, похожие на цветы из меди, и разрешал ей крутить их шестерёнки. Когда приборы работали, в комнате пахло дождём и электричеством.
Летом город был похож на живой сад: деревья сочились соком, асфальт дышал жаром, даже тени казались плотными.
Люди смеялись громче, чем нужно, будто старались перекричать тишину, уже стоявшую за горизонтом.
Однажды небо стало странным – слишком высоким, прозрачным. Не было ни солнца, ни дождя – только ровный серый свет, будто кто-то натянул над землёй старую ткань.
Сначала все думали – временно. Что-то нарушилось, но можно починить. Люди ещё ходили по улицам, разговаривали, но голоса их звучали глухо, будто через толщу воды.
Мир рушился тихо, почти вежливо.
Ида слышала обрывки фраз: «атмосферное смещение», «нарушение слоя», «временной разлом» – и всё это звучало как что-то давно запланированное.
А за окном всё выглядело обычно: дворники скребли тротуар, дети гоняли мяч, солнце висело ровно над крышами.
Но однажды солнце не село. Оно просто осталось.
Вечером было светло, как днём, только свет казался больным – жёлто-зелёным.
Никто не комментировал это.
Девушка тогда ещё ходила в школу – серое здание с облупленными стенами, запахом мела и влажных пальто.
Учителя тоже делали вид, что всё в порядке.
На третий день птицы начали падать. Молча, без крика, прямо с неба, будто кто-то вычеркнул их из жизни. Они лежали на мокром асфальте и дёргались в судорогах. По клювам и лапкам текла тонкая, прозрачная слизь. Потом вдруг оживали, но это были не настоящие птицы – глаза пустые, клювы открытые. Ида заметила, что их перья меняли цвет, становились тускло-серыми и местами почти прозрачными. Эти птицы не улетали. Они собирались в стаи и медленно ползли по улицам.
А потом начался запах. Сначала лёгкий, как пыль после дождя. Потом всё сильнее, горьковатый, гнилой.
Этот запах разложения не уходил. Он жил в воздухе.
Ученики стали кашлять, кто-то жаловался на звон в ушах, кто-то переставал спать. Некоторые теряли сознание.
После этого Ида перестала ходить на уроки.
Отец всё чаще возвращался поздно, молчал и глядел на звёзды. Мать закрывала окна бумагой, шептала: «Скоро всё выпрямится».
На окраине города ночью жители наблюдали свечение – не огонь, не грозу, а какую-то медленную пульсацию света.
Ветер стал злым – сухим, колючим. В воздухе стал появляться странный блестящий туман, который оседал на коже липкой плёнкой.
Люди всё ещё ходили на работу, зажигали лампы, пили чай, будто свет и тепло могли вернуть порядок. Но город жил уже по другим правилам. Он как будто стал чужим, дышал в другом ритме, подчинённый странной внутренней логике – или чьей-то воле.
Небо молчало. Облака будто стёрли. На небесном полотне пошли трещины. Прямые, белые, как следы от гигантских когтей.
Утром пошёл дождь. Но не вода. Что-то другое. Прозрачное, но густое, как стекло. Капли не разбивались, они оставались висеть в воздухе – чужие, перекошенные, шепчущие.
Люди ходили по улицам под зонтами, делая вид, что всё в порядке. Только глаза у всех стали одинаковыми – равнодушными, стеклянными.
Казалось, что весь мир превращается в одно огромное тело. Камни, металл, воздух, вода – всё пульсировало в одном неестественном ритме.
Ида тогда не знала, что это мир делает последний вдох – и что скоро всё вокруг станет неподвижным, словно застывшим во сне.
Вдалеке, за домами, медленно растекалось нечто – большое, мягкое. Оно не имело формы. Расползалось, как клубы дыма, как мышцы сна.
Ида пыталась говорить с матерью. Но мать не слушала – просто сидела у окна и шептала:
– Главное – не смотри на свет. Главное – не считай дни.
Потом начались «бури». Они приходили внезапно. Без малейшего дуновения ветра воздух начинал дрожать, вибрировать, будто весь город оказался внутри гигантского органа. Стены домов становились мягкими, асфальт крошился, как сухой хлеб.
На девятый день небо стало гудеть.
Это не был гром – он живой: у него есть размах, дыхание, эхо.
А это…
Холодный, плоский, мёртвый гул.
Сигнал не тревоги, а завершения.
Он не катился по небу, не рвался, не ломался. Он висел. Давил. Расплющивал пространство. В нём не было ни ярости, ни силы – только холодная, бесстрастная точность.
Так звучит пустая больничная палата, когда аппарат показывает прямую линию. Нечто невидимое и беспристрастное будто наклонилось над городом, приложило холодные пальцы к его груди, не нащупало пульса – и без эмоций, без сомнений, включило ровный, бесстрастный сигнал смерти.
Люди зажимали уши ладонями – и всё равно слышали гул внутри головы. У некоторых кровоточили уши.
Ида стояла у окна и прижимала ладони к стеклу. За окном мир дрожал от этого звука. Тонкая кисея облаков вибрировала, словно их обдувал гигантский вентилятор. Но не было ни ветра, ни молнии, ни дождя. Лишь этот гул – равномерный, пугающе спокойный.
А потом – тишина. Абсолютная.
Ида сперва решила – оглохла.
Звук исчез полностью, без остатка, будто невидимая рука одним движением выключила весь мир.
Ни шума улицы, ни шороха листвы, ни дыхания ветра за окном.
Ничего.
Ида стояла посреди комнаты, широко раскрыв глаза.
Уши звенели пустотой, и этот звон становился всё громче, всё тяжелее, пока не превратился в вязкий, глухой ужас, расползающийся под кожей.
Ида прижала ладони к груди. В горле стоял ком.
И вдруг – ей захотелось только одного – обнять маму.
Хотела почувствовать её знакомые руки, чуть шершавые от работы в саду. Хотела прижаться щекой к её мягкому свитеру. Хотела услышать её голос – тёплый, обволакивающий, живой – который всегда умел отогнать страх, даже когда Ида была совсем маленькой.
Девушка позвала:
– Мам?..
Сначала тихо. Потом громче. Голос странно ломался, рвался, будто проходил через густой слой ваты. Она прошла в коридор, босая, настороженная. Замерла. Позвала снова.
Молчание.
Ида побежала в кухню – матери там не было.
Стул на месте. Чашка недопитого чая – тёплая. Пара крошек на столе. Всё выглядело так, будто женщина встала на секунду и должна была вернуться. Должна была – но не вернулась.
– Мам? Пап? – её голос угас. – Папочка?
Папиных ботинок у дверей не было.
Значит, он ушёл… или вышел… или…
Девушка пошла по комнатам. Голос звучал всё тоньше и тише. В какой-то момент он начал дрожать.
Она бегала по квартире, заглядывая в каждый шкаф, проверяя ванную, балкон, антресоли, как будто мать могла каким-то образом взлететь туда и раствориться между коробок.
Но мать не откликалась.
Отец тоже.
Они исчезли так же ровно и бесстрастно, как гудение неба.
Мысль мелькнула внезапно, острым, колючим всполохом.
Позвонить!
Набрать маму, услышать её знакомое «да, доченька?», услышать живой голос, который сразу бы вернул ей ощущение мира, как тёплый свет возвращает форму мёрзнущим предметам.
Ида рефлекторно потянулась к телефону на тумбочке. Пальцы дрогнули – почти облегчённо, почти с надеждой. Но тишина в доме была такой глубокой, что сама мысль о звонке звучала в ней нелепо.
Ида схватила телефон, и пальцы её дрожали, спотыкались, бились об защитное стекло экрана. Она набирала номера, отчаянно, шепча их вслух, но каждый звонок мгновенно глотала тишина.
Ни гудка, ни вибрации, ни ответа.
Казалось, сама реальность сжалась, затянула звук в свои чёрные жилы и раздавила, оставив только пустоту.
Ни единого сигнала. Как и всё вокруг, телефон был мёртв. Электричество исчезло. Интернет, сети, линии связи – всё умолкло. Мир превратился в пустой, обесточенный гроб.
Мысль позвонить…
Такая простая, такая человеческая,
и оттого – запоздалая, как слабая свеча перед бурей.
Отчаяние скреблось изнутри. Не в сердце – глубже.
Каждый вдох давался Иде с усилием, каждый выдох звучал слишком громко – как признание в том, что она ещё жива, а значит, ещё может сопротивляться.
Ида выбежала в подъезд. Тишина там была ещё плотнее.
Девушка метнулась вниз по лестнице. Открыла дверь на улицу.
Город стоял, как бы застывший в этой мёртвой паузе.
Людей почти не было. Только редкие силуэты, которые двигались слишком осторожно, будто боялись нарушить законы нового мира. Ида кинулась через двор. Она искала хотя бы кого-то знакомого, звала маму, кричала, пока не сорвала голос. Её крик не возвращался эхом. Он просто поглощался тишиной, тонул в ней.
Она выбежала во двор.
Пусто.
Окна – тёмные, будто ослепшие. Люки – приоткрытые рты.
Она бегала по двору, цепляясь руками за пустой воздух, будто там могли оказаться её родители.
Заходила в каждый подъезд. В каждую тёмную подворотню.
Потом снова – вдруг пропустила.
Тишина давила, как ватное море.
С каждым шагом город казался мертвее. Как будто гудение неба было не предупреждением, а ударом молота, который расколол что-то важное в самой структуре пространства.
Время не текло – оно висело. Минуты казались одинаковыми. Дальний дым, будто застывший в воздухе, не шевелился. Даже шорох собственного дыхания превращался в рёв, способный разорвать голову.
Ида, наконец, остановилась, выдохнув, обхватив себя руками. Мир стал матовым и тусклым, как расфокусированная фотография. И в груди поднимался тот самый детский ужас, знакомый каждому подростку: ужас одиночества, но умноженный на двадцать, на сто, на вечность. Она была одна – не в квартире, не в подъезде, а в целом городе. И, возможно, в целом мире.
Девушка заставила себя идти дальше. В голове крутилась мысль: «Мама должна быть где-то рядом. Просто должна».
Мир вокруг ещё не остыл, но уже начинал медленно гнить, как тело, которое только-только вспомнило: пора.
Ида всматривалась в окна домов, как в глаза слепых великанов.
Там могли быть люди. Но нет – город выглядел слишком неподвижным. Горожане исчезли мягко, тихо, без сопротивления.
Она нашла машину, брошенную на перекрёстке. Дверь была приоткрыта. Салон пуст.
На сиденье – телефон – немой и беспомощный, как весь город.
Девушка взглянула по сторонам – пустота, безмолвная, холодная, непроглядная. Отчаяние полыхало без пламени. Горело чёрным огнём, заполняло тишину, как угарный газ. Медленно и без запаха, так что сначала Ида не понимала, что уже задыхается.
Детская площадка – как кладбище игрушек, оставленное детьми, которых отозвал кто-то настойчивый и страшный.
Неподвижные качели, будто их кто-то удерживал за невидимые нити. Песочница… Ида вспомнила, как её мать смеялась где-то здесь, когда они вместе строили дурацкую крепость. Это было много лет назад, но виде́ние вспыхнуло в памяти так ярко, словно это было вчера. Воспоминание было таким тёплым и настоящим, что девушка едва не рухнула в песок.
Ида подняла взгляд на горизонт – безжизненный, угрюмый, вязкий. Ни огней, ни силуэтов – только густая тьма, как чернильная трясина, поглощающая всё, что когда-либо имело жизнь.
Ветер, холодный и липкий, шептал: «Ты одна».
Девушка упала на колени. Сердце стучало так громко, будто пыталось разорвать тишину на клочья.
Слёзы катились по щекам одновременно с дрожью – смесь отчаяния, растерянности и ужаса. Она хотела кричать, звать родителей ещё и ещё, но голос не слушался.
«Вернитесь», – шептала Ида. – «Пожалуйста…»
Ответа не было.
Только тишина – живая, тяжёлая, настороженная. Она будто ждала, когда девушка сдастся и замрёт в ней, растворится, как остальные.
Ида поднялась, дрожащими пальцами вытерла лицо и медленно пошла обратно к дому. Она не знала, что делать. К кому идти. Куда бежать. Мир стал слишком больши́м и слишком пустым – сочетание, в котором легче всего исчезнуть.
Девушка долго сидела во дворе и вернулась в квартиру к вечеру. Так ей показалось… Хотя вечер и утро теперь не отличались. Свет был одинаково болезненным. Воздух – одинаково неподвижным. Мать не появилась. Отец тоже. Ночью Ида сидела в коридоре, завернувшись в одеяло, и слушала тишину.
Ветер за окном поднимал пыль, и она слышала, как он тихо повторял: «Ты одна… ты одна…».
А хищная ночь, не моргая, изучала Иду – как новую игрушку, найденную в разрушенном мире, которую можно… либо бережно сохранить, либо беззвучно сломать.
Ида резко втянула воздух. Горло сдавило. Глаза защипало.
И впервые в жизни она почувствовала себя не просто одинокой – а покинутой. Вырванной из мира вместе с корнями.
Её тело дрожало, как маленький узелок жизни, который легко развязать одним небрежным движением.
Девушка свернулась калачиком на полу, испуганная и потерянная, а вокруг неё расползалась новая эпоха —
бесшумная, безжалостная, чуждая – похожая на огромный невидимый цветок, распускающийся только в полной тишине, поглощающий привычные очертания мира.
ГНИЛОХВАТ
Через сутки тишина отступила, и город вновь наполнился звуками.
Ида решилась выйти в город. Нужно было найти воду. Квартира уже казалась ловушкой.
Улица встретила её серебристой пустотой.
Девушка шла вдоль домов, избегая открытого пространства. Ноги дрожали, но она заставляла себя идти.
Ида не сразу поняла, что город начал дышать.
Асфальт под ногами тихо дрожал, будто у города внезапно появилось сердцебиение, злое и чужое.
Девушка вышла из переулка – осторожно, сжав в руке ржавую монтировку, найденную ещё ночью.
Прислушалась.
Звук нового мира заставил её вздрогнуть – размеренное «чав… чав… чав…», будто чья-то огромная пасть пережёвывала землю, давилась ею, выплёвывая куски сырого асфальта.
Ида остановилась.
Оглянулась – и воздух будто спрятал голову в плечи.
Шорох.
Негромкий, липкий, как если бы по асфальту волокли мокрую плоть.
Потом – стук. Нечёткий, неровный.
И ещё один.
Словно кто-то пробовал ходить, но тело ему мешало.
Слева по улице заскрипела вывеска старой мастерской – осторожно, будто боялась привлечь внимание тех, кто уже ждал за углом.
Ида застыла. Сердце било по рёбрам, высекало боль. Она медленно, почти механически обернулась.
Вспухший нарост на асфальте дрогнул… Вскрылся…
Ида сделала шаг назад.
Поздно.
Существо стояло посреди дороги.
Слово «стояло» не совсем подходило – оно колыхалось, словно дышащая гниль, пытающаяся удержать форму.
«Вшлёп… вшлёп… вшлёп…»
«Похож на разбухший жёлудь… Уродливый, рыхлый, гнилой», – выдохнула девушка.
Первая мысль – бежать…
Но она не могла. Она смотрела.
Прокля́тое человеческое любопытство…
Забившееся между рёбрами…
Грибковые наросты на макушке вздрагивали, наливались и вдруг начали раскрываться – медленно, с противным, едва слышным треском.
Из разломов вырвались золотистые облачка спор. Они не парили – они оседали, тяжело, лениво. В этом золоте не было света. Только обещание разложения.
Ида почувствовала, как щекочет в горле, как хочется кашлять, но сдержалась. Любое лишнее движение могло привлечь внимание.
– Гнилохват. Я буду звать тебя так, – прошептала девушка с той самонадеянной уверенностью, за которой всегда прячется отчаяние.
Существо дёрнулось, будто его толкнули изнутри.
От него пахнуло прелой корой, запахом сырого подвала и раздавленных грибов.
Разлагающееся тело повело в сторону, и оно зашаталось. Неуклюже, с мерзкой, унизительной неуверенностью, словно каждая попытка сохранить равновесие давалась ему ценой боли.
Ида криво усмехнулась и добавила, уже пятясь назад:
– Слишком медленный, чтобы догнать меня.
Из-под раздутого брюха потянулись «корни» – влажные, налитые, мясистые отростки.
Они шлёпались о землю с тупым, липким звуком, оставляя за собой слизистые следы, будто почва начинала гнить сразу после прикосновения.
Верхняя часть Гнилохвата заходила ходуном.
Ида увидела пустые глазницы.
Две глубокие ямки, из которых струился тяжёлый белый пар.
Он не просто поднимался. Он медленно тянулся к ней, будто пробуя её страх на вкус.
Опухшая масса живой плоти, переплетённая с мёртвыми трухлявыми тканями и грибковыми наростами.
Корни снова шлёпнулись о землю – яростнее, тяжелее.
Споры взметнулись гуще.
Гниющий жёлудь раскачивался всё сильнее, с нарастающей, болезненной амплитудой, издавая сухое «хррук… хррук… хррук…».
Этот звук был слишком телесным – как если бы рвались перепонки между чем-то живым и уже мёртвым.
Ида вдруг почувствовала: это не плод.
Это утроба.
Провисающая кожа содрогнулась, и Ида услышала тихий, тягучий всхлип рвущейся плоти…
Девушка поняла: жёлудь полон жизни.
Не той, что ей знакома.
И эта «жизнь» ищет выход.
Вспухшее брюхо Гнилохвата готово выпустить на волю то, что шевелится внутри.
Это привело Иду в чувство.
Раздувшийся жёлудь издал влажный, надломленный хруст, а затем – и раскрылся.
На асфальт с чавканьем выпал червь —
толстый, отвратительно сочный, цвета разложившегося жира. Клыкастый рот раскрывался, обнажая костяные крючья.
За ним – второй.
Третий.
Целая орда.
Воздух наполнился вонью – смесью тухлой листвы, кислоты и чего-то… приторно-сладкого.
Толстые, белёсые, мясистые нити извивались бешено, хищно.
И каждая заканчивалась крошечным зубастым ртом.
Слизь капала с их тел.
Ида завизжала…
Гнилохват резко дёрнулся —
теперь в нём не было ничего медлительного или тяжёлого.
Все корневые конечности вдруг собрались под ним, как пружины.
И рванул вперёд.
Девушка бросилась прочь, не разбирая дороги.
Свет бил в глаза. Воздух резал. Мозг пульсировал страхом.
Ида мчалась так, как никогда прежде.
Существо неслось за ней – не ревело, не скрежетало. Оно просто бежало, как бежит пустота, обрётшая форму.