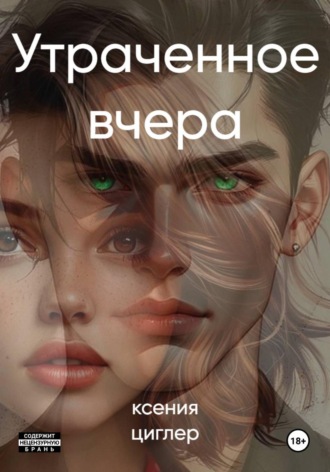
Полная версия
Утраченное вчера
В кузов грузовика нас запихнули, как сено. Довезли до здания, где до войны милиция располагалась. Теперь там, была, комендатура немецкая. Нас с братом в камеру, сырую да темную, словно в подвал какой. Стены облезлые, в каких-то пятнах нехороших. Нары – доска одна к стене прибита, и все. Приказали ждать, а чего – никто не сказал. Хоть бы воды дали… Господи, что же будет-то? За что нас? Забрали, как собак каких-то…
Вдруг слышу – мамин крик. Такой страшный, что аж в животе все похолодело. Слезы градом, а Якоб, братишка мой, маленький, руку мою гладит, утешает.
– Ты чего, Аза? Не реви, прорвемся. Мама сильная, она выдержит.
Как потом себя корила, что я, здоровая девка, испугалась, а он меня успокаивал. Вот ведь, малец совсем, а храбрее меня в сто раз. А я тут нюни распустила…
Долго крик ее слышался, мучительный, надрывный. А потом – бах! Выстрел.
– Якоб, маму убили? – шепчу, губы дрожат. Спрашивать-то некого больше. Брат только головой мотает, мол, нет, жива вроде.
– Может, ранили только, Аза? Не плачь, слышь?
И тут же снова мамин голос слышу, но уже не кричит, а плачет… тихо так, жалобно, словно молит о чем. Боже, помоги маме! Помоги нам всем выжить! За что нам все это?..
– Отпустите детей! Верните меня к ним! Не трогайте, изверги! – мамин крик, полный отчаяния и злобы, был последним, что я услышала.
Голос ее, словно птица подстреленная, умолк навсегда. И наступила тишина… такая, что в ней уже никогда не услышать ее доброго слова, не увидеть ласкового взгляда. И отца тоже… его сильных рук, его заботы. Все это – как сон теперь, как тень прошлого, которую не вернуть. Господи, что же будет? Неужели это конец? Якоб… надо его защитить, во что бы то ни стало.
Железная дверь с лязгом отворилась, и в камеру хлынул свет – холодный, как лед. В дверях – полицай, рожа кирпичом, в форме, а рядом – баба в белом халате. Видать, из докторов. Сразу видно – не к добру. Я Якоба к себе прижала, хотела хоть чуточку от беды заслонить. Только бы не забрали его… а он, глупыш, в ответ обнял крепче, будто сам защищает, словно сказать хотел – вместе мы, Аза, что бы ни случилось.

В этом объятии я чувствовала его страх, и свой собственный тоже. И еще – жгучее желание его защитить. Ведь он у меня какой… умный, шило в одном месте, смелый до чертиков. Всегда старался хорохориться, будто он тут главный, будто он меня от всего защитит. А сейчас… сейчас все иначе. Теперь я за него в ответе. Не дам никому его обидеть, не позволю нас разлучить. Якоб, мой маленький рыцарь… Я сделаю все, чтобы ты был в безопасности.
Женщина в белом махнула Якобу. Якоб вздрогнул, взгляд его метнулся ко мне, как будто спрашивая: “Что делать?”. Он вцепился в мою руку, пальчики сжали так, что аж костяшки побелели. Он стоял, не шелохнувшись, упрямо уставившись в пол, будто пытаясь сделать себя невидимым. Лицо его выражало смесь страха и решимости – он, наверное, понимал, что происходит, но не хотел отпускать мою руку. Не смей, Якоб… не ходи. Я не позволю.
– Свинья! – выплюнул офицер, глядя на Якоба. Слова его были холодные, как лед.
Подошел, схватил брата за руку – хватка, как клещами. Вырвал из моих рук, будто куклу сломанную. Крик мой застрял в горле, бился о стены. Офицер будто не слышал, не видел слез. Оторвал его от меня, словно от сердца кусок оторвал. Господи, за что? Неужели это конец? Якоб, Якоб… Прости меня!
Паника, мольба… А я ничего не могу сделать. Ручонки его тянутся ко мне, просят о помощи. А я… беспомощна. Прости меня, Якоб! Прости, что не смогла тебя защитить! Боже, помоги ему!
Вдруг – жгучая боль в щеке. Словно плеснули кипятком. Кровь по губе потекла, теплая, липкая. Но мне уже все равно. Вырвалась, кинулась к ним, а дверь захлопнулась прямо перед носом. Забрали его. Его глаза… Господи, эти глазенки, полные ужаса. Такой страх в них, что сердце оборвалось.
И вот… все. Нет больше надежды. Только темнота. Рухнула на пол, как подкошенная. И тут меня прорвало. Заголосила, как зверь раненый. Билась руками о пол, пока костяшки в кровь не разбила. Это я виновата! Это я не уберегла его! Господи, забери меня вместо него! Лицо в пол уткнула, и реву, реву… слезы градом, будто дождь по земле. И ничего больше не чувствую, только пустоту. Черную, страшную пустоту. Господи, прости меня! Прости за все!
Я свернулась клубком, как сухой лист на ветру. В сердце – ледяная дыра. Но где-то там, на самом дне, тлеет уголек надежды. Если их забрали – значит, и меня заберут. Значит, я их увижу… саму, Якоба… там больше не будет страшно. Там будет покой. Эта мысль не пугает, а успокаивает. Если сегодня – мой час, я готова.
Больше не боюсь. Страх, что жил во мне с самого начала войны, ушел. Как дух из мертвого тела. Осталась только пустота. И в этой пустоте нет места страху. Только усталость, тоска и тихая, безысходная грусть. Господи, за что? За что нам все это? Почему Ты допустил такое?
Внезапно, скрип двери – как выстрел. Я лежу на полу, как ежик свернувшийся. И вдруг… какое-то странное спокойствие. Вот и мой черед… Наконец-то все закончится. Напряжение уходит, тело расслабляется. Но нет ни ударов, ни ругани. Только легкое прикосновение. Чья-то рука легла на плечо. Я вздрогнула. Подняла голову… и сердце замерло.
Передо мной – он. Тот самый немец. Молодой, глаза голубые. Он… это же он отпустил меня тогда, в комендантский час… зачем? Почему? Смотрит… как-то странно. Ничего не пойму. Что у него на уме? Сначала спас, потом… потом все это. Забрал маму, Якоба. И меня тоже убьет, наверное. А сейчас стоит, гладит по плечу, будто жалеет. Будто прощения просит. Что это? Издевательство? Или… что ему от меня нужно? Господи, помоги мне понять!
Я поднялась, а ноги ватные какие-то, еле держат. Стараюсь виду не показать, что боюсь. Они, гады, этого только и ждут – чтоб мы перед ними дрожали, чтоб чувствовали свою власть. Могут, значит, нас, как мух давить, а мы слова сказать не смеем.
– Тебя, поди, по ошибке взяли? – спрашивает он. – Ты просто не вовремя подвернулась, – продолжает. – Мужика, которого забрали, и его семью взяли за то, что они партизанам помогали. Так их свои же и сдали.
Глаза закрыла, чтоб не стошнило. Слова у него – как кислота. В душу лезут и разъедают все.
– Арестуйте меня, – говорю, а голос дрожит. – Это моя семья! – не успела договорить – он мне рот ладонью зажал.
– Дура, уходи сейчас же, – шепчет злобно. – Сдохнуть хочешь? Тебя тут не было, я могу тебя вывести.
Не пойму ничего. Чего он добивается-то?
Смотрю на него, а лицо вроде знакомое. Вглядываюсь… глаза голубые, волосы светлые… где-то я его видела. Где?
– Владек Витовски – говорит он.
И будто током меня прошибло. Вспомнила! Детство… игры… дружба… наши семьи дружили, родители все шутили про нашу свадьбу. Потом семья Владека в Польшу переехала. Папка рассказывал, что его отца свои же и убили – за то, что он на немцев работал, евреев выдавал. А про самого Владека я ничего больше не слышала.
– Ты? Это ты? – слова в горле застряли, как ком. Не могу ничего сказать.
– А чего такого? – отвечает он, будто и нет ничего особенного. И добавляет: – Я в гестапо служу.
Словно обухом по голове ударили. Все рухнуло. Владек… друг… а теперь враг. Предатель.
– Пошли, я тебя выведу. За углом тебя семья Вуйцик ждет, – говорит он.
Услышав про Вуйциков, молча пошла за ним. Словно неживая.
Мы проходили мимо них… мимо палачей. Которые решают, кому жить, а кому умирать, словно играют в кости. Лица – как камень, злые и бесчувственные. Души, наверное, давно умерли. От них пахло потом, дешевой мазью и звериным страхом. Они мне казались чудовищами из страшной сказки – огромные, злые, с голосами, от которых стынет кровь. Господи, спаси и сохрани! Форма черная – саван. В голове гулко от шагов, лязга затворов и чужих, злых голосов на незнакомом языке. А вместо рук – оружие.
Каждый раз, когда нас останавливали, Владек говорил, что я – ошибка. Что меня взяли по недоразумению. Что я не имею никакого отношения к арестованным. Я хотела спросить: куда их везут? Что стало с моими родителями? А в ответ – грубый окрик и угроза. Я вздрогнула, а он сразу – прости, мол. Глаза у него полны боли. Словно он сам – заложник этой ситуации. Зачем он помогает мне? Что ему нужно? Или это просто игра?
Хочет помочь. Я должна быть благодарна. Но не могу. Не могу простить предательство. Он – предатель. На его совести – сотни загубленных жизней. Не отмыться ему от этой крови. Он – винтик в машине смерти. Машины, что давит и убивает всех, кто не угоден новому порядку.
Увидела Дмитрия и Натали – бросилась к ним, как к родным. Обняла, и слезы – рекой. Они тоже плачут. Дмитрий извиняется, а мне не за что его винить. Я благодарна ему за то, что он жив. Но мне так больно, что папа погиб, спасая его.
Он – жертва. Но папа… папа… он отдал свою жизнь за Дмитрия. За меня. Он всегда говорил, что самое главное – оставаться человеком. А мама… Она была его опорой. Они оба были моими героями. А Якоб… Якоб – мой ангел-хранитель. Мы часто смеялись над его неуклюжестью. Он всегда подбадривал меня. Он всегда будет со мной. В моем сердце. Даже если его больше нет…
Глава 2: Последний взгляд.

Я проснулась от суматохи Натали, которая, казалось, пыталась переделать все дела сразу.
– Аза, ну где же твой платок в горошек? Ты же знаешь, без него никуда! – причитала она, роясь в комоде.
То доставала из шкафа одно платье, то другое, прикладывая их к себе перед зеркалом и тут же отбрасывая в сторону. Казалось, она больше меня переживает за эту поездку.
Я разлепила глаза, и солнечные лучи, пробивающиеся сквозь неплотно задёрнутые шторы с цветочками, ослепили меня. Пришлось зажмуриться, привыкая к свету, и только потом, постепенно, я смогла разглядеть комнату. За окном, сквозь щели в раме, доносился гул машин, приглушенные голоса прохожих и звяканье трамвая.
– Вставай, засоня, – проворковал Александр, нежно целуя меня в щеку. – Тебя Америка ждёт, а ты тут дрыхнешь. – Он подмигнул мне, стараясь казаться беззаботным, но я видела, как он сжимает губы, чтобы скрыть волнение. – Ты там смотри, на женихов американских не заглядывайся! А то я за тобой через океан приплыву/ – Его голос был спокойным, ровным, но в глазах я заметила легкую грусть.
Он всегда умел поднимать настроение одним своим присутствием, и за это я была ему бесконечно благодарна. Я знала, что ему будет не хватать меня, но он никогда не показывал этого, всегда поддерживал мои мечты. Он был в своей любимой клетчатой рубашке и старых брюках, немного вытянутых на коленях.
Сегодня был день, которого я ждала больше всего на свете, как манны небесной. День свободы, день начала новой жизни. В моих руках был волшебный билет, билет в другую реальность, в другой мир. Билет на пароход, который плыл прямиком в Манхэттен. Я достала его из-под подушки и долго разглядывала. Кусок картона с печатью и названием пароходной компании казался мне ключом к новой жизни. Сама бы я ни за что не смогла достать такой билет. Это казалось чем-то невозможным, несбыточной мечтой. Но Дмитрий постарался, использовал свои связи, уговорил кого-то, и вот теперь я еду. Отправят меня на попутном грузовом судне, что уже само по себе было большой удачей. Я чувствовала себя так, словно меня выпустили из клетки. Впервые за столько лет я могла свободно вздохнуть и подумать о будущем без страха и отчаяния. Хотелось кричать от радости, танцевать и обнимать весь мир.
Я быстро умылась, привела себя в порядок. Чемодан был уже собран, благодаря усилиям Натали. Она позаботилась обо всём, как для себя. Аккуратно сложила вещи, чтобы ничего не помялось в дороге, положила мои любимые духи, несколько фотографий и даже вышила крестиком небольшой оберег. Александр тоже не остался в стороне, он собрал мне на дорогу полноценный сухой паёк на несколько дней. Сухое молоко, компот в банках, сладкие и мясные пирожки, сало, хлеб – всего было в достатке.
Прощание на пристани было пропитано горькой сладостью, словно надрывный крик души. Марго и Филипп, Александр, Дмитрий и Натали – все окружили меня. Слезы катились по их щекам, как весенний дождь, омывающий землю. Натали и Марго что-то шептали, давали напутствия и советы: как не потеряться в большом городе, как выжить в чужой стране. Дмитрий молча курил свою любимую трубку, держа мой чемодан, словно пытался удержать меня от отъезда. А Александр просто крепко обнял меня, прижал к себе, согревая своим теплом и передавая частичку своей силы. Его объятия всегда дарили мне ощущение покоя и уверенности. Впереди меня ждала неизвестность. Боль расставания с этими людьми, ставшими мне семьей, сжимала сердце, но в то же время я чувствовала прилив сил и решимости. Впереди – новая жизнь, новые возможности.
– Пиши нам, прошу тебя, – прошептал Александр, его голос дрожал от сдерживаемых слёз. – Не забывай нас. Мы всегда будем ждать тебя. – В его глазах я увидела тревогу и нежность, словно отец, отпускающий свою дочь в дальнее плавание.
– И не зазнавайся, – тихо добавила Марго, – оставайся человеком, Аза. Не забывай, кто ты есть и откуда родом! – в её простых словах звучала вся её бесконечная любовь и забота. Она всегда была для меня мудрым советчиком и верным другом.
– Обязательно буду писать. И никогда вас не забуду, – сказала я, с трудом сдерживая рыдания. – Вы навсегда останетесь в моём сердце.
Пронзительный гудок парохода разорвал тишину прощания, словно выстрел. Это был сигнал к отплытию, сигнал к началу новой жизни. Пришло время прощаться. Я ещё раз обняла каждого из моих близких, чувствуя, как крепко они держат меня в своих сердцах. Дмитрий и Александр помогли донести мой тяжёлый чемодан до самой каюты. Их сильные руки уверенно несли груз моих надежд и ожиданий.
Я представляла себе что-то вроде старой баржи с проржавевшими бортами, а тут… целое плавучее городское поселение. Здесь было полно людей, шум, гам, словно на улицах Москвы в праздничный день. Отдельная каюта с кухней и столовой, где пассажиры могли перекусить. На палубе – лежаки, для того чтобы загорать под ласковым солнцем. И, представьте, отдельные жилые каюты, не для персонала, а именно для пассажиров!
– И это чудо техники доставит меня к брату? – с притворной наивностью спросила я, оглядываясь на роскошные каюты и суету вокруг.
Дмитрий лишь усмехнулся, глядя на мое удивление.
– Много людей уезжает в разные страны, вот они и приспособили корабли для более комфортных путешествий, – пояснил Александр.
Наконец, мы втроем попрощались. Тяжесть прощания давила на меня, словно камень в груди. Но в то же время я ощущала и легкий трепет – крылья надежды расправлялись за спиной. Я очень ждала встречи с братом, мне было интересно, знает ли он, что я жива? Я представляла себе его лицо, его глаза, и на губах невольно появлялась улыбка. Я знала, что встреча с ним изменит мою жизнь.
Паром отчалил от берега, и я почувствовала легкий толчок, словно меня подтолкнули в спину, отправляя в новую жизнь. Я отправлялась в путь, а мои провожающие, остались на берегу. Я смотрела, как они машут руками, утирают слезы, и я знала, что их любовь и поддержка всегда будут со мной. В трудные минуты я буду вспоминать их лица, их улыбки, их слова, и это придаст мне сил.
Я до сих пор помню, сколько бумаги ушло на моё путешествие. Анкеты на английском, справки из полиции, выписки о несудимости, подтверждение средств на счёте. Каждое «да» стоило денег – и немалых. Я заполняла бланки при свете керосиновой лампы, переводила тексты, дрожащими руками подписывала обязательства. Консульские сборы, плата за ускоренное рассмотрение… в какой‑то момент я думала, что никогда не соберу всё до конца. Но вот я здесь. По вечерам я разговариваю с попутчиками: у кого‑то брат в Бруклине, у кого‑то – мать в Квинсе. Мы все говорим мало, но понимаем друг друга без слов. Мы плывём домой.
Ветер трепал мои волосы, донося запахи реки, машинного масла и жареной рыбы. Над головой кричали чайки, споря из-за кусков хлеба, брошенных с палубы. Вдалеке, на горизонте, виднелись размытые очертания родного берега, постепенно исчезающие в дымке. Паром медленно набирал ход, унося меня все дальше от прошлого, навстречу неизведанному будущему. Я изредка выходила из своей каюты. В основном, чтобы сходить в туалет или ненадолго полюбоваться видом, который открывался за бортом – бескрайняя водная гладь и небо, сливающиеся в единое целое. Еды и воды, заботливо уложенных Александром, мне хватало сполна.
Наконец Манхэттен, желанный и долгожданный, распахнул свои объятия после утомительного путешествия. Сердце билось – чужая страна, другая культура, неизведанные горизонты манили и пугали одновременно.
Английский, немецкий, польский, французский – благодаря отцу я свободно говорила на этих языках. Даже во время путешествия я находила время читать книги на разных языках, словно поддерживая связь с миром, оставшимся позади. Пыталась углубиться и в китайский, но он, с его загадочными иероглифами, казался непреодолимой вершиной, и я пока отложила эту попытку. Отец, мой первый учитель, мечтал видеть меня переводчиком в своей бывшей компании, которую когда-то планировал передать мне. Его бизнес – перевод иностранных языков – был его страстью, а его желание передать ее мне – величайшим проявлением любви.
“Наша компания – это не просто бизнес, это миссия, – говорил отец. – «Мы помогаем людям, преодолевать языковой барьер, открываем им двери в новый мир. Это мостик между культурами. Мы рады каждому гостю, потому что каждый человек – это уникальная история, богатство опыта и ценный вклад в нашу общую жизнь”.
Несмотря на то, что переводчиком я так и не стала, любовь к языкам осталась, словно тихий огонь, тлеющий в глубине души. Даже после того, как нас с родителями разделили, я продолжала изучать их, чувствуя, что каждый новый словарь, каждая освоенная грамматика – это немая клятва отцу, обещание хранить его мечту в сердце. ‘Я должна доказать, что его надежды живы во мне’, – шептала я себе, глядя на огни Манхэттена, и несла их в мир.
Спускаясь с палубы парома, я впервые увидела Манхэттен во всей своей красе. Небоскребы, словно титаны, пронзали небо, а по улицам неслись сверкающие “Кадиллаки” и “Бьюики”, отражая в своих хромированных боках неоновые огни рекламных вывесок. Мужчины, словно сошедшие с обложки журнала “Esquire”, щеголяли в строгих серых костюмах, плащах и фетровых шляпах, а женщины, словно со страниц “Vogue”, дефилировали в обтягивающих платьях-карандашах и ярких бордовых плащах, с безупречно уложенными волнами волос, увенчанными кокетливыми шляпками и вуалями. Из открытых окон доносились звуки свинга и джаза – город жил в ритме музыки.
В руках я держала пожелтевший кусок московской газеты с фотографией брата и его товарищей. С робкой надеждой в глазах, я подходила к прохожим, стараясь не привлекать лишнего внимания.
– П-простите, – обратилась я к плотному мужчине в шляпе, который спешил по своим делам. – Вы случайно не видели этих ребят?
Мужчина бросил беглый взгляд на фотографию и нахмурился.
– Никогда не видел. Не могу говорить, опаздываю на встречу.
И, не дожидаясь ответа, скрылся в толпе.
Я подошла к пожилой даме, выгуливающей пуделя.
– Простите, мэм, – робко спросила я. – Может быть, вы что-нибудь знаете об этих… “Ангелах с улиц”?
Дама испуганно отшатнулась и прижала к себе собачку.
– Ангелы? Я не интересуюсь подобными вещами. Уходите, девочка, не морочьте мне голову!
Следующий прохожий, молодой парень в кожаной куртке и с зализанными назад волосами, остановился и внимательно изучил фотографию.
– “Ангелы с улиц”, говоришь? Не знаю таких, дорогуша. Никогда не слышал, хотя в этих краях всякое бывает. Но на всякий случай советую тебе держаться от них подальше. А то можешь огрести по полной, понимаешь? – Он подмигнул мне и пошел дальше, насвистывая какую-то мелодию.
Единственным маяком оставалось название группы – “Ангелы с улиц”, напечатанное крупным шрифтом на обрывке газеты. Ангелы с улиц… Странное название для тех, кто, по слухам, ворочает делами с мафией.
Витрины магазинов манили своими новинками – огромными телевизорами “Philco”. “Удобно”, – подумала я, заметив в одном из них знакомое название: “Ангелы с улиц”. Заинтригованная, я приблизилась, чтобы расслышать, о чем идет речь. На экране диктор с безупречной прической и широкой улыбкой сообщал: – Внимание, народ! Говорит банда “Ангелы с улиц”! Если у вас есть бабки и вы жируете, то лучше не попадайтесь нам на глаза. А тех, кому жрать нечего, ждем на Хьюстон-стрит, на Авеню А. Сегодня у нас акция – делимся награбленным добром: одеждой и едой. Всем нуждающимся – подходите, не стесняйтесь. “Ангелы” помогут!
Сердце учащенно забилось. Это шанс! Первый шаг был ясен: отправиться на Хьюстон-стрит и попытаться разыскать тех, кто может знать о брате.
Свернув с Шестой авеню, мимо витрин универмага “Корт”, я неожиданно очутилась на шумном рынке. Пирамиды румяных флоридских апельсинов, расставленные с безупречной геометрией, горы “Айдахо” – картофеля, выложенного словно драгоценные камни, и наливные помидоры “Бифштекс” – все это кричало о достатке, граничащем с расточительством. Эти яркие краски вызвали неожиданную горечь – в памяти всплыла тусклая картина нашего окупированного города, где даже прошлогодняя сухая корка хлеба была сокровищем, добытым с риском для жизни у местных крестьян.
Обойдя несколько прилавков, я заметила худощавого мужчину в старомодном твидовом пиджаке, продававшего свежие выпуски “Daily News” и “New York Mirror”.
– Добрый день, – поздоровалась я.
Продавец, окинул меня оценивающим взглядом, словно прикидывая, сколько с меня можно содрать. Он молча кивнул, его пальцы, пожелтевшие от бесконечных сигарет, нервно перебирали свежие выпуски журналов.
Я протянула ему свернутую газету, где была фотография парней “Ангелов с улиц”.
– Я ищу своего брата, Якоба. Мы потерялись во время войны, он был совсем ребенком. Ему сейчас должно быть около восемнадцати. Не знаете его случайно? Может, слышали об этой банде?
Он взял газету, прищурился, разглядывая снимок, потом посмотрел на меня с каким-то странным выражением.
– “Уличные Ангелы”? Да это ж шпана малолетняя, – хмыкнул он. – Хулиганьё, одним словом. Что ты с них возьмешь?
– Мне нужно их найти, – сказала я, – пожалуйста, где я могу их найти? Старик снова взглянул на фотографию, потом на меня.
– Русские буквы, да? – пробормотал он. – Значит, из России, э? Чего тебе тут надо, красотка? Заработать хочешь на них, что ли?
Я стиснула зубы: – Какая вам разница, откуда я? – резко ответила я. – Где их найти?
– Они везде шастают, – отмахнулся он. – Шляются по улицам, обирают ребятню на мелочь. Да они еще не шишки какие-то. Так, уличные крысы. – Он покачал головой, будто говоря сам себе. – Я воевал, кровь проливал за эту страну, а эти дети? Что они делают? Грабят, хулиганят. Родители их ничему не учат. Уличные крысы, все поголовно.
Мои пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Почему меня так зацепило? Ведь он прав, наверняка. Они – бандиты, а мой брат… мой брат точно не был таким. Но… разве у всех был выбор? Разве все начинали с равных условий? Этот старик, он видел войну, но видел ли он детей, которые остались без ничего?
– Да вы хоть представляете, что им пришлось пережить? – выпалила я, стараясь не сорваться на крик. – Вы видите только “уличных крыс”, а я вижу сломанные судьбы. Дети, которые не знают, как жить иначе.
– Ты что, оправдываешь их хулиганские выходки?! Совсем сопля, а споришь со мной! Да знаешь, что это за отродье? Малолетние бандиты, ворье и отбросы общества! Руки бы им поотрывал! – оскалился старик.
– Ничего я не оправдываю! – Выпалила, срываясь на крик. – Но вы не знаете, что ими движет! Вы видите только то, что хотите видеть! мой брат… –произнесла я дрожащим голосом. – Мой брат может быть среди них! И я не позволю вам так о нем говорить! Он не отброс! Он не вор! Он… он просто выживает! –я сжала кулаки от злости с такой силой, что костяшки моих пальцев побелели.



