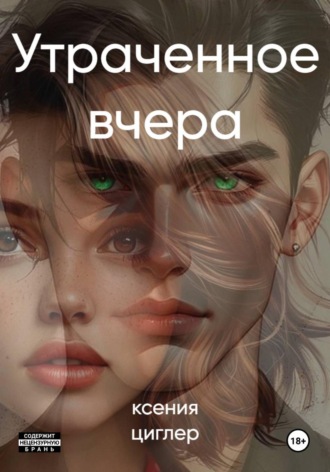
Полная версия
Утраченное вчера
– Если заметят, расстреляют, – шептала я себе, чувствуя, как холод страха пробирается в костный мозг.
В воздухе витал запах гари и дыма, смешиваясь с едким запахом страха. Дом Вуйциков находился на другом конце улицы. Чтобы добраться до него, мне нужно было пройти через несколько немецких патрулей. Я знала, что это безумие, но выбора у меня не было.
За очередным поворотом я наткнулась на немецкий патруль. Двое солдат, с автоматами наперевес, стояли под фонарем и о чем-то громко разговаривали на своем тарабарском языке. Сердце бешено заколотилось в груди. Ноги стали ватными. Я понимала, что если они меня заметят, то живой я уже не уйду.
Зайдя за ещё один квартал, я оказалась уже совсем близко к дому Вуйцик. Осмотрев угол, убедившись, что всё чисто, я хотела пройти дальше, но вдруг меня остановили, положив руку на плечо.
– Стоять! – раздался грубый голос.
Живот схватило от страха и волнения. Медленно, словно в замедленном действии, я повернула голову.
Гестапо!
Моё тело бросило в дрожь. Передо мной стоял светловолосый парень с голубыми глазами, ненамного старше меня. Его молодое лицо казалось почти невинным, но взгляд был холодным и отстраненным. Я замерла на месте, как парализованная. Все произошло так быстро, что я не успела даже испугаться.
– Документы! – Произнес он.
Дрожащими руками я достала из кармана свой аусвайс – пропуск, выданный немецкой комендатурой. Солдат внимательно изучил документ, сверяя мое лицо с фотографией.
– Что ты здесь делаешь так поздно? – спросил он, сверля меня взглядом.
Его русский был почти безупречным, но в некоторых словах чувствовался едва уловимый акцент.
– Простите, я шла с работы, потерялась во времени, я шла домой, прошу простить, – в панике начала говорить я.
– Не врите мне, мисс, – строго сказал парень, его голубые глаза стали холодными и непроницаемыми, как лед.
Я застыла на месте, не зная, что сказать. Я думала, что меня расстреляют прямо здесь, но он просто вздохнул, посмотрел за угол и кивнул мне.
– Иди, считай, тебе повезло. – Сказал он и пошел дальше.
Он отпустил меня! Я не верила своему счастью!
Не оглядываясь, я побежала прочь, прочь от этого страшного места. Я бежала, пока не выбилась из сил, пока не поняла, что нахожусь в безопасности. Я понимала, что мне невероятно повезло. Но я знала и то, что второй раз удача может отвернуться от меня.
Мысленно я уже попрощалась с родителями, немцев было на улице, как тараканов, они бы точно не прошли мимо них.
Наконец, дойдя до двери, я тихо постучалась. Дверь открыл Дмитрий. Его глаза расширились от удивления, когда он увидел меня, бледную и дрожащую. Не медля, он затолкнул меня в дом и, оглядевшись по сторонам, убедился, что рядом нет никого.
– Что ты здесь делаешь, Азалия? – ворчал Дмитрий, его голос звучал грубовато, но в нём я услышала беспокойство.
И я резко заплакала, не в силах выдавить ни слова. Слёзы текли по щекам, словно нескончаемый ручей. В голове пульсировала одна мысль: родители… что с ними?
Вдруг из другой комнаты вышли мама и папа. Их лица выражали удивление и тревогу. Я бросилась к ним, словно тонущий человек к спасательному кругу. С трудом переводя дыхание, я пыталась объяснить ситуацию: они вовремя не появились дома, и я очень переживала.
– Просто мы боялись, что не успеем дойти до дома, и решили приютиться у Дмитрия и Натали, – сказала мама, ее голос звучал успокаивающе.
Все разрешилось.
Но вдруг, словно молния, в мою голову ударила мысль: Якоб, мой младший брат! Он остался один в нашем пустом доме! Якоб… один… в темноте… без меня! С ним может случиться что угодно.
Москва 1950 год.
Я уселась на диван к Марго. Она приготовила мне теплого чаю в красивой фарфоровой чашке. Филипп, как всегда, был занят в своем кабинете, грыз гранит науки. А Марго, как всегда болтала о себе, говорила о своих новых модных платьях, купленных в комиссионке, но перешитых так, что не отличишь от фирменных.
Вдруг Марго уселась на диван, держа в руках стопку журналов, где на глянцевых страницах красовались красивые девушки в модных платьях.
– Азалия, скажи, а у тебя был парень? – спросила она, демонстративно пихая мне бумаги в руки.
На обложке одного из журналов красовалась блондинка в роскошном платье и бриллиантах. Я с отвращением отвернулась и отрицательно покачала головой.
– А сколько тебе лет? – спросила она.
– Двадцать четыре, – ответила я, чувствуя, как внутри зашевелилось легкое беспокойство.
– Аза, тебе уже двадцать четыре года, а ты всё одинокая. Это потому, что ты ходишь, как серая мышка, вся в черном, ни косметики, ни украшений. – Сказала она, усмехаясь. Её слова прозвучали как лёгкий упрёк, но я лишь улыбнулась в ответ, понимая, что она права. – А что смеешься? У Филиппа есть знакомый, свободный мужчина, правда ему за тридцать, но он не бедный, – сказала она, как бы невзначай бросая этот факт в воздух. – Он работает инженером, очень интеллигентный и начитанный. Правда, немного скучный, но зато надежный.
– Звучит очень заманчиво, – протянула я с долей сарказма, – но спасибо, Марго, я сама разберусь. – Усмехнулась я.
Перспектива встречаться со скучным инженером меня совершенно не прельщала. Её предложение звучало, как попытка сделать мне добро, но я уж точно не была готова к таким резким переменам. Марго в итоге сдалась, и лишь пожала плечами.
Она отложила журналы и снова перевела взгляд на меня. Вдруг она протянула газету, ту самую, где ей показалось, что она видела моего брата. Газета была старая, потрепанная, с пожелтевшими страницами. На первой полосе красовался кричащий заголовок о кровавых разборках в американском городе Манхэттен. Её глаза стали серьёзными, словно хотели что-то сказать, но она молчала, держалв газету передо мной.
Я взяла газету и начала разглядывать фотографии. Глаза метались по лицам в надежде, что Марго права. Но я не могла выделить ни одного знакомого.
На снимках были молодые люди с суровыми лицами, одетые в дорогие костюмы. Марго заметила, как я всматриваюсь, и указала на юношу в центре, примерно двадцати лет. Я прищурилась, вглядываясь в его лицо. Оно показалось знакомым.
Высокий лоб – точь‑в‑точь папин: всегда чуть нахмуренный, будто в раздумьях. Линия подбородка – мамина: упрямая, волевая. Прямой нос словно объединил изящество обоих родителей. И взгляд – до боли знакомый, словно отражение души, той детской непосредственности, которую я так давно не видела.
Он словно соединил в себе всё лучшее от нашей семьи.
– Господи! – воскликнула я, зажимая рот рукой. – Якоб!
Это был он, точно он. Я узнала своего брата, слезы навернулись, слезы радости и надежды. “Он жив, он жив” – повторяла я в голове.
Я вскочила с дивана, крича, что это мой брат. Марго ринулась меня обнимать, словно хотела разделить мою радость, даже Филипп выбежал из своего кабинета, привлечённый шумом.
– Она нашла Якоба! – воскликнула Марго, обращаясь к своему жениху. Филипп подошел ко мне и тоже начал обнимать.
Все эти годы я искала свою семью, словно корабль в бескрайнем море, безнадёжно брошенный на милость волн. Но все было тщетно. А сейчас, по совершенной случайности, он, мой брат, оказался в газете. Плевать какие новости там писали, плохие или хорошие, главное – он жив. Каким бы он ни стал, я должна его увидеть. Я была бесконечно благодарна Марго и Филиппу, если бы не они, я бы никогда не узнала, что Якоб, мой любимый братик, жив. Чуть успокоившись, я в голове поставила для себя важную цель – найти его, чего бы мне это не стоило. Словно в сердце зажглась новая надежда, яркая и неугасимая, она вела меня вперёд, к воссоединению с братом.
– Но Манхэттен, это же так далеко, это Америка, – сказала Марго, пытаясь удержать меня от этой безумной затеи.
– Плевать, – ответила я, делая глоток воды, и чувствуя, как в жилах бьётся новая сила, готовая преодолеть любые преграды. Я готова на все, чтобы его найти. Даже рисковать своей жизнью.
Марго резко обняла меня: – Я буду скучать, Азали, – прошептала она, шмыгая носом, будто вот-вот заплачет.
Я ответила на ее объятия: – Я тоже.
Утро застало меня в уютной спальне Марго. Кровать была мягкой и теплой, а подушки пушистыми и удобными. Солнечный луч, пробиваясь сквозь занавески, ласкал мое лицо, напоминая о новом дне, полном неопределенности. Здесь пахло кофе и французскими духами. Так не похоже на мою скромную комнатушку.
В голове крутилась мысль о предстоящем отъезде, и я чувствовала, как на душе становится тревожно. Неизвестность пугала, но в то же время манила к себе.
Мы попрощались с Марго и Филиппом, договорившись, что они проводят меня в мой последний путь. Уходя, я незаметно сунула Марго свою любимую фотографию, где мы втроем: я, Якоб и родители. Пусть она помнит нас такими… счастливыми.
Я решила, что должна зайти к Александру и его семье. Не просто сообщить о своем уходе – этого было бы недостаточно. Я хотела попрощаться как следует, поблагодарить их за все, что они для меня сделали. Это был шанс сказать искреннее «спасибо» за тепло и доброту, которые согревали меня все эти годы. Они стали мне семьей, и я боялась их потерять. Знала, что прощание будет нелегким, но важно сделать всё правильно, чтобы в их памяти остались лишь светлые воспоминания. Я должна убедить их, что у меня все будет хорошо. Даже если это окажется ложью.
Сердце мое пело от предвкушения встречи с братом. В голове уже рисовались картины: вот я обнимаю его, слышу его голос… я знала, что семья Вуйцик обрадуется этой новости и поймет мой выбор, пусть даже он означал расставание и долгие километры. Нетерпение жгло изнутри, я мечтала увидеть Якоба, узнать о его жизни, о том, как он жил без меня. И, самое главное, спросить о родителях. Живы ли они? Не потеряли ли надежду на воссоединение? Вдруг судьба смилостивится и подарит нам чудо, и мы снова ощутим тепло семьи, которого так долго были лишены? Пока же я строила в голове планы: как переправиться за границу, как подготовить Вуйциков к этому непростому разговору…
По улице, залитой солнечным светом, мчались дети на велосипедах, их звонкий смех эхом разносился в воздухе. Старушка Леля, как всегда, расположилась на своем привычном месте, предлагая прохожим теплые вязаные вещи: свитера, носки, шапочки. Даже летом ее яркие изделия придавали улице особый колорит. В воздухе витал легкий запах свежего хлеба из булочной, смешиваясь с ароматом духов “Красная Москва”, доносившимся от проходящей мимо женщины. Птицы, словно вторя всеобщему настроению, выводили нежную мелодию. Из репродуктора доносились бодрые звуки марша, призывающего к новым трудовым свершениям. Я чувствовала себя такой легкой, свободной, наполненной жизненной силой. Давно меня не переполняло такое ощущение полноты и безудержной радости.
И вот я дошла до пекарни Александра. Его лучезарная улыбка при виде меня, как всегда, освещала даже самые серые будни. В воздухе витал теплый запах свежеиспеченного хлеба и ванили, смешиваясь с легким ароматом кофе. Пекарня, небольшая, но уютная, с деревянными прилавками, ломящимися от свежей выпечки, была сердцем этого двухэтажного дома. Теплые оттенки дерева, белые стены, на которых висели старинные фотографии в рамках, создавали атмосферу домашнего уюта. В углу стояла старинная медная кофеварка, источающая манящий аромат. На подоконниках стояли глиняные горшки с цветущей геранью. Сквозь большие окна, выходящие на улицу, проникал солнечный свет, освещая золотистые булочки и румяные пироги, выставленные на прилавках.
– Аза, проходи, тебе, как обычно? – спросил Александр.
Я молчала, с улыбкой до ушей глядя на него. Он приподнял бровь, словно чуя неладное. Я вприпрыжку подбежала к прилавку с булками.
– Заворачивай все! И отнеси домой, пусть мама греет чай, а отец достает свою фирменную грушевку! – выпалила я, заразительно счастливым тоном.
– Что случилось? Какой праздник? – удивился Александр.
Я перегнулась через прилавок и крепко-крепко обняла его.
– Якоб нашелся! – воскликнула я.
Александр отшатнулся, ошеломленный, но тут же подхватил меня за руки, радостно закружив.
– Аза, да это же замечательно! – крикнул он.
Посетители, наблюдавшие за нашей сценой, поняли, в чем дело, и захлопали, кто-то даже украдкой вытер слезу. В этот момент из подсобки спустился Дмитрий.
– Что тут за шум? – спросил он, недоуменно оглядываясь.
– Якоб! Якоб нашелся! – просияла я, повторяя новость и ему.
Глаза Дмитрия заблестели, он едва сдержал слезы. Обратившись к посетителям, он объявил, что сегодня пекарня закрывается. Гости отнеслись с пониманием и поспешили разойтись. Дмитрий, не теряя ни секунды, направился к темной деревянной лестнице, ведущей наверх, в квартиру, что располагалась над пекарней, а мы с Александром – за ним…
Дмитрий тут же сообщил новость Натали. Та, не веря своему счастью, бросилась обнимать меня.
– Натали, давай накрывай на стол, – сказал Дмитрий, счастливо улыбаясь.
Натали, словно в панике, заметалась по кухне, Александр поспешил ей на помощь. Дмитрий принес свою фирменную грушевку, и мы, наконец, уселись за стол. После первой стопки они начали меня расспрашивать о Якобе. Как он? Где он? Как я его нашла? И я рассказала им все: про газету, про Манхэттенскую мафию, и о том, что собираюсь ехать к нему.
Услышав это, их лица омрачились.
– Милая, но это же так далеко… – тихо произнесла Натали.
– Я знаю. Но я преодолею любые преграды, чтобы увидеть его. Я буду писать вам, – пообещала я.
– Но когда же мы еще увидимся? – встревоженно спросила Натали.
Этот вопрос застал меня врасплох. И правда, увидимся ли мы вообще? Не захочет ли Якоб остаться там навсегда? А бросить его я уже точно не смогу. Я не нашла что ответить, но Дмитрий сказал все за меня.
– Натали, – начал он, мягко взяв ее за руку, – ты же понимаешь, как это важно для Азы и для всей семьи. Мы не можем и не должны препятствовать её счастью. – Он посмотрел на меня с теплотой. Натали заплакала. Конечно, на ее месте я бы тоже переживала, если бы воспитывала кого-то, как родного ребенка, пусть даже и не кровного.
– Мы с отцом моем помочь тебе с билетами, – тихо сказал Александр, до этого момента сидевший молча.
Я посмотрела на него, и мое лицо осветилось благодарностью.
– Я хочу сказать вам всем спасибо за то, что приютили меня, окружили заботой. Хочу отблагодарить вас. Я оставлю вам свою квартиру. Вы можете ее продать и все деньги забрать себе, – сказала я.
Дмитрий резко покачал головой. – Ни за что! Все деньги, которые мы получим от квартиры, мы тебе пришлем. То, что сделал твой отец когда-то… –Дмитрий резко замолчал, подбирая слова, – я должен ему за это жизнью.
Смоленск, 1942 год.
Вечер сгущался, отравляя воздух в доме Вуйциков липким предчувствием беды. Казалось, сама тишина давила на плечи, предвещая неминуемое. Я видела это в напряженных лицах родных, в их взглядах, полных затаенного ужаса. В полумраке комнаты, где тускло горела керосиновая лампа, потрескивал огонь в печи, отбрасывая дрожащие тени на грубый деревянный стол, старые стулья, вышитую скатерть с наивным узором в крапинку.
– Неужели это правда? – голос отца дрожал, в нем смешались ярость и отчаяние. – Они хотят уничтожить всех евреев? Просто так?
Дмитрий, затянувшись трубкой, выпустил густое облако табачного дыма.
– У них есть трудовые лагеря, – хрипло ответил он, – или, как их еще называют… лагеря смерти.
– Брось! Это слухи, – отец попытался отмахнуться, но в голосе звучала лишь безнадежность.
С каждым днем еды становилось все меньше, комендантский час загонял людей в дома, словно скот, а жуткие слухи о зверствах немцев в соседних деревнях просачивались сквозь стены, отравляя разум.
– Слухи? – Дмитрий выпустил еще одну струйку дыма. – В “Вестнике Сопротивления” читал. На черном рынке, у Андрея взял. Двое поляков сбежали оттуда. Рассказали, что там происходит. Об этом уже не шепчутся – кричат.
– Как они себе это представляют? – В голосе отца проскользнула горькая ирония. – Им нужны работники, а они хотят уничтожить тех, кто на них работает? Это же абсурд!
– Думаешь, они не подумали об этом? – Голос Дмитрия был тихим, но в нем звучала тревога. – У них уже сотни тысяч таких работников. И с каждым днем их становится больше.
Отец замолчал. Он отвернулся к окну, словно не в силах смотреть на Дмитрия. Лицо его исказилось, в глазах стояли слезы, которые он отчаянно пытался сдержать.
Я, затаив дыхание, подслушивала разговор из-за двери. Сердце колотилось, как раненая птица, кровь отхлынула от лица, руки похолодели, в горле встал ком. Я вспомнила, как Натали всегда с гордостью говорила о своих казацких корнях, а Александр за столом любил затянуть русские песни. Дмитрий же, всегда молча слушал их, но иногда делился с нами воспоминаниями о молитвах, которые шептал его дед в синагоге.
Ледяной страх сковал меня, лишая воздуха. Я ненароком представила, Дмитрия уводят… навсегда. Холодный пот прошиб меня, и все тело забилось в мелкой дрожи.
Не в силах вынести это видение, я распахнула дверь, готовая встать на его защиту.
– Мы… – я запнулась, не зная, что сказать. Пальцы невольно сжались в кулак, а в горле словно встал ком. – Мы… постараемся помочь.
Натали вздрогнула, словно от пощечины. Дмитрий, прикрыв глаза, грустно улыбнулся.
– Здесь вам не место, – прошептала я, украдкой взглянув на Дмитрия. – Нужно бежать, пока не поздно.
– Куда? – Дмитрий открыл глаза, в которых плескалась усталость. – Куда я побегу?
– К партизанам! – взорвалась Натали, хватаясь за соломинку. – Или… или мы все уедем!
Дмитрий усмехнулся. – И куда, позволь узнать? К черту на кулички? – он затянулся, выпустив облачко дыма. – Натали, это не кино. У нас сейчас нет денег, документов, связей. Да и что мы будем делать с партизанами? В лесу? Так еще и с сыном…
Натали отшатнулась, словно он ударил ее. – Но здесь… Здесь они тебя убьют! Ты понимаешь это?!
– Понимаю, – тихо ответил Дмитрий, опуская глаза. – Но я не могу просто бросить вас.
– А что нам остаётся? – Натали попыталась взять его за руку, но он отстранился. – Если они тебя заберут…
– Они никого не заберут, – спокойно сказал Дмитрий, хотя я видела, как дрожат его руки. – Я постараюсь. Но если… если они придут за мной…
– Не смей так говорить! – Натали заплакала, прикрыв рот ладонью. – Я не могу… не могу представить…
– Я понимаю, – Дмитрий подошел к ней и обнял, осторожно, словно боясь сломать. – Но… если это случится, скажите, что я был просто квартирантом. Вы ничего не знали и ничего ни от кого не скрывали.
Натали оттолкнула его. – Ты хочешь, чтобы мы жили с этим? С тем, что тебя забрали, а мы… мы даже не попытались помочь?!
– Вы помогли, – Дмитрий посмотрел на нее с горечью. – Вы дали мне дом. Семью. Не просите меня подвергать вас еще большей опасности. Это мой крест. Я должен нести его сам.
– Нет! Нет! Нет! – кричала Натали, отталкивая его от себя и колотя кулаками по его груди.
Снаружи завыла сирена, а затем глухие раскаты далеких взрывов.
Война.
Отец молчал, покуривая трубку. Потом, не глядя ни на кого, произнёс: – Я попробую достать аусвайс.
Все взгляды устремились на него. Я не могла поверить. Последние месяцы отец был замкнутым, пропадал где‑то, возвращался молчаливый, с тенью под глазами.
Он затянулся, выдохнул дым и добавил: – У меня связь с «лесными братьями». Они помогут с поддельными пропусками для передвижения в зоне оккупации.
Только теперь я поняла: всё это время он рисковал ради нас. Мама не шевельнулась. Лицо оставалось неподвижным, но костяшки её пальцев, сжатых на коленях, побелели. В отличие от нас – меня, Натали и Дмитрия – она не выдала ни тени волнения.
Спустя две недели отец принёс аусвайс для Дмитрия. Но цена оказалась непомерной: ему пришлось пообещать участие в их операции.
Облавы и аресты евреев стали ужасающей обыденностью. Смотреть на это было невыносимо. Хватали всех подряд, даже детей. Больше этих людей мы никогда не видели. Они исчезали, словно их и не было.
Отец, тяжело сглотнув, рассказал, что вместе с “лесными братьями” им удалось сорвать отправку партии молодежи в Германию – они подожгли склад с документами и обмундированием. Операция, полная риска и отчаяния.
С того дня Дмитрий стал Готманом – получил новую немецкую фамилию. Эта смена имени стала не просто строчкой в липовом документе, а тяжким бременем. Ему приходилось все время быть начеку, следить за каждым словом и жестом. К тому же, от природы он был светловолосым. Эта особенность, в мирное время ничем не примечательная, теперь превратилась в спасение. Он придумал историю, что переехал в Россию учиться, встретил Натали, и у них родился Александр. Благодаря этому и знанию немецкого, к ним относились с меньшим подозрением, чем к остальным. Однако даже теперь каждый стук в дверь заставлял сердце замирать.
Но однажды всё изменилось.
Возвращаясь домой с покупками, я замерла, словно пораженная громом. У нашего дома стоял грузовик, окруженный немецкими солдатами. Сквозь решетку кузова мелькали испуганные лица. Холодный страх сковал меня, и я попыталась бежать, но острая боль в руке оборвала мой порыв. Это был тот самый солдат, который задержал меня во время комендантского часа.
– Имя? – прозвучал его ледяной, бездушный голос.
– Азалия Мировская, – прошептала я, стараясь унять дрожь.
– Документы. – Он говорил отрывисто, словно бросал камни.
Я протянула ему паспорт. Он тщательно изучил его, словно выискивая ложь, и вернул, не произнеся ни слова. Не отпустил и не приказал стоять. Я сделала шаг к дому, к надежде, но снова почувствовала его хватку.
– Ждать, – рявкнул он.
Сердце колотилось в груди, как пойманная птица. Пакет с продуктами в руках шуршал, выдавая мой страх. Я шептала молитву, чтобы они были в порядке, чтобы моих родных не тронули. Пусть заберут меня, только не их, – твердила я, сжимая кулаки до побелевших костяшек.
В этот момент из подъезда вывели еще одну семью.
– О, Боже… – вырвалось у меня, когда я увидела отца, маму и Якоба.
Их задержали. За что?
В глазах отца – гнев и бессилие. "Только бы они выжили", – промелькнула в его голове мысль.
Мама плакала, безуспешно пытаясь скрыть слезы. "Как же мы оставим наш дом?" – думала она, с ужасом глядя на солдат.
Якоб смотрел на гестаповцев, сжав кулаки. "Я бы сейчас как дал ему!" – думал он, ненавидя их всем сердцем.
Сердце сжалось от невыносимой боли. Я рванулась к ним, но солдат крепко держал меня. Слезы душили, но я мельком заметила, как отец покачал головой, его взгляд говорил: Не смей плакать.
Первой в колонну поставили семью с плачущим младенцем, затем подтолкнули моих родителей. Вокруг собралась толпа – соседи, прохожие. Среди них я увидела тетю Клаву, которая каждое утро здоровалась с нами, но сейчас она отвела взгляд. Их лица были полны любопытства и…равнодушия.
Меня захлестнула ярость, смешанная с ужасом. Ярость на этих людей, стоящих истуканами, и ужас от осознания собственной беспомощности. Почему они стоят, словно каменные изваяния? Почему никто не вступится? В голове промелькнула безумная мысль: броситься на них, вырвать оружие. Но тут же я осознала, что это будет конец. Конец для меня, для родителей, для всех, кто посмеет вмешаться. Нас же больше! Но со временем я поняла их. Они ничего не могли сделать. Ни защитить, ни отбить. Убьют одного немца – расстреляют десять мирных жителей. Единственное, что им оставалось – смотреть, как рушится моя жизнь, как уходит мое прошлое, как надежда превращается в пепел. И я вместе с ними – ничего не могла сделать.
Внезапный толчок в спину – меня грубо швырнули к моим родным. Я бросилась к ним, обняла их, но тут же получила сильный удар в плечо.
– В колонну! – заорал гестаповец.
Я не посмела ослушаться и встала рядом с Якобом, прощаясь с домом, с детством, со всем, что когда-то имело для меня значение.



