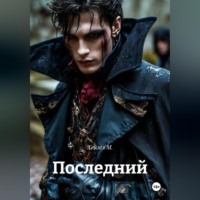Полная версия
Гори, гори ясно!
Эти два глаза просто смотрели на Алёнку. Без выражения. Без движения. Они просто вбирали её в себя, оценивали ту самую «тихую точку» внутри неё, готовую погаснуть. И в этой беззвучной встрече взглядов не было борьбы. Была лишь констатация. Процесс, запущенный много часов назад в деревне шумным костром, теперь тихо, без суеты, завершался здесь, на краю трясины, в мерцании двух немигающих, всепонимающих угольков.
Алёнка не закричала. Закричать – значит признать боль, сохранить хоть малый отзвук собственного «я», которое могло бы страдать. Но в ней уже не оставалось ничего, что могло бы издать звук. Её тело, её разум были теперь лишь пустой скорлупой, ожидавшей последней команды. Из её ослабевших, безвольных пальцев просто выскользнул и упал в чёрную воду у кочки пучок луговых цветов – жалких, примятых ромашек и васильков, что она, словно в забытьи, сжимала всю дорогу. Это была не просто связка растений. Это была последняя память о мире живых – о солнце на лугу, о запахе скошенной травы, о чьём-то добром слове, сказанном когда-то. Цветы легли на тёмную воду, не утонули сразу, а поплыли, беззвучно расплываясь, как последнее пятно тепла на ледяной поверхности.
Взгляд Жижеглаза коснулся её.
Не луч, не удар. Касание. Точное, холодное и абсолютное, как прикосновение математической истины к заблуждению.
Не было вспышки. Ни ослепительного света, ни тьмы. Не было боли. Ни спазма, ни муки. Было нечто куда более необратимое.
Просто внутри всё разом перестало быть тёплым.
То неуловимое, что отличает спящего от покойника, усталого – от мёртвого, живое существо – от куклы, исчезло. Как если бы в комнате с тихим, ровным огнём в камине внезапно исчез не огонь, а само понятие тепла. Осталась лишь нейтральная температура небытия. Сердце продолжало биться, лёгкие – втягивать болотный воздух, но это были теперь лишь движения механизма, лишённые смысла, как тиканье часов в пустом доме.
И тогда пустота нахлынула. Не как уничтожение, а как замещение. Бесшумной, плавной, неостановимой волной, которая смыла не только страх и тоску последних дней, но и саму память о себе. Детство. Имя. Лицо матери. Вкус хлеба. Страх темноты. Всё, что составляло Алёнку, было аккуратно, без следа изъято, как содержимое из сосуда. Остался только чистый, гладкий, холодный сосуд.
В её широко раскрытых, потухших глазах – тех самых, что секунду назад были просто пустыми, – вспыхнул и застыл крошечный, чужой огонёк. Не отражение тлеющих точек перед ней. Его собственная, новая, внутренняя отметка. Уголёк. Маленький, тёмно-багровый, словно капля застывшей вулканической породы. Он не светил. Он находился там, в глубине зрачка, неподвижный и абсолютно инородный. Клеймо. Печать принятия и принадлежности. Отныне этот уголёк был единственным источником какого-либо «свечения» в её теле, и светил он не вовне, а куда-то внутрь, в ту бездну, откуда пришёл, питая её новую суть.
Она медленно повернулась. Движение было плавным, лишённым малейшего намёка на человеческую неуверенность или колебание. Механизм получил новую программу. И пошла обратно, к деревне. Её ноги, босые и грязные, двигались ровно и уверенно, находя опору на зыбкой почве с нечеловеческой точностью. Она шла не как жертва – согбенная, разбитая. Она шла как посланница. Вестница. Её походка была безмятежной и неотвратимой, как течение подземной реки. В ней не было цели, кроме той, что была задана извне.
Она была пустой девочкой с тлеющей искрой в глазах. И эта искра, холодная и чужая, была теперь единственным, что в ней «жило». Она освещала путь не к спасению, а к выполнению следующей, ещё не озвученной миссии. Девушка по имени Алёнка перестала существовать. По тропе назад шло нечто иное – ходячее напоминание, контейнер и предвестник.
А в чаще, у самого края Слепых болот, где воздух густел до состояния жидкой тьмы, зашевелилось нечто. Это была тень, но не от дерева или облака. Она была самостоятельной сущностью, больше похожей на клубящийся чёрный дым, который не рассеивался, а, наоборот, сгущался, обретая тягучесть и форму. Она медленно, будто нехотя, развернулась от своей вековой стоянки у сплетения чёрных корней. Движение было похоже на пробуждение горы – масштабным, неизбежным и полным скрытой мощи. Потом она поползла.
Не пошла, не полетела. Поползла низко над землёй, стелясь по кочкам и валежнику, как жидкая чернота. Она не издавала звуков, не оставляла следа на мху. Её продвижение ощущалось не взглядом, а сдвигом в самой реальности: ветви ёжились и отшатывались без ветра, мох под её проходящей массой не приминался, а будто тускнел и высыхал на мгновение. Она двигалась в сторону Погаслых Лугов.
Договор, державшийся веками на страхе и покорности, был нарушен. Причём в самой его сути. Душа была принята – холодная точка внутри Алёнки погасла, уголёк зажёгся. Но плата оказалась фальшивой монетой. Ему поднесли не добровольную, осознанную жертву, пропитанную смирением (пусть и горьким) перед силой старше человеческого рода. Ему подсунули обман. Жертву, выбранную по чужой крови, отданную с ненавистью, страхом и громкой, фальшивой попыткой это скрыть. Это была не дань уважения. Это была попытка откупиться чужим, сделанная с гадливой трусостью, а не с ритуальной строгостью.
И теперь сторона, веками дремавшая за этим договором, проснулась. Не та его часть, что принимала пищу. Проснулось внимание. Равнодушный, древний разум, для которого сам ритуал был лишь удобным, привычным способом получения ресурса, без лишних хлопот.
Оно проснулось не для того, чтобы забрать обещанное. Обещанное уже взято. И оно оказалось… неполноценным. Не тем вкусом, не той консистенцией. Оно проснулось, чтобы посмотреть поближе. Пристально, без спешки, с холодным интересом существа, обнаружившего, что муравейник, который годами поставляет сладкий сок, вдруг начал подмешивать в него песок.
Оно потянулось к источнику этого странного, шумного, лживого тепла. К тому месту, откуда исходил этот визгливый гул притворного веселья, эта копошащаяся, суетливая энергия страха, прикрытая песнями. На саму деревню.
Тень, ползущая через лес, была не телом, а проекцией этого внимания. Первым, тихим всматриванием в тот мир, который посмел обмануть не силу, а саму природу договора. Она несла с собой не ярость, а любопытство. Страшное, бездушное, всепоглощающее любопытство к тому, как устроены эти мелкие, шумные существа, решившие, что могут обманывать вечность. И это любопытство было в тысячу раз опаснее любой слепой ярости.
Впереди, за гранью этой ночи, отмеренной последним завыванием песен, лежали три дня. Не просто срок. Не отрезок времени. Это была программа, тикающий механизм гибели, уже запущенный в тот миг, когда уголёк вспыхнул в пустых глазах Алёнки.
Три дня до того, как ноги пустых кукол с угольками в глазах понесут их через пороги домов. Эта мысль висела в воздухе тяжёлым, неозвученным знанием. Тела, которые ещё двигались, говорили, делали вид, что живут, уже были лишь оболочками. А внутри – холод и та самая, чужая искра, медленно переписывающая их волю на свой лад. И когда срок истечёт, эти оболочки придут в движение с нечеловеческой целеустремлённостью. Они не побегут, не бросятся. Они понесутся – ровно, неотвратимо, как вода, нашедшая внезапный сток. Они переступят через пороги не как гости, а как ключи, отпирающие то, что должно было оставаться запертым. Каждый такой шаг будет приближать не просто смерть отдельных людей, а конец Погаслых Лугов как мира людей. Конец дымков из труб, разговоров у колодца, смеха детей. Начало иного существования – тихого, пустого и отмеченного все тем же тлеющим знаком.
И в этот самый момент, будто в подтверждение того, что время пошло, над деревней, вопреки всем песням, огромный купальский костёр начал потихоньку, против всякой логики, гаснуть.
Это было не так, как гаснет пламя, когда кончаются дрова. Оно угасало принудительно. Языки пламени, ещё секунду назад яростно бившие в небо, стали оседать, съёживаться, будто их давила невидимая тяжесть. Ярко-оранжевый свет помутнел, стал грязно-багровым, затем – тускло-красным, как старая запекшаяся рана. Не было ветра, который мог бы задуть его. Не было дождя. Кострище было огромным, полным недогоревших брёвен. Но жар из него уходил, высасывался в окружающую тьму. Пламя не трещало, а шипело тихо, угасая, будто его заливали не водой, истончающейся пустотой.
Оно гасло напоказ. В пиру всему, что только что пели и кричали. В опровержение каждой лживой строчки «Гори, гори ясно!». Это был первый, зримый знак разрыва. Договор не просто нарушен – он аннулирован. Защита, которую костёр должен был символизировать (а в этом мире символов обладали странной, но реальной силой), таяла на глазах. Свет, собиравший людей вместе, отступал, обнажая их перед надвигающейся тьмой не как общину, а как кучку испуганных, одиноких существ.
И по мере того как огонь угасал, три дня впереди становились не абстракцией, а почти физической глыбой, нависшей над каждой крышей, над каждым спящим ребёнком. Отсчёт начался. Тихий, неумолимый, подчёркнутый затухающим шипением того самого костра, что должен был гореть до утра.
Гул праздника, этот оглушительный, искусственный вал звука, схлынул не постепенно, а разом – будто кто-то выдернул штепсель из самой реальности. Наступила тишина. Но не отдыха, не покоя. Гробовая, давящая тишина, которая обрушилась на площадь с весом целой горы. Она вдавила людей в землю, заставила согнуться плечи, перехватила дыхание. Нарушал её только тихий, зловещий треск оседающих головешек в чёрной груде бывшего костра – звук, похожий на потрескивание костей в потухшем очаге.
Люди стояли, словно вросли в землю. Они уставились на чёрную, дымящуюся груду брёвен, не в силах осознать увиденное. Их умы отказывались принимать эту картину. Погасший на Купалу костёр – это было немыслимо. Это была не просто неудача или плохой знак. Это была худшая из возможных примет. Символический щит, огненная стена между их миром и иным, рухнул. Это означало крах защиты. Разрыв между мирами. Тонкая плёнка порядка и привычных законов порвалась, и теперь из прорыва тянуло леденящим дыханьем абсолютно чужого. В этом молчаливом столбняке не было даже страха – ещё не пришедшего, отставшего от понимания. Был только пустой, всепоглощающий шок.
И тут из темноты за околицей, из той самой чёрной провальной щели, куда уходила тропа, показалась фигура.
Сначала это было лишь смутное движение в абсолютной черноте. Потом проступил контур. Белая рубаха, та самая, в которой ушла Алёнка, светилась в темноте призрачным, неестественным пятном. Она не отражала лунный свет – её ткань будто излучала собственный, тусклый, фосфоресцирующий блеск, похожий на свет гнилушек в глухом лесу.
Алёнка шла обратно.
Её шаг был всё тем же – ровным, неспешным, механически точным. Но теперь каждый удар босой пятки о пыль дороги отдавался в тишине громче любого колокола. Она не спотыкалась, не замедлялась. Она шла с той же неотвратимой прямотой, но вектор сменился. Она шла к деревне. К людям. К тем, кто только что с таким шумом вытолкнул её за границу.
Это было нарушением всех правил, окончательным крушением и так рухнувшей логики мира. Жертва не должна возвращаться. Никогда. Её возвращение было немым криком, зрелищнее любого предзнаменования. Оно говорило, не произнося ни слова: «Ваша плата не принята. Договор расторгнут. И я вернулась не для того, чтобы простить».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.