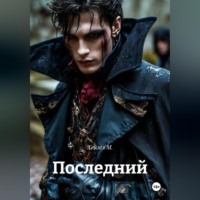Полная версия
Гори, гори ясно!

Хейзел М.
Гори, гори ясно!
Глава 1
Дым от костра, густой, сладковатый и терпкий, пахнущий сосновой смолой, горящей хвоей и обещанием абсолютной, дикой свободы, не спешил расставаться с землёй. Он стелился низкой, ленивой пеленой над чёрным, как полированный обсидиан, зеркалом горного озера. Казалось, он не хотел улетать в ледяную высь звёздного неба, а цеплялся за воду, вплетаясь в её неподвижную гладь. Он смешивал дрожащее отражение нашего огня с холодными, идеально отточенными отражениями звёзд, создавая призрачную, колышущуюся вселенную прямо у нас под ногами – мир-двойник, живущий по своим, непонятным законам тишины и глубины. Здесь, на самом краю цивилизации, куда можно было добраться только на скрипучем, израненном бездорожьем «уазике», а потом ещё три часа пешком по звериной тропе, петляющей среди вековых кедров и валунов, покрытых мшистым бархатом, мы чувствовали себя не туристами, а первооткрывателями забытой земли.
– Вот это… вот это и есть жизнь, – протянула Катя, закутываясь в грубый шерстяной плед и прижимаясь к Дане. В её голосе звучала усталая, блаженная радость. – Никаких дедлайнов, никакого ворчания и трёпа начальника. Никакого фонового гула машин. Только мы, эта древняя тайга, гречка с тушёнкой и небо, в которое можно смотреть вечно.
– И комары, – мрачно, но беззлобно добавил Рома, с хлопком шлёпая себя по загорелой шее. – Озвученная дань природе. Литр крови за вечер – минимальный взнос. Чувствую себя ходячим банкетом для всего гнуса в радиусе десяти километров.
Мы рассмеялись. Этот смех – тёплый, немножко хриплый от усталости и чистого воздуха – был нашей общей мелодией этих выходных. Нас было шестеро. Я, Лера, со своим вечно болтающимся на шее фотоаппаратом, пытающаяся поймать неуловимое – дух этого места. Неистребимо жизнерадостная Катя. Даня, наш бессменный костровой, умелец с топором и просто человек, на чьих плечах держался весь быт этого похода – он молча улыбался, поправляя поленья. Угрюмый на вид, но до бесконечности добрый внутри Рома, вечно ворчащий, но первым несущий рюкзак, если кто устал. И Витька. Виктор. Настоящая душа и двигатель нашей компании, непревзойдённый рассказчик, знаток самых невероятных, часто похабных, а порой и леденящих душу баек, которые он, казалось, выкапывал не то из пожелтевших книжек, не то из тёмных глубин собственного воображения.
Именно Витька, доев свою подрумяненную на углях сосиску до последнего кусочка и обтерев руки о джинсы, обвёл нас медленным, заговорщицким взглядом. Этот взгляд – прищуренные глаза, чуть поднятые брови – мы знали хорошо. Он всегда предвещал какую-нибудь дичь, невероятную историю, которая заставит нас то хохотать до слёз, то невольно оглядываться в тёмный лес.
– Гречка, комары, романтика… Всё это, конечно, сильно, – начал он, методично тыкая обугленной палкой в сердцевину костра, высекая сноп искр, которые тут же гибли в дыму.
Но вы вообще в курсе, ребята, где конкретно мы находимся? Не в географическом смысле, а… в историческом. В смысле местного фольклора.
– На берегу озера Глухое, в двадцати километрах от ближайшего признака человеческой жизни, – буркнул Рома, наливая себе чай из закопчённого котелка. – Что, и про это озеро есть у тебя байка про водяного, который топит рыбаков за неправильно подобранную наживку?
Мы снова засмеялись, но Витька лишь усмехнулся уголком губ, и смех наш быстро стих. Его лицо стало серьёзным, сосредоточенным.
– Не байка, – поправил он тихо, и его голос, обычно звучный и полный иронии, потерял все игривые нотки, стал плоским, нестилизованным, почти скучным – и оттого вдесятеро более убедительным. – А быль. Та самая, которую мой дед, коренной сибиряк, слышал от своего деда, а тот – от своего. И оба они отсюда, с этих самых мест. Их деревня стояла за той грядой, – он махнул рукой в сторону тёмного массива холмов, черневшего на фоне чуть более светлого неба, – там, где теперь только бурелом да еле угадывающиеся в крапиве каменные фундаменты.
Он сделал паузу, дав нам время представить эти фундаменты, эти призраки домов. Только потрескивание огня и далёкий, одинокий крик какой-то ночной птицы нарушали тишину. Даже озеро, казалось, затаилось и слушало.
– Так вот, пра-пра-прадед мой рассказывал, что за этим озером, за этим лесом, начинается не просто чащоба. Там – Слепые болота. Место, где даже совы не кричат, потому что нечего там сторожить, кроме топи. И знал каждый житель тех мест, от мала до велика: на болото после заката – ни ногой. Потому что там, на самой середине трясины, где земля дышит пузырями холодного газа и смотрит на тебя со дна чёрных омутов, стоит избушка. Не срублена она из брёвен, а будто выросла сама, сплетённая из корней столетних сосен, скрученных сучьев и чего-то, похожего на… на костяшки. И живёт в ней тот, кого в старину, в обычные дни, звали Угольком – за то, что видели его лишь как тлеющую точку вдали. А в страшных, шёпотом передаваемых рассказах, когда за окном выл ветер, звали Жижеглазом.
Название прозвучало негромко, но с отчётливой чёткостью, как щелчок костяшками пальцев в этой тишине. Катя перестала наматывать на палец прядь своих каштановых волос. Даня перестал возиться с костром. Я неосознанно прижала к себе объектив фотоаппарата.
– Дед говаривал, что прадед ему сказывал: питается он не плотью, не мясом. А тихим светом, что горит внутри человека. Душой. Теплом жизни. А чтобы добыть её… ему достаточно на тебя посмотреть. Встретиться взглядом. Тот, кто поймает его глаз, получает Ожог. Не на коже, а внутри. Там, внутри, остаётся – пустота и пронизывающий лёд, который уже ничем не согреть. А снаружи… – Витька прищурился, и его взгляд, отражающий прыжки пламени, скользнул по каждому из нас, задерживаясь на секунду, – в самом зрачке, в самой глубине, остаётся отсвет его внутреннего огня. Крошечный, тлеющий уголёк. Который теперь будет греть только его, Жижеглаза. А не тебя.
Рома фыркнул, попытался вернуть привычный скепсис, но в его голосе уже не было прежней уверенности, только натужная бравада.
– Ну и что с того? Посмотрел на тебя страшный мужик из болота и пошёл дальше? Невелика беда.
– Нет, – Витька медленно покачал головой, и в его глазах я увидела не наш привычный игровой ужас, а что-то иное – подлинную, выстраданную, переданную по наследству тяжесть знания. – Это не конец. Это – отсрочка. Три дня. Ровно три дня человек ещё ходит, говорит, ест, спит. Но он уже мёртвый внутри. Пустая оболочка. А на четвёртый… на четвёртый его ноги сами несут. Неудержимо, как река течёт вниз. Он идёт, не разбирая дороги, через бурелом, через холодные речки, обходит волчьи капканы и медвежьи тропы, не чувствуя усталости, холода, страха. Прямиком, как стрела, в самое нутро трясины. Чтобы встать перед избушкой и стать для Жижеглаза… всего лишь песчинкой. Пустой ракушкой, из которой высосан нектар. Которую тот потом выбросит обратно в топь. А душу, этот тихий свет, – оставит себе навсегда.
Тишина, наступившая после его слов, была иной. Она не была мирной или усталой. Она была плотной, вязкой, как тот самый болотный ил. Она давила на уши. Казалось, даже пламя костра стало гореть тише, а отражённые в воде звёзды померкли. Лес вокруг нас перестал быть просто красивыми декорациями, он наполнился незримым, древним присутствием.
– И… как с ним бороться? – выдохнула я, и мой собственный голос показался мне чужим, слишком громким в этой новой тишине.
– Никак, – просто, почти без эмоций, сказал Витька. – В старину, говорил дед, пытались не бороться, а… договориться. Раз в год, в самую короткую ночь, когда свет и тьма сражаются и границы миров истончаются, ему выносили «добровольную» жертву. Самую красивую девку из села или самого сильного, удалого парня. Чтобы остальных не трогал. А потом… а потом, чтоб не сойти с ума от горя и ужаса, ту ночь обозвали праздником. Костры жгли огромные, песни пели громкие, хороводы водили… Ту самую, знаете, «Гори, гори ясно!». Плач в лесу, на краю болота, под эти весёлые, отчаянные песни – не так был слышен. Ну что, – он вдруг снова растянул губы в улыбку, но это была странная, натянутая гримаса, не достигавшая глаз, – после такого в тёмный лес за дровами сходим? Кто доброволец?
Мы засмеялись. Но смех наш был коротким, сухим, вырванным силой. Он не разрядил напряжение, а лишь подчеркнул его. Легенда, рассказанная не как абстрактная сказка, а как семейное предание, переданное с тем самым «страшным шёпотом», ударила иначе. Она поселила внутри крошечное, холодное семя сомнения. А что, если это не просто история? Что если в этой тьме, за кольцом нашего огня, действительно есть что-то, что когда-то заставляло целые деревни дрожать и приносить жертвы?
А утром, когда первые сизые лучи стали пробиваться сквозь хвойную чащу и мы, зябкие и сонные, начали выползать из палаток, это семя дало ледяной росток. Мы обнаружили Рому сидящим у полностью потухшего, остывшего костра. Он не спал в палатке. Он сидел на том же бревне, обняв колени, и смотрел не на озеро, не на небо, а куда-то внутрь себя, в какую-то пустоту. И в моей памяти с болезненной чёткостью всплыли слова Витьки: «Три дня. Он уже мёртвый внутри».
Когда Рома, услышав наши шаги, медленно, будто с большим усилием, повернул к нам голову, я встретилась с его взглядом. Глаза были налиты усталой краснотой от бессонницы, но это была не просто краснота. В глубине зрачков, поймав первый луч утреннего света, на секунду мелькнул и погас крошечный, негнущийся, абсолютно чужой отблеск. Не золотистый, как от солнца, и не красный, как от былого костра. А тёмный, багрово-чёрный, как тлеющий изнутри уголёк. И в тот миг мне стало холодно по-настоящему. Холод проник под кожу, в кости, в самое сердце. Холодно так, как будто я только что выслушала эту историю не у дружеского огня в кругу смеющихся друзей, а из уст своего собственного, строгого и древнего деда, в низкой, пропахшей дымом и сушёными травами избе, где за тонким оконным стеклом беснуется и стонет ночной ветер, несущий с Слепых болот запах тления и тишины.
Глава 2
Вечернее солнце, толстое и медовое, висело над крышами Погаслых Лугов – деревушки, притулившейся меж хвойного бора и края Слепых болот. Свет его был нездоровым, густым, будто подкрашенным дымом от далёких, невидимых костров.
– Не к добру такое солнце накануне Купалы, – шёпотом говорили старухи, крестясь под овином. – Оно не греет, а палит. Сушит душу.
Деревня жила в двух ритмах. Первый – яростный, шумный, на виду. Мужики косили на дальнем лугу последние, самые сочные травы, звенели косы, летели в сторону комариные тучи. Бабы и девки, оголив по локоть загорелые руки, суетились у печей: пекли обрядовые лепёшки-караваи, варили в огромных чугунах яйца. Детишки, распаренные и озорные, таскали хворост для будущих костров, их смех звенел, как разбитое стекло. Завтра – Иван Купала. Ночь чудес, венков, прыжков через пламя в поисках суженого. Ночь, когда вода дружит с огнём, а небо открыто для самых дерзких желаний.
Но был и второй ритм. Глухой, подспудный, как пульс под толстой шкурой. Его чувствовали в молчаливых взглядах, которыми обменивались старики, встретившись у колодца. В том, как слишком быстро обрывался смех, если разговор заходил о болоте. В каменных лицах мужиков, возвращавшихся с покоса не через привычную тропу, а длинной, круглой дорогой, чтоб лишний раз не глядеть на ту чёрную просеку, что вела к Глухому озеру.
В избе старосты, Антипа Игнатьевича, пахло дегтем, кожей и тяжёлым духом. Душно было, несмотря на открытую дверь. Собрались пятеро: сам Антип, седой, с лицом, как сплошной рубец; двое его братьев, молчаливых и крепких, как дубовые коряги; слеповатая знахарка Матрёна, что помнила все приметы; и отец Геннадий, местный батюшка, молодой ещё, с болезненно-напряжённым взглядом.
– Завтра ночь, – хрипло начал Антип, не глядя ни на кого, водя толстым пальцем по трещине на столе. – Все готово?
– Девка не ест вторые сутки, – отозвался старший брат, Егор. – Плачет тихо. Силы ещё есть.
– Чтобы сил хватило дойти, – кивнул Антип. Девкой была сирота Алёнка, взятая на прокорм из соседней, вымершей от тифа деревни. Чужая кровь. Для обряда – чистая. Для совести – не своя.
– Венок сплела? – спросила знахарка, щуря свои мутные глаза.
– Сплела. Из болотных трав, как велось. Иван-да-Марья, багульник, осока. Будет знать, куда нести.
Отец Геннадий сглотнул. Его белые, не крестьянские руки сжимали потёртый крест.
– Грех… великий грех… – прошептал он.
– Грех – если вся деревня вымрет, как те Гнилые Пни, что по осени не стали дыму из труб подавать! – резко оборвал его Антип. В избе повисло молчание. Все помнили ту зиму: странный мор, что унёс каждого второго в той деревне. И тишину, что воцарилась потом. Тишину, которую из болота потянуло. – Мы не убиваем. Мы отдаём. По договору. Чтоб он сыт был и спал. Чтоб не шарил своими… глазами по нашим избам. Дед моего деда так делал. И его дед. И мы будем.
– А если он уже не спит? – вдруг, негромко, сказала Матрёна. Все вздрогнули. – Солнце-то какое… Горит, а не греет. Болото сегодня на рассвете… клубилось. Будто кипело. Не к добру. Чует, что время договора истекает. Чует нашу… неискренность.
Слово повисло в воздухе, тяжёлое и неотвратимое. «Неискренность». Они отдавали чужую, не свою. Отдавали с ненавистью и страхом, а не с покорностью судьбе. Дед Антипа рассказывал, как встарь жребий кидали меж всеми. И шли с гордыней, почти что со славой. А теперь прятали взгляд и называли это «договором».
– Всё равно пойдёт, – отрезал Егор. – Завтра, как стемнеет, проводим её до Камня-Смотрителя. Дальше… сама найдёт дорогу.
– И песни петь будем, – добавил младший брат, Никита. – вовсю орать. Чтобы с болота было слышно.
Отец Геннадий закрыл лицо руками. Он молился каждый день, чтобы Бог послал им избавление от этой бесовщины. Но Бог, казалось, не слышал голоса над болотами. Или слышал другой, более древний голос.
Тем временем на улице жизнь бурлила своим первым, яростным ритмом. Парни таскали брёвна для главного костра на выгоне. Девки, уже закончив с стряпнёй, сбились в кучку у околицы, сплетничали и поглядывали на парней. Среди них была и Устинья, дочь Антипа, чернобровая, с упрямым огнём в глазах. Она знала про Алёнку. Знать-то знала, но старалась не думать. Завтра – праздник. Она нарядит свою лучшую рубаху, сплетёт венок из луговых цветов и будет прыгать через костёр с Федотом, кузнецовым сыном. А страшные сказки стариков… Ну что это, в самом деле, за дикость? Нешто в наш век такое бывает?
Она заливисто рассмеялась чьей-то шутке, откинув голову. И в этот момент её взгляд скользнул за околицу, туда, где начиналась тропа к озеру. Между стволами сосен, в уже сгущающихся сумерках, ей показалось – мелькнул свет. Не огонёк, не свечка. А два призрачных, размытых пятна. Тёплых, как тление. Они возникли и погасли, будто кто-то на мгновение приоткрыл и закрыл чёрную печь, полную углей.
Устинья почувствовала, как смех застывает у неё в горле. По спине пробежал ледяной, цепкий мурашек, совсем не похожий на вечернюю прохладу.
– Ты чего остолбенела? – толкнула её подруга.
– Ничего… – прошептала Устинья, насильно отводя взгляд. – Показалось. Комар, наверное, в глаз попал.
Но она непроизвольно потёрла ладонью грудь, под самой ключицей, где лежал заветный, тёплый от тела камешек-оберег. Отец всучил ей утром, буркнув: «Носи. Не снимай».
А на болоте, в это самое время, пока вдалеке, за грядой холмов, гас последний румянец заката и смолкали последние, фальшивые песни, вода у края трясины медленно, лениво пошла пузырями.
Сначала это были единичные, жирные пузыри, выскальзывавшие из-под спутанного покрова ряски и коряг с тихим, влажным звуком «бульп». Они лопались, выпуская не воздух, а тяжёлый, сладковато-медовый газ, пахнущий гниющим тысячелетием – смесью прелых листьев, разложившейся древесины, холодной глины и чего-то столь же древнего, что и каменное нутро планет. Запах был настолько плотным, что казалось, его можно было пощупать – липкой, невидимой плёнкой, оседающей на кожу и одежду.
Затем пузырение участилось. Со дна чёрных, бездонных оконцев, где вода была густой, как смола, потянулись цепочки пузырей, будто по невидимым, скрытым в иле трубам. Они рождались в глубине, набирали объём и лопались у поверхности, создавая странную, неритмичную какофонию тихих хлопков. Вода, до этого неподвижная и зеркальная, заволновалась мелкими, беспокойными кругами, разбивая отражение бледного, уже взошедшего месяца.
Ил на дне зашевелился. Не просто осыпался или плыл – он подергивался, как кожа на спине огромного спящего зверя. Со дна поднимались и опадали целые пласты тёмной, вязкой массы, обнажая на мгновение то бледный, скользкий корень, то нечто, похожее на ребристую, окаменевшую кость непонятного существа. Вода мутнела, превращаясь из чёрной в грязно-серую, молочную взвесь.
Тишина, царившая над трясиной, не нарушилась. Она, наоборот, сгустилась, стала весомой. Исчез последний писк комара, не было слышно даже привычного ночного шороха камыша. Воздух застыл, будто болото втянуло его в себя и затаило дыхание. Давление в ушах нарастало, как на большой глубине.
И тогда возникло ощущение – не звук, не вибрация, а чистое, физическое ощущение в подкорке мозга, в самой глубине инстинктов, – будто что-то огромное и невыразимо древнее под толщей ила, вековой гнили и спящей воды спокойно, с глухим удовлетворением, перевернулось с бока на бок.
Это не было движением в привычном смысле. Это был сдвиг масштаба. Казалось, пошевелилась не тварь в болоте, а само болото как единый, живой, дремлющий организм. Кряжистые, полузатопленные сосны по краям топи едва заметно наклонились, их корни, обнажённые водой, скрипнули, будто суставы. Мох на кочках съёжился, потемнел, впитав в себя внезапную, идущую из глубин сырость.
Вода у самого края, у старого, покосившегося колоды (когда-то сюда, наверное, приходили по воду, а потом перестали), внезапно отступила на ладонь, обнажив чёрный, блестящий, словно вылизанный, склон. И тут же, с ленивым бульканьем, накатила обратно, уже чуть теплее на ощупь.
Из самой чащи топи, оттуда, где, по преданиям, стояла сплетённая из корней избушка, донёсся звук. Не скрип и не шорох. Он был похож на тихий, протяжный вздох, который издаёт спящий, чувствуя во сне холод. Это был звук выходящего из тысячелетних лёгких воздуха – того самого, сладковатого и тяжёлого. Он пронёсся над топью, заставив пламя в далёкой деревне (ещё не погасшее тогда) отклониться и захлопотать, будто испугавшись.
Потом всё затихло. Пузыри стали редкими. Вода понемногу успокаивалась. Но ощущение присутствия не исчезло. Оно расползлось. Распространилось, как та самая плёнка запаха, на соседний лес, на поляны, на спящую деревню. Оно висело в воздухе невидимой, влажной пеленой – обещание, напоминание и терпеливое ожидание. Существо, дремавшее в трясине, не проснулось окончательно. Оно лишь приоткрыло один глаз – не глаз из плоти и крови, а нечто вроде сенсорной мембраны, обращённой к миру. Оно почуяло. Понюхало воздух, доносящий запах страха, фальшивого веселья и человеческого тепла. И, уловив знакомый, ежегодный ритуал – ритуал, ставший для него привычным звонком к ужину, – снова начало погружаться в сон, но уже не глубокий, а чуткий, поверхностный, готовый в любой миг всплыть из тёмных вод, если приглашение окажется достаточно громким. Или если договор будет нарушен.
Оно перевернулось с бока на бок, устраиваясь поудобнее в своей илистой постели, и в самой сердцевине топи, в абсолютной, беззвёздной темноте, на мгновение вспыхнули и погасли два уголька – неярких, тлеющих, полных древнего, безотлагательного голода. Предвкушение витало в болотном воздухе, густое, как смрад. Жертва была уже в пути. Оставалось только ждать, пока она сама дойдёт до порога.
Ночь накануне Ивана Купалы опускалась на Погаслые Луга не с привычной прохладной синевой, а с медленной, удушливой волной. Темнота была не просто отсутствием света – она была субстанцией, тёплой и влажной, как выдох спящего болота. Она липла к коже, заполняла просветы между домами, делала воздух густым и трудным для дыхания.
И в эту тяжёлую темноту вплетались, как яркие, ядовитые нити, запахи и звуки праздника – того самого, что должен был отвести глаза, заглушить правду.
Запах полыни, разбросанной по порогам для обороны от нечисти, был едким и горьким. Он смешивался с душным ароматом свежеиспечённого ржаного хлеба – того самого, что пекли для раздачи нищим и для подношения духам. Но под этой благостной стряпнёй вился и другой запах – вонючего дыма от горелого багульника, который знахарки жгли на угольях, шепча заклятья. Получался странный, тревожный коктейль: домашний уют и древний, шаманский страх.
Звон девичьего смеха, несущийся с выгона, где девки завивали венки, был слишком высоким, слишком нарочито-радостным. Он не лился свободно, а вырывался отрывистыми, нервными трелями, которые тут же обрывались, будто споткнувшись о собственную фальшь. Смех был не искрой веселья, а щитом – таким же хрупким, как плетёные из цветов венки. И каждый этот взрыв хохота отдавался в ушах эхом, которое быстро тонуло в огромной, внимательной тишине, пришедшей с болот.
На самом выгоне, где с утра сносили хворост, уже высилась груда будущего костра – огромная, похожая на чёрный погребальный курган. Рядом суетились парни, их голоса звучали грубо и показно-удало, но в их глазах, пойманных отблеском уже зажжённых по краям поляны лучин, читалась та же зажатость, что и у девок. Они шутили, толкались, но их взгляды то и дело скользили к околице, к той точке, где обычная дорога терялась среди сосен, уступая место другой, невидимой тропе.
И над всем этим – над запахами, над смехом, над суетой – висел тот самый тяжёлый, как отполированный речной булыжник, намертво зашитый в подкладку зипуна, страх. Он не кричал. Он давил. Он сидел холодным комом под ложечкой у каждого жителя, от мала до велика. Старики, сидевшие на завалинках, курили молча, и дым от их трубок стелился не вверх, а странным образом тянулся к лесу, будто его туда втягивало. Матери, помогающие дочерям плести венки, делали это с непривычной, лихорадочной быстротой, а пальцы их дрожали, путая стебли. Даже дети, обычно неугомонные в предвкушении праздника, притихли, чувствуя непонятное, но всепроникающее напряжение.
Они боялись не тёмного леса, не волков, не лешего из сказок. Они боялись того, для кого все их песни, все пляски у костра, все гадания на венках были не праздником жизни, а всего лишь тихим, знакомым шумом. Фоновым гулом, который раз в год становился чуть громче, возвещая не о радости, а о времени платы. Этот шум был для Него чем-то вроде звона посуды на кухне для сытого, дремающего в другой комнате хищника – знаком того, что ритуал кормления начался.
И самое страшное знание, которое, казалось, пропитало самый воздух Погаслых Лугов этой ночью, было простым и неотвратимым: угольки в Его глазах – горят ясно. И ждут.
Это было не метафорой. Каждый, кто хоть раз краем уха слышал истинные, не приукрашенные для детей истории, представлял себе эти угольки. Не как огоньки светляков, а как тление в глубине абсолютно чёрного, холодного очага. Они не мигали. Не двигались. Они просто были – две точки неживого, но жадного внимания, обращённые из чащи болот в сторону деревни. Они ждали не жертвы – её исход был предрешён. Они ждали момента. Мгновения, когда шум песен достигнет пика, когда страх смешается с отчаянной надеждой, и можно будет беззвучно, на расстоянии, прикоснуться взглядом к человеческой душе и сделать в ней зарубку, отметину. Взять аванс.
Поэтому, когда деревня пела, она пела, зажмурившись. Когда плясала, делала это, отворачиваясь от леса. Они создавали шумовую завесу не только для того, чтобы не слышать возможный плач Алёнки, но и для того, чтобы заглушить в себе шепот: «Он смотрит. Сейчас. Прямо сейчас Он смотрит. И угольки Его горят ясно. И ждут».
И ночь, тёплая, душистая, полная притворного веселья, становилась от этого бесконечно длиннее и страшнее. Каждый хлопок в ладоши, каждый взвизг девушки отскакивал от стены молчаливого леса и возвращался обратно, окрашенный в цвет того самого, тлеющего в бездонной дали, ожидания.
Деревня играла свой спектакль с отчаянным, лихорадочным усердием, словно от громкости этого действа зависела не символическая, а самая что ни на есть физическая безопасность. Это было похоже на попытку заткнуть криком огромную, бездонную тишину.
Парни, собравшись у края ещё не зажжённого, но уже угрожающего кострища, начинали свою часть ритуала. Их «гиканье» было не весёлым, а резким, пронзительным, почти боевым кличем. Они разбегались и прыгали через груду хвороста не для забавы, а как на состязании – каждый стремился прыгнуть выше, дальше, с более свирепой гримасой. Мускулы на их загорелых руках и шеях напрягались буграми, но это была не здоровая спортивная игра. Это была демонстрация силы перед незримым зрителем. «Смотри, – словно говорила каждая перекошенная от напряжения улыбка, – мы сильные, мы удалые, мы полны жизни. Не тронь нас». Но их взгляды, устремлённые в момент прыжка куда-то в звёздное небо, на самом деле были закрыты от страха, а приземлялись они не на мягкую траву, а в гущу собственной тревоги, тут же оглядываясь, не потеряли ли они в полёте что-то важное.