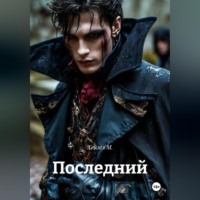Полная версия
Гори, гори ясно!
Девки, взявшись за влажные от волнения ладони, водили хоровод. Их венки из ромашек и васильков, сплетённые днём с смехом, теперь казались неестественно яркими, почти ядовитыми пятнами в сумраке. Кружение было не плавным, а отрывистым – то ускорялось до бешеного темпа, то почти замирало, будто двигатель этого живого механизма давал сбой. Их голоса, исполнявшие древние купальские песни, звенели не чистым серебром, а тонко, нервно, на самой грани фальцета. Они не пели – они выкрикивали слова, стараясь перекрыть не просто гул леса, а тот внутренний гул страха, что нарастал в ушах. «Не слышать, только не слышать, что там, в темноте», – читалось в их широко раскрытых глазах. Песни о любви и суженых звучали как заупокойные плачи, зарифмованные отчаянием.
Воздух был густым супом из запахов. Душистая печёная репа, тяжёлый, хлебный дух кваса, сладковатый дымок от горелых на углях лепёшек – всё это должно было пахнуть домом, сытостью, миром. Но всё это перебивал едкий, смолистый дым от сосновых веток, брошенных в костёр для очищения. Этот дым щипал глаза, лез в горло, напоминая не о празднике, а о погребальном костре. Он висел над поляной тяжёлой пеленой, сквозь которую лица людей казались размытыми, нереальными масками.
И эти лица… Глаза. Они не сияли огнём праздника. Они бегали. Быстрые, короткие взгляды, брошенные поверх голов, через плечо, в сторону леса, на околицу, на соседа – проверяя, все ли ещё тут, все ли ещё держатся за руки в этом хрупком кругу. Смех, который должен был быть заливистым и долгим, вырывался короткими, сухими толчками – «ха!», «хи-хи!» – и обрывался, наткнувшись на каменное выражение собственного страха. Это был не смех радости, а нервный тик, попытка сбросить напряжение, которая только подчёркивала его.
И все эти бегающие взгляды, словно по магнитной силе, раз за разом притягивались к одному месту – к околице. Туда, где, отделившись от праздничной суеты, стояла недвижная, тёмная кучка. Несколько фигур, застывших как изваяния. В центре, опираясь на толстую суковатую палку, стоял Антип. Он не пел, не плясал, не делал вид. Он просто стоял и смотрел. Смотрел не на костёр, не на хоровод, а поверх всего этого, в ту самую черноту за последним домом, откуда вот-вот должна была появиться Алёнка. Его лицо в отблесках далёкого пламени было похоже на вырубленное из гранита – тяжёлое, непроницаемое, несущее на себе груз решения, которое легло на его плечи, как ярмо. Рядом с ним, чуть поодаль, молчали его братья – два дубовых столба, готовые в любой момент превратиться в стражу или в палачей. И эта молчаливая группа на краю света была самым страшным напоминанием для всех ликующих и прыгающих: спектакль – это только антракт. Главное действие, тихое и неотвратимое, вот-вот начнётся там, за кулисами из темноты и страха. И режиссёр у этого действия – не они.
Устинья, в своей нарядной, до блеска выбеленной и расшитой по подолу и рукавам багряными петухами рубахе, не прыгала. Она стояла, прижавшись спиной к шершавому, прохладному стволу старой берёзы на самом краю поляны, будто дерево могло втянуть её в себя, спрятать. Сквозь тонкую ткань рубахи на груди, прямо под ключицей, жгло. Не просто грело – жгло. Её оберег-камешек, тёмный, с прожилками, похожими на застывшие молнии, который отец сунул ей со строгим наказом, был сейчас как уголёк, вытащенный из печи. Он прожигал кожу почти до боли, и это жжение было единственно реальным, ясным ощущением в этом море притворства. Оно было криком, которого нельзя было издать вслух.
То, что она видела накануне, не выходило из головы. Не просто вспоминалось – стояло перед глазами, накладываясь на реальность, как второе, ужасное изображение на стекле. Те два тлеющих пятна во тьме леса. Они не были похожи на огни. Они были глубокими. Как если бы кто-то проткнул саму ткань ночи двумя раскалёнными спицами, и оттуда, из бесконечной тьмы, сочился не свет, а само тление. Эта картина теперь окрашивала всё.
И она замечала странности. Не большие, не явные – маленькие, ползучие сдвиги в привычном мире, будто реальность треснула, и из щели потянулся холод.
Старый пёс Трезор, вонючий, ленивый увалень, который обычно дни напролёт спал на солнцепёке у крыльца, сегодня был другим. Он не бегал, не лаял на шум. Он, поджав хвост, жался к ногам людей, как щенок, пробираясь сквозь лес ног. Его тусклая шерсть взъерошилась, а из глотки вырывалось тихое, непрерывное поскуливание – не на кого-то, а просто в пространство. Жалобное, полное такого животного, невыразимого словами ужаса, что Устинье хотелось завыть вместе с ним. Он тыкался мордой в сапоги мужикам, терся о юбки баб, ища защиты там, где её не было и быть не могло.
Пламя будущего, ещё не зажжённого, но уже сложенного костра… а вернее, ветки, которые парни подпаливали по краям для освещения… вело себя странно. Воздух был неподвижен, тяжёл, ни одна травинка не колыхалась. Но языки пламя, должно быть ровные и устремлённые вверх, вдруг клонились. Не все сразу, а по одному, будто пробуя. И клонились они не в случайную сторону, а в одну – туда, где за лесом лежало болото. Они изгибались, вытягивались, будто их тянула невидимая рука или… или будто само болото, эта огромная, спящая глотка, делало тихий, пробный вдох, пробуя на вкус тепло, ещё такое далёкое, но уже обещанное.
И отец Геннадий. Молодой ещё батюшка, всегда такой неуверенный, но старающийся. Он стоял поодаль от общего круга, где должен был благословить праздник. Он стоял в тени, отбрасываемой высокой конюшней. Руки его были сложены для молитвы, но пальцы не переплетались в привычном жесте – они просто бессильно висели. Губы, обычно шепчущие святые слова, были плотно сжаты, будто зашиты. А лицо… лицо было не бледным, а именно серым. Цвета холодного пепла, цвета земли на заброшенном погосте. Он не смотрел на людей. Его взгляд был пуст и направлен куда-то внутрь себя, в ту внутреннюю пустыню, где, видимо, уже не осталось ни веры, ни надежды, а только признание чудовищной правды, против которой его молитвы были бессильны.
Устинья видела всё это, и каждый такой штрих вонзался в сознание, как игла. Её собственный страх, холодный и цепкий, сплетался с этими наблюдениями, создавая жуткую, неопровержимую мозаику. Праздник вокруг бурлил, звенел, пах, но для неё он был уже прозрачным. Сквозь него, как сквозь дымовую завесу, она видела иную реальность – тихую, внимательную и голодную. И жар камешка на груди был не защитой, а тревожным сигналом, звенящим в такт с её бешено колотящимся сердцем: «Видишь? Чувствуешь? Оно уже здесь. Оно уже смотрит».
И вот настал момент, который висел в воздухе все эти часы, сжимая горло и спутывая мысли. Он наступил не со звоном, а с внезапной, оглушительной тишиной.
Песня, которую девки тянули высоким, надтреснутым хором, смолкла на полуслове – на протяжной гласной, которая оборвалась, будто ей перерезали горло. Музыка – визгливые дудки да глуховатые, отрывистые удары в бубен – захлебнулась, провалилась в эту возникшую пустоту. И наступила тишина. Но не мирная. Она была густой, плотной, как студень, и в ней явственно слышалось только потрескивание поленьев в костре да сдавленное дыхание толпы.
Все головы, как по команде, повернулись к избе на самом краю деревни, той, что стояла особняком, ближе к лесу, чем к людям. Скрипнула плохо смазанная дверная петля – звук сухой, одинокий. И вышла Алёнка.
Её вели под руки Егор и Никита, братья Антипа, но это была не поддержка слабой – это был ритуал. Их крупные, темные руки лежали на её хрупких локтях как печати, обозначая передачу. Они не тащили её – она шла сама. Но её шаг был особенным: ровным, механическим, без малейшей надежды или сопротивления. Казалось, её ноги двигались не по её воле, а по некоей давно установленной, невидимой рельсе.
На ней была простая, грубого холста белая рубаха – не праздничная, а словно подвенечная, но без вышивки, без красоты. Рубаха смерти, а не жизни. Она была ей велика, болталась на тонком теле, подчеркивая детскую хрупкость. А на голове – тот самый венок. Не из луговых цветов, а сплетённый из болотных трав: жёсткой осоки, ядовито-лилового багульника, тусклых веточек иван-да-марьи. Зелень уже начинала вянуть, издавая горьковатый, пыльный запах топи. Этот венок был не украшением, а ориентиром и, возможно, ошейником.
Лицо её, освещённое неровным светом костра, было бледным, как бумага, и блестело от недавних слёз, высохших полосами на щеках. Но сами глаза… Глаза были сухими и пустыми. В них не осталось ни страха, ни мольбы, ни даже тумана отчаяния. Они были как два выгоревших окна заброшенного дома. Она не смотрела на сгрудившихся людей, не искала взглядом сочувствия, которого не могло быть. Она смотрела куда-то сквозь толпу, сквозь яркое, пляшущее пламя, прямо в ту самую чёрную просеку – ту щель в стене леса, откуда веяло могильным холодом.
Её взгляд был устремлён так неотрывно и с такой странной… узнаваемостью, будто она уже видела то, что лежало в конце той тропы, и теперь спешила на встречу, которую нельзя отменить. В этом пустом взгляде была жуткая покорность, которая леденила душу сильнее любых криков. Она была уже не здесь. Её душа, казалось, уже наполовину ушла по той тропе, оставив тело лишь доделать последние шаги по этой, людской, стороне бытия.
И пока она шла этот короткий путь от двери избы к краю света, толпа безмолвно расступалась, образуя живой коридор. В этом молчании не было прощания. Был ужас, стыд и облегчение – страшное, гнетущее облегчение от того, что выбрали не тебя. А она проходила сквозь этот строй, невидящая, не слышащая, уже принадлежащая иному миру, и только венок из болотных трав тихо шелестел у неё на голове, будто перешёптываясь с ветром, что тянул с той самой просеки.
– Иди, касатка, – прохрипела знахарка Матрёна, выходя вперёд из тени. Её голос не был человеческим в эту секунду. Он звучал как скрип несмазанной телеги, которую тащат по сухому щебню, – каждый звук давался с усилием, с болью, с древней усталостью. Это был голос самого обряда, голос земли, принимающей жертву. Она не смотрела Алёнке в глаза – смотла на её венок, будто проверяя заклинание. – Иди да не оглядывайся. Тропа тебя проведёт. Венок укажет.
Слова повисли в тяжёлом воздухе, не как напутствие, а как последнее заклинание, привязывающее девушку к невидимой нити, ведущей в трясину. Не оглядывайся – чтобы не увидела лиц тех, кто её отправляет. Чтобы не вернулась. Чтобы душа её, если попытается вырваться, не нашла дороги назад.
Алёнка медленно кивнула. Это был не ответ живой девушки. Это было механическое движение марионетки, у которой дёрнули за нитку. Казалось, она уже не здесь. Не в теле, не среди людей. Её душа, та самая, за которой охотился Жижеглаз, не рвалась наружу, не металась. Она, будто придавленная невыносимым грузом, сжалась в крошечную, холодную точку где-то в самой глубине, под грудной костью. Точку, которая уже не светилась, а лишь слабо теплилась, готовая погаснуть от первого же дуновения того ледяного внимания, что ждало её впереди. Она была семенем, из которого высосали всю влагу жизни.
И в этот миг, когда тишина грозила взорваться воплем или провалиться в бездну, Антип шагнул к самому краю костра. Его тень, чудовищно огромная и прыгающая, метнулась на толпу, накрыв её на мгновение. В его руках была тяжёлая деревянная чара, потемневшая от времени и рук, полная браги – тёмной, пахучей, как сама эта ночь. Он поднял её не для питья. Он поднял, как жрец, приносящий возлияние не богам, а тьме. Его лицо, обращённое к пылающему хворосту, было искажено не яростью, а какой-то нечеловеческой решимостью, за которой скрывалась бездна того же страха.
– Гори, гори ясно! – крикнул он, и голос его, всегда низкий и властный, сорвался на сиплый, надорванный рёв. Это не был призыв. Это был вызов – и себе, и людям, и тому, что ждало в лесу. Вызов, который должен был заглушить правду. – Чтобы не погасло!
И это сработало, как щелчок затвора. Толпа, как по сигналу, подхватила. Не сразу, не дружно – сначала несколько голосов, сорвавшихся с места, потом ещё, и ещё, пока весь воздух не взорвался.
Крики. Не слова, а первобытные, гортанные звуки, вылетавшие из перехваченных глоток.
Песни. Те же купальские, но теперь выкрикиваемые не в радость, а в исступлении, с надрывом, рвущим голосовые связки.
Топот ног. Десятки ног затопали по земле, не в пляске, а в нервной, дробной дроби, поднимая клубы пыли, которая смешивалась с дымом.
Всё это смешалось в единый оглушительный, бесформенный гул. Это был не голос людей. Это был голос стада, пытающегося ревом отогнать приближающегося хищника. Этот гул имел одну цель – заглушить. Заглушить собственный леденящий страх, сжавший сердца. Заглушить возможный, неуслышанный никем, плач девушки, уже сделавшей первый шаг по пыльной дороге в темноту. Заглушить даже шелест её босых ног по той же пыли – тихий, стыдливый звук уходящей жизни.
– ГОРИ, ГОРИ ЯСНО! ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО! – орали они, хором, снова и снова, и их лица, искажённые гримасой псевдовеселья, были обращены к огню, но души были повёрнуты спиной к тому, что происходило на краю деревни. Они не провожали Алёнку. Они отталкивали её. Шумом. Яростью. Этим оглушительным, фальшивым пламенем песни, в котором тонуло всё, даже совесть.
А огонь костра, будто в ответ на этот вопль, взметнулся выше, осветив на миг искажённые лица, и белую фигурку, тающую вдали, и чёрный, как провал в мироздании, проём просеки, куда она направлялась. И в этом свете казалось, что кричат не люди – кричит сама ночь, сама земля, пытаясь забыть то, что сейчас должно совершиться.
Устинья видела. Её взгляд, прикованный к той белой фигурке, выхватывал каждую деталь, словно она процарапывалась иглой прямо на сетчатке глаза.
Алёнка, освещённая сзади адским светом костра, казалась не человеком, а силуэтом, вырезанным из самого мрака. Пламя, яростное и фальшивое, било ей в спину, очерчивая тонкий стан и растрёпанные пряди волос под венком злым золотым нимбом. Оно делало её одновременно призрачной и ужасно материальной – последним напоминанием о том, что уходит не дух, а плоть и кровь. И с каждым её шагом вперёд, к черноте, этот свет словно выталкивал её, отрывал от края освещённого круга, где бушевала людская пена.
Она отделилась – не просто отошла. Это было как отрывание куска живой ткани. Между ней и краем деревни возникла полоса пыльной, неосвещённой дороги, и эта полоса с каждой секундой становилась шире, непроходимее. Фигурка медленно удалялась, но не потому, что шла тихо, а потому, что тьма впереди начинала её поглощать. Сначала растворились в черноте босые ноги, потом белая рубаха стала тусклым пятном, затем – размытым силуэтом. И вот уже лишь смутное движение, тень среди теней, а через мгновение – ничего. Только мрак, густой, как деготь, начинавшийся за последним покосившимся домом. Мрак, который не был пустым. Он был наполненным. Ожиданием.
Её сердце в груди не просто колотилось. Оно билось в истерическом, неровном ритме, будто пыталось вышибить грудную клетку изнутри, выпрыгнуть наружу и умчаться прочь от этого места. Каждый удар отдавался в висках глухим гулом, перекрывая на секунду оглушительный хор. В горле стоял ком, мешающий дышать.
И вдруг, сквозь этот физический ужас, прорвалось иное чувство. Острое, обжигающее, как удар раскалённым железом. Жгучая, дикая несправедливость. Она вспыхнула не мыслью, а всем её существом, смыв на мгновение даже страх.
Она увидела ложь. Всю её, целиком, от края до края.
Вся эта пляска вокруг огня – этот рёв, эти поддельные улыбки, эти прыжки через пламя – была не обрядом, не традицией, не горькой необходимостью. Это была грандиозная, трусливая ложь. Спектакль, который разыгрывали не для богов и не для духов, а для самих себя. Чтобы убедить себя, что они всё делают "как надо", что в этом есть смысл, порядок, даже святость.
Но смысла не было. Была простая, отвратительная арифметика страха. Они не отдавали жертву с покорностью судьбе или с гордым самопожертвованием. Нет. Они закидывали болото чужим мясом, как голодной, бродячей собаке кость, брошенную из-за угла, чтобы та не вцепилась в ногу хозяину. И делали это с таким отвратительным, лицемерным притворством, будто всё в порядке. Будто не отправляют на смерть живого человека. Будто это просто часть праздника, немного грустная, но неизбежная, как осенний листопад.
Они пели "Гори, гори ясно!", а на самом деле молили: "Возьми её и отстань от нас". Они водили хороводы, а на самом деле выталкивали Алёнку за невидимую черту. И этот разрыв между деланным весельем и чёрной, молчаливой реальностью того, что только что произошло, был для Устиньи оскорблением. Оскорблением против Алёнки, против самой справедливости, против той искры жизни, что ещё теплилась в её собственном сердце.
Она смотрела на раскрасневшиеся, искажённые криком лица соседей, и они вдруг показались ей не знакомыми людьми, а участниками какого-то грязного, постыдного сговора. А белая фигурка, исчезнувшая во тьме, стала в её сознании не просто жертвой, а живым укором всем им. Укором, который отныне будет тихо звучать в каждом скрипе половиц, в каждом шепоте за спиной, в самой гуще этого лживого, оглушительного гула.
И в этот миг, когда её сердце разрывалось от несправедливости, а взгляд был прикован к поглотившей Алёнку тьме, она увидела их снова.
Не там, вдали, в глубине леса. Они возникли прямо на краю толпы, в самом эпицентре человеческого кипения, там, где казалось невозможным их присутствие. Два призрачных, мерцающих пятна, висящие в воздухе на высоте человеческого роста – там, где секунду назад была лишь пустая, дымная мгла между спина́ми орущих мужиков.
Это не были огни. Это было тление. Глубокое, неспешное, как угасание звезды в чёрной дыре. Они не светили, не излучали – они источали. Источали тихий, немигающий жар, который не согревал, а иссушал всё вокруг. Воздух над ними колыхался, как над раскалённым камнем, но не от живого пламени, а от этой нездоровой, сосредоточенной внутренней жарины, что шла из самой сердцевины небытия.
И самое ужасное – они были обращены не на уходящую Алёнку. Не на ту, что уже несла в себе их будущую добычу.
Они смотрели на костёр.
На этот буйный, шумный, лживый огонь, вокруг которого выла толпа. Два уголька, висящие в воздухе, казалось, внимательно, безо всякого выражения, изучали пламя. Они следили за тем, как языки лижут чёрное небо, как взмывают вверх снопы искр, как дрожит жаркое марево. Но в их «взгляде» не было ни восхищения, ни страха перед стихией. Был лишь холодный, аналитический интерес, будто учёный рассматривает под микроскопом бурную, но бессмысленную жизнь микробов.
Они видели не красоту огня. Они видели фальшь. Видели ту самую яростную, отчаянную попытку притвориться, что исходила от каждого крика, каждого топота. И, казалось, эта ложь, это человеческое жалкое притворство жизнью интересовало Их в этот момент куда больше, чем предрешённая судьба одной девушки. Это было как если бы зверь, привлечённый запахом еды, вдруг заметил не саму пищу, а странный, суетливый танец поваров вокруг котла – и на мгновение застыл, очарованный абсурдом зрелища.
Устинья замерла, парализованная двойным ужасом: от самого видения и от леденящего понимания, заключённого в нём. Он был здесь. Не на границе. Не в далёком болоте. Он был среди них. Впитывая не тепло костра, а жар их собственного страха, облечённый в песню. И он смотрел на этот огонь так, словно видел его истинную, жалкую суть – не очищающую силу, а дымовую завесу, которую вот-вот развеет.
Устинья вжалась в шершавую кору берёзы так, будто пыталась просочиться сквозь неё. Её рука самопроизвольно взлетела ко рту, ладонь с силой прижалась к губам, запечатывая крик, который рвался наружи ледяным пузырём. Она отшатнулась не столько телом, сколько всей душой – резким, внутренним движением, от которого в висках застучало. В глазах стояла не пелена, а наоборот, мучительная, гиперболическая ясность: каждый волосок на голове мужиков перед угольками, каждая искра, каждое искажение воздуха над тлеющими точками.
И самое чудовищное – никто, кроме неё, этого не замечал.
Прямо перед этими висящими в воздухе печами ада, все горланили. Губы растягивались в оскалы, обнажая жёлтые зубы, жилы набухали на шеях. Руки хлопали в ладоши – сухие, гулкие удары, которые должны были звучать весело, а выходили механическими, как щёлканье счетов. Они делали вид, что веселятся, с такой отчаянной, потной убедительностью, что это было страшнее любой паники. Они были слепы и глухи, заключённые в свой грохочущий кокон ужаса.
А эти два уголька просто смотрели.
Их тление не было хаотичным. В нём была бесконечная, холодная внимательность. Они не моргали, не дёргались. Они просто впитывали зрелище. И в этой неподвижности было понимание. Глубокое, безошибочное, как у хищника, который по едва уловимой дрожи в стаде вычисляет самого слабого. Они понимали не просто смысл ритуала. Они понимали всю эту «неискренность». Фальшь каждой ноты, лицемерие каждого хлопка, трусливую надежду, спрятанную за рёвом. Они видели не жертвоприношение – они видели сделку, заключённую на грязной тряпице страха. И это их занимало. Интересовало. Как учёного может заинтересовать сложная, но в корне ошибочная гипотеза.
Потом они погасли. Не как пламя, которое задувают. Они исчезли. Словно кто-то повернул рубильник в иной, недоступной человеческим чувствам реальности. Одна точка – и нет её. Вторая – и след простыл. На их месте осталась лишь обычная ночная мгла, чуть более густая, будто дым от костра замешкался там на миг дольше.
Но ощущение осталось. Гнетущее, неоспоримое. Ощущение, что кто-то только что внимательно, с отстранённым любопытством рассматривал их всех. Не как людей, не как общину, не как грешников или праведников. А как муравьёв у костра. Суетящихся, кипящих своей мелкой, нелепой деятельностью, строящих свои соломенные баррикады из песен и плясок перед лицом океана ночи. Этот взгляд был лишён ненависти, презрения или даже голода в привычном смысле. Он был полон познавательного равнодушия. И это равнодушие висло в воздухе тяжелее любого страха. Оно означало, что их спектакль не просто увидели – его оценили, разобрали на части и отложили в сторону как нечто не слишком существенное, но временно занимательное.
Устинья медленно опустила дрожащую руку ото рта. На ладони остались отпечатки зубов. Гул праздника вокруг снова обрёл объём, но теперь он звучал иначе – пусто, глухо, как шум за толстой стеклянной стеной, за которой она осталась одна на один со знанием, от которого не было спасения.
На болоте в эту ночь было тихо. Но не та привычная, мертвенная тишина спящей топи, что давит уши гулом собственной пустоты. Эта тишина была иной – напряжённой, настороженной. Как затаившееся дыхание. Воздух, обычно шевелящий болотные кочки, застыл. Даже привычный скрип стволов кривых сосен, растущих из трясины, прекратился. Казалось, сама топь прислушивается.
Вода у подножия Камня-Смотрителя – огромного, замшелого валуна, чьи бока были испещрены древними, почти стёршимися временем знаками (спиралями, зигзагами, кругами с точками) – не пузырилась. Обычно здесь всегда поднимались со дна редкие, жирные пузыри болотного газа. Теперь же гладь была чёрной и идеально гладкой, как полированное стекло гроба. Трясина замерла в полной неподвижности. Не было ни всплеска, ни шелеста камыша. Это была неестественная, зловещая пауза, будто весь мир на этой границе задержал дыхание в ожидании гостя.
И гость пришёл.
Когда бледная, как лунный луч, Алёнка вышла на последнюю, шаткую кочку перед окончательным рубежом – перед тем местом, где кончалась условная твердь и начиналось жидкое, зыбкое нутро Слепых болот, – она остановилась. Она не упала, не застыла в ужасе. Она просто перестала двигаться, как марионетка, у которой оборвали нить. Казалось, она ждала. Ждала приказа. Ждала знака. Её венок из багульника и осоки, этот жалкий, увядающий венец, чуть шевелился в абсолютно неподвижном воздухе. Не от ветра – ветра не было. Он шевелился сам по себе, будто живые, ядовитые травы тихо ликовали, чувствуя близость дома.
И тогда из тьмы, прямо перед ней, без звука, проступили они.
Они не возникли резко. Они проявились, как изображение на старой, засвеченной фотопластине, постепенно набирая чёткость из густого мрака. Сначала – лёгкое свечение, будто два далёких светлячка. Потом – две расплывчатые дымчатые сферы. И наконец – два глаза.
Не отражения луны в воде. Не пятна гнилушек. Чёткие, ясные, горячие точки, висящие в воздухе на высоте её лица. В них не было ни белков, ни зрачков в человеческом понимании. Это были сгустки тёмного, концентрированного тления, словно раскалённые докрасна угли, помещённые в самую сердцевину абсолютного холода. Вокруг них искривлялось пространство, струился едва видимый марево, как над раскалённой плитой.
В них не было злобы. Не было той яростной, животной ненависти, которую можно понять. Не было жажды в смысле страстного желания. Был лишь бесконечный, равнодушный голод. Голод не на плоть, не на кровь. Голод на тихий свет. На то неуловимое, тёплое свечение, что дрожит внутри каждого живого существа – душу, волю, саму жизненную искру. Этот голод был старше леса, древнее камней. Он был фундаментальной, неумолимой силой природы, как гравитация или энтропия, – силой, которая ничего не хочет, кроме как поглощать, уравновешивать, возвращать тепло в холод и свет в тьму.