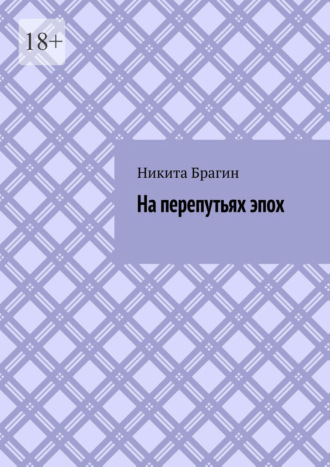
Полная версия
На перепутьях эпох
Другая сторона – воплощение мечты означает её смерть. Мечта боится воплощения и умирает, когда оно совершается. Умирание это может оказаться пошлым – наверное, это самое страшное. В далеком теперь 1990 году я любовался видом Айя-Софии с палубы корабля, и кто-то рядом едко пошутил – а если бы сейчас София была наша, наверное, стояла бы облупившаяся, с покосившимся крестом, в лесах, давно не посещаемых реставраторами, как десятилетиями стоял величественный собор Нового Иерусалима. Подумалось еще, а вдруг её взорвали бы, как храм Христа Спасителя? На возможный ответ, что нет, не стали бы, ибо древность, легко возражу – а собор Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве разве не древность? Двенадцатый век. И примеров таких множество, так что судьба Софии, великого символа, могла быть ужасна. А если бы не снесли, а использовали бы в качестве еще одного музея атеизма, или планетария? Вот и пример пошлости. Так что пусть София останется не нашей, пусть Константинополь никогда не будет нашим, ибо много у нас своего в небрежении до сих пор.
И все-таки нельзя избежать влияния особенного мистицизма, глядя на храмы в золотой вуали. Само рождение Царьграда, основанного еще во времена классической древности выходцами из Мегары, таинственным образом пророчит его будущую славу, пророчит словами пифии, Дельфийского оракула. Некогда мегаряне задали вопрос оракулу Аполлона – какое место занимают они среди других областей Эллады. И оракул дал ответ, по обычаю стихотворный и двусмысленный, причем двусмысленность эту тогда никто не разгадал. Не знаю, известен ли тайный смысл в наше время, потому привожу текст ответа Аполлона и собственную интерпретацию его:
«Лучший край на земле – Пелазгов родина, Аргос;
Лучше всех кобылиц – фессалийские, жены – лаконки;
Мужи – которые пьют Аретусы-красавицы воду.
Но даже этих мужей превосходят славою люди,
Что меж Тиринфом живут и Аркадией овцеобильной,
В панцирях из полотна, зачинщики войн, аргивяне.
Ну, а вы, мегаряне, ни в третьих, и ни в четвертых,
И ни в двенадцатых: вы ни в счёт, ни в расчёт не идёте».
(перевод Ф. Петровского).
Ответ оракула был тогда понят как издевательский – мегарянам нет места в «каталоге» земель Эллады, их и перечислять с прочими не стоит, они заурядны. Но эта заурядность (такими быть хуже, чем последними!) на повороте истории превращается в лидерство, даже более того, в первенство вне конкуренции, которое просто не может быть оспорено. Они, мегаряне, основатели Царьграда, они нашли это место, Творцом предназначенное для великой столицы, и тем самым предвосхитили евангельскую притчу – «будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Не стану спорить со скептиками, но все-таки посоветую не смеяться над словами дельфийского оракула.
Дальнейшее не менее интересно. Почему Константин перенес имперскую столицу? Ответ – из-за христианства – будет неверным. Новая религия уже давно была принята им, перенос столицы случился через 17 лет. Другой ответ – восточные провинции империи были в значительно лучшем состоянии, были сильнее экономически, меньше подверглись кризису III века. Этот ответ значительно убедительнее, но ни один предшествующий император не делал столь радикального шага, даже решительный Диоклетиан, даже Адриан, обожавший Грецию и эллинизм. Так получилось, и при этом два события произошли при одном императоре. Пусть они разделены семнадцатью годами, но мистик всё равно будет искать связь этих событий, да и как иначе?
И еще. Есть, и явственно ощущается здесь, на Босфоре, перед прощальным образом великого города – предопределенность, предназначенность именно этого места для столицы тысячелетней империи. Природа дала всё, что для нее нужно – пролив меж двумя морями, как линию границы двух миров, которым эмблематически соответствуют две главы имперского орла, как проход между югом и севером, причем не просто проход, а узловой участок пути. Добавим к этому уникальность Золотого Рога – в мире мало столь удобных бухт. Если сравнить столицу Византии с иными столицами великих держав, то эта предназначенность станет еще яснее. Возьмем для примера Москву. Маленькая окраинная крепость Владимиро-Суздальского княжества изначально была провинциальным центром – здесь нет даже большой реки, удобной для судоходства и способной обеспечить как защиту центра города, так и потребность его в воде (к началу ХХ века это стало очевидно). Нет у Москвы и особого положения среди других городов Руси – чем, собственно, хуже Тверь? Даже лучше, дальше от опасной южной границы, ближе к богатым торговым центрам северо-запада, да и Волга полноводнее. В самом соперничестве Москвы и Твери в XIV веке всё решилось фактором частным, субъективным, личным, но не общим, объективным, географическим. Воля московских князей оказалась сильнее, чем выгодное географическое положение.
Можно взять для примера и Санкт-Петербург. Здесь явственно видно соединение объективного и субъективного: положения города на рубеже Западной Европы и воли Петра, стремившегося ввести страну в строй европейских держав. Но, в отличие от Константинополя, Петербург был и остается городом приграничным и не может стать сердцем страны. Поэтому Константинополь, Стамбул, Царьград есть некий идеал столицы на все времена, причем столицы не просто государства, но империи. Как результат крушения Османской империи можно рассматривать и перенос столицы в куда менее привлекательную, провинциальную, но в большей мере турецкую Анкару.
Теперь же нам предстоит отправиться в долгий путь по извилистой и сложной дороге, которая согласно моему предпочтению будет много раз отклоняться от прямого пути на восток, в глубь Анатолии, будет сворачивать то на юг, то даже на запад, и все-таки станет кратчайшим путем между самыми достопамятными местами этой земли. Как в научной фантастике – прямой путь меж звездами имеет лишь кажущуюся прямизну, на деле это долгое до бесконечности движение то ли по спирали, то ли по какой-то загадочной ленте Мёбиуса, подчиненное как гравитационным силам, так и непостижимой обыденному разуму кривизне самого пространства. И точно так же внешне изогнутый, парадоксальный путь в умозрении фантастов становится путем кратчайшим, пронизывающим улитку пространства независимо от её изгибов.
Дорога есть еще и древнейший символ искусства, и даже самого человечества, а если идти дальше, то целого мира, Вселенной, находящейся в непрерывном развитии, следовательно, движении. Рассматривая движение природы и человечества, любой беспристрастный наблюдатель должен будет согласиться с наличием цели этого пути. Даже, если «конечная цель – ничто», это не означает её несуществования, напротив, она присутствует всегда, вне зависимости от житейских, теологических или философских её интерпретаций, включая даже крайние формы материализма, агностицизма или философского релятивизма, выражаясь хотя бы в конечности любого процесса.
Что такое цель для нас? Достижение столицы Турции, Анкары, города, мало известного туристам и далеко уступающего славой великому Царьграду? Это, на деле, лишь внешняя оболочка цели, её форма, которая структурно подобна форме художественного произведения, например, стихотворения. Связь её и содержания далеко не всегда бывает прямой и понятной всем, но часто, напротив, оказывается улавливаемой лишь на интуитивном уровне. Кроме того, очевидно, что избранная форма может стать вместилищем самых разных, даже противоположных друг другу вариантов содержания.
Что же за содержание я вкладываю в избранную форму лирически-сентиментального путешествия? Можно обозначить её одной фразой – разговор об искусстве и совершенстве. Но можно и подробнее обсудить все выкладки и выводы, и тогда цель нашего путешествия станет и объемной, и обширной. Думаю, что пришло время поговорить об этом.
Во всяком пути, движении, развитии можно найти две силы – уравновешивающую, стабилизирующую, и противоположную ей, выводящую из состояния равновесия, направляющую, устремляющую. Мы отправляемся в дорогу, покидаем дом с его устроенностью, его порядком ради движения, ради смены привычного новым, ради самого чувства дороги. Но не только. Еще – ради нового дома, нового покоя, ради обретения нового равновесия, как материального, так и духовного. Или вот еще как. Мы поднимаемся на вершину горы, и путь становится всё труднее, и сгущается холод, и нет приюта, и долина привольная всё ниже, всё дальше. С каждым шагом вверх всё более шатким становится равновесие жизни, и смерть оказывается рядом, прямо на плече, тихо следящая и ждущая. Одновременно с этим происходит воспарение духа; на вершине он разворачивает свои крылья, восторг, смешанный с благоговейным ужасом, подобным страху Господню, охватывает всё существо. Чем тоньше нить жизни, чем зыбче связь с миром, тем окрыленнее дух. Что-то подобное происходит с человеком сразу после кризиса тяжкой болезни – странная неземная светлость наполняет душу и очаровывает её тихим счастьем, когда даже простой одуванчик начинает казаться небесным цветком, когда слабое дыхание течет как мед.
Не есть ли в этом величайшая тайна жизни? Не рискуя обременять читателя сложными научными и философскими понятиями, да и не чувствуя в себе довольно знаний и опыта в этих областях, всё же попробую сказать об этом как можно проще. Жизнь, пребывающая в непрерывном движении, развивается по пути всё большего усложнения. Биологический регресс паразитов не в счет, это частный случай, исключение из правила. Мы приходим к теории эволюции, но тут сразу начинаются проблемы, ибо в обыденном сознании понятие эволюции непременно ассоциируется с учением Дарвина о естественном отборе. И я уже слышу краем уха треск ломаемых копий на шутовском турнире между эволюционистами и креационистами. При этом кажется, что наличие такого понимания в России можно объяснить долгим господством идеологии марксизма, насаждавшейся со школьных лет. Но это впечатление обманчиво. Увы, и на Западе слова «теория эволюции» в массовом сознании неразрывно связаны с именем Чарльза Дарвина и с естественным отбором.
Но что такое естественный отбор? Прежде всего, сила, уравновешивающая отношения между организмом и окружающей средой, сила, ведущая к приспособлению организма и вида в целом к меняющимся условиям среды. Равновесие – вот цель естественного отбора. Но это не единственная сила, участвующая в развитии живого. Понять это нетрудно. Максимально приспособлены к среде низшие формы жизни. Какие-нибудь синезеленые водоросли, которых сейчас биологи предпочитают называть цианобионтами, могут жить и в кипении гейзеров Камчатки, и в ядовитых, насыщенных пестицидами и удобрениями водах «рукотворных морей», и во всесожигающем пламени радиации. Полагают ученые, что такие организмы способны устоять и против космического холода, и что они, подобно спорам, могут разноситься по Вселенной, расселяться по планетам и давать начало новым оазисам жизни.
Но в таком случае, действуй лишь один естественный отбор, жизнь так и осталась бы на уровне цианобионтов, ибо какой смысл в усложнении и совершенствовании, если примитивный организм и так превосходно приспособлен к условиям, в том числе экстремальным? Между тем, чем сложнее организм, тем уже спектр условий, в которых он может существовать. Развитие жизни ведет не к уравновешиванию, но к появлению все менее равновесных систем. Или, скажем точнее, равновесие живого по мере его усложнения становится все более неустойчивым.
По существу, это означает, что для объяснения развития живого недостаточно одного естественного отбора. Более того, естественный отбор можно интерпретировать как случай проявления общего вселенского закона – закона усреднения. В классической физике, в области термодинамики анализ действия этого закона привел к появлению такого понятия как энтропия. Естественный отбор – это энтропия на биологическом уровне, процесс, ведущий к усреднению, уравновешиванию отношений организма и среды, и к отсечению всего, не укладывающегося в схему, всего, что вопреки ей. Но тогда, по аналогии с термодинамикой, в рамках которой энтропия вела к «тепловой смерти» Вселенной, то есть, к равномерному рассеянию энергии, угасанию звезд и прекращению всех процессов, естественный отбор без противовеса должен был бы означать «биологическую смерть» Вселенной – прекращение всех биологических процессов, неизбежно наступающее тогда, когда живое примет наиболее равновесную, а значит, самую примитивную форму.
А это означает, что движущая сила эволюции – не естественный отбор, но явление, коренным образом противоположное ему, действующее ему вопреки и ведущее жизнь ко всё более сложному, всё менее устойчивому, всё более хрупкому и ранимому, всё менее определяющемуся внешними материальными факторами, и, как итог, к Разуму и Духу. На этом остановлюсь, ибо опасаюсь, что я и так уже далеко углубился в области специально научные. Скажу лишь одно. Если цель развития есть некий идеал, то в философии такой идеал уже давно описан под именем Абсолют.
Теперь самое время вернуться к более привычному и лучше адаптированному к содержанию этой повести вопросу о творчестве. Художественное творчество само есть путь, в его анализе вполне возможно и использование термина «эволюция», а это означает, что и здесь возможен поиск диалектического взаимодействия противоположных сил. Получится ли? Начнем с привычного утверждения «искусство есть отражение действительности». Так ли это? Сначала кажется, что так, ведь художник изображает то, что знает, то, что видит, и даже в фантазии его выражается, пусть и исподволь, пусть и непрямо, окружающая действительность. Наконец, формирование личности художника, особенности его творческой манеры, почерк, идея, эмоциональный спектр – несомненно зависят от действительности, или, пойдем дальше, от окружающей среды, посредством которой они формируются. Но тогда поставим вопрос – а в чем цель творчества, искусства? Неужели в отражении действительности, так сказать, в фиксации её для будущих поколений?
Художественная фотография давно признана самостоятельным видом изобразительного искусства. Да и без признания, достаточно взглянуть на работы Родченко, чтобы с этим согласиться. Но в качестве исторического документа годится любая фотография, даже самая непрофессиональная и нисколько не художественная. Она в любом случае есть факт исторический, есть выражение (отражение) действительности. Искусством фотографию делает нечто иное, нечто большее, чем это самое отражение. И это заключение можно перенести на другие виды искусства, и не только на изобразительные, но и на литературу.
Но давайте сделаем еще один шаг, очень смелый и рискованный. Музыка – величайшее из искусств. А она что, тоже «отражение действительности»? Было бы очень странно согласиться с этим. Да, конечно, есть программные симфонии, есть произведения, в которых слышатся и шум моря, и завывание метели, но я не могу представить, что Дебюсси ставил целью музыкальную передачу плеска волны, а Шопен – полета снегового вихря. За этими звуковыми образами стоит иное, и неизмеримо большее, чем слышимый нами мир. Абстрактность музыки, её предельная (для искусства) символичность отвергают в принципе начальный тезис об отражении.
Бродский хорошо сказал о поэзии, точнее, о трех направлениях, в которых работает поэт – логика, интуиция, откровение. Это утверждение можно применить и к другим видам искусства. Для музыки в этом случае логическая ступень сведется к мелодии и гармонии. Но интуиция, но откровение – займут всё остальное, и дадут нам духовную полноту искусства. Перефразируем – есть материальные и формальные стороны, в конечном счете сводимые к логике. И есть сторона духовная, в которой звучит откровение. Интуиция же действует на обоих уровнях.
К чему мы пришли? К тому, что художник, поставив своей целью отражение действительности, неминуемо замкнется в тисках материи, в тупике энтропии, и придет к творческой смерти. Но если так, осталась последняя ступень, последний шаг. В чем состоит цель творчества, куда оно идет, к какому идеалу? Согласившись с духовным происхождением его движущей силы, снова, как в случае биологической эволюции, приходим к Абсолюту.
Мы заговорились, а поезд скоро тронется. Надо на чем-то закончить, и я ощущаю потребность сказать еще одно, важное, личное. Впрочем, вы, наверное, уже сами догадались – это пространное эссе, облеченное в старинную форму сентиментального путешествия, лишь внешне, лишь материально есть рассказ о Турции и о странствии по этой стране, а на самом деле это разговор, уводящий далеко от предметов внешних, лишь ассоциативно, лишь интуитивно связанных с иным, намного более обширным и полнозвучным миром.
Глава 6. Измит
Утренние лучи, врываясь в окна вагона, щекочут веки, окончательно прогоняя кое-как состоявшийся сон. Перед глазами изредка промелькивает синяя гладь Мраморного моря, но по большей части проносятся фасады и плоские крыши домов, разнокалиберных, не сочетающихся друг с другом, в беспорядке нахлобученных недавних и современных построек – всё новое и всё достаточно безликое. Вполне естественная картина в условиях, когда единого плана градостроительства не существует, а каждый застройщик, заняв земельный участок, строит по-своему, пусть даже и нанимая архитектора. Пестрота получается почти хаотическая.
Этот хаотический образ давнего воспоминания (ибо в Измите я был в далеком уже 1994 году) легко сменяется в воображении другим хаосом, на этот раз сотворенным природой. Через пять лет после моего кратковременного посещения Измит был полностью разрушен катастрофическим землетрясением. Все эти дома и домишки «сложились», обвалились стены, упали перекрытия, а сколько жертв было – цифры расходятся, но никак не меньше десяти тысяч. Много шумела пресса по поводу того, что строительство велось с нарушениями, что всё было пронизано коррупцией, и так далее, очень узнаваемо и очень обычно. Так же, как и то, что следующее землетрясение может создать точно такой же смертельный хаос и вызвать точно такие же дискуссии и обвинения.
Между тем, застраховаться от землетрясения на сто процентов невозможно даже с помощью самых современных технологий, позволяющих строить здания, которые, согласно проекту, должны выдерживать удары в семь и восемь магнитуд. Но что из того, разве кто-нибудь сможет назвать предел мощности сейсмического толчка? Его просто нет. В ряду множества распространявшихся ранее и упорно продолжающих плодиться ныне предсказаний грядущих бедствий землетрясения занимают почетное место, да и как иначе, если Сан-Франциско стоит на активном разломе Сан-Андреас, а истомленный скукой и унынием обыватель так любит щекотать нервы катастрофами… А поскольку сейсмически активные области по площади далеко уступают стабильным, то на помощь приходит лженаука с недалекими спекуляциями о глубоких разломах, пересекающихся то под Москвой, то под Чернобылем, в общем, в тех местах, где ни разу в истории не происходили сейсмические толчки. Как говорится, несчастных случаев у вас не было? Будут.
Но ведь жалко людей, жалко города, пусть и такие бестолковые, как этот Измит с его тесными домишками, балконы которых густо уставлены цветочными кадками. Представьте, полминуты, минута – и всё это обваливается, рушится, обращаясь в безобразный и бессмысленный хаос обломков, арматуры, пыли. Жили люди – и не живут больше. И сколько таких происшествий было за историю человечества – не сохранена память обо всем этом в анналах, да и не вместят летописи всех трагедий.
И вот еще что удивительно. Очень часто люди предпочитали селиться именно в таких опасных местах. Есть в южной Турции античный город Сагалассос, возникший незнамо когда, взятый с боя Александром Великим, отстроенный в эпоху эллинизма, процветавший и в римское время. На рубеже тысячелетий там работала бельгийская археологическая экспедиция, и можно было дивиться той аккуратности, такту, больше того, интеллигентности ведущихся работ. Бельгийцы обнаружили и расчистили античные водоводы, и в городе вновь заработал древний источник, устроенный точно так же, как позднейшие городские «фонталы» эпохи Возрождения, вроде того, веронского, у которого Меркуцио был смертельно ранен Тибальтом. Чистейшая вода течет, поднимаясь из трещин, которые, увы, связаны с глубинным разломом, что и стал причиной многочисленных землетрясений, окончательно разрушивших город в ранневизантийскую эпоху. Впрочем, подземные толчки были и раньше, но люди восстанавливали поврежденные сооружения. Археологи расчистили и отреставрировали здание библиотеки эллинистического времени, поврежденное землетрясением; там стены и мозаичный пол рассечены трещиной со смещением, и этот зримый след стихии сохранен исследователями, так что желающий может без труда измерить амплитуду смещения.
И ведь это место, Сагалассос, далеко не единственное. Вспомним поселения крито-минойской культуры на самом Санторине, Помпеи и Геркуланум у подножья Везувия, а если поближе к нашему времени, то Лиссабон, Мессину, Ашхабад… И, конечно, придет на ум и мифическая Атлантида, и важно уже не то, была ли она вообще, и если была, то где её искать, но важна сама история о культуре, достигшей могущества, и в один день низринутой в хаос.
А ведь такова и вся цивилизация. Чем она сложнее, чем технологичнее, чем больше в ней взаимосвязей, тем всё более хрупка её структура, и тем более подвержена она трагическим, роковым стечениям обстоятельств. И тут землетрясение – так, мелочь в сравнении с ядерной зимой или падением крупного астероида, не оставляющим надежд на выживание не только цивилизации, но и самому человечеству. Пусть меня обвинят в социал-дарвинизме, но, увы, не могу промолчать о бросающемся в глаза сходстве. Да я уже и говорил об этом – чем более «продвинут», «прогрессивен» и специализирован биологический вид, тем более шатко его положение в непрерывно изменяющемся мире. Могуч самец гориллы, если надо, так леопарду шею свернет, но достаточно оставить его без родных джунглей, и ничем он не поможет ни своей семье, ни себе самому. Так и человек – при разрушении городов ему не помогут никакие высокие технологии и глобалистские ухищрения.
Впрочем, на все воля Божия, и приходя к этой мысли, приучаешься любить то, что есть, и жалеть то, чего не стало. А не стало скорее по нашей собственной глупости, нежели по воле природы. Простой пример. Ни один ураган, ни один пожар, ни одно наводнение не нанесли такого ущерба нашим главным городам, Москве и Санкт-Петербургу, как мы сами, род человеческий. Больше скажу, ни один агрессор не наломал столько в Москве, сколько мы сами, да еще за микроскопический для истории срок! И сейчас всё не уймемся.
Незаметно отклонились мы в рассуждениях, всё больше сужая и конкретизируя тему, и сейчас уже говорим об искусстве, о красоте, и об их хрупкости и ранимости. Кажется, эта сторона особенно знакома культуре японской, и это, вероятно, не случайно, потому что именно в Японии уязвимость человеческих творений перед мощью стихии и жестокостью войны была особенно сильно ощущаема. Это прекрасно видно на примере заката эпохи Хэйан (XI – XII) века, когда искусство было занятием только малочисленной столичной аристократии, остро предчувствовавшей свою обреченность. Это чувство сохранилось и в японской культуре нового времени: знаменитый «Золотой храм» Мисимы представляет собой, помимо прочего, еще и доказательство от противного того же вывода о неизбежной обреченности красоты. Причем, чем выше и совершеннее прекрасное, тем больше опасность, грозящая ему. Как в фильме Тенгиза Абуладзе «Мольба» – вся «мерзейшая мощь» обращается против красоты.
Отчего так? Мышление рациональное, научное видит тут действие закона усреднения. Не высовывайся, иначе отрубят голову. Не поднимайся выше массы. «Ветер гнет сильней вековые сосны, падать тяжелей высочайшим башням» – говорит старик Гораций. Биология убедительно вторит поэзии – при массовом вымирании шанс сохраниться есть лишь у малозаметных организмов, неспециализированных форм, примитивных существ, так называемых видов-оппортунистов, способных существовать в разных обстановках. Анекдотичны домыслы креационистов, объясняющих нахождение остатков всё более совершенных существ во всё более высоких пластах осадочного слоя земной коры – они объясняют это тем, что более совершенные формы дольше могли сопротивляться всемирному потопу. O sancta simplicitas!
А мышление мистическое с той же уверенностью видит здесь поступь Врага, злую волю, стремящуюся ко всеобщему разрушению и избирающему своей жертвой самое лучшее, самое замечательное, самое прекрасное. Эта избирательность зла начинается с исчезновения первоцветов и ландышей вблизи больших городов, а продолжается уже генетическим отбором в эпохи террора. Нет нужды говорить и о максимуме культурных утрат во времена богоборчества и человеческих гекатомб. Довольно об этом.
Сейчас хочется говорить об ином – ведь за окном синеют заливы Мраморного моря, а в другом окне стремительно проносятся то зеленые деревья, то пестрые скалы, а иной раз видишь целые стаи аистов. Все это настраивает на некое буколически-анакреонтическое состояние души, и становится спокойнее, и неизбежность смерти уже не столь фатальна. Поэт, живший в страшную эпоху и не имевший ни малой надежды на признание при жизни своих трудов, написал об этом так:




