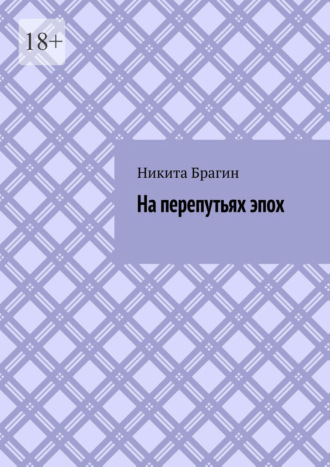
Полная версия
На перепутьях эпох

На перепутьях эпох
Никита Брагин
© Никита Брагин, 2025
ISBN 978-5-0068-7735-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
В литературной среде бытует выражение «проза поэта». Вроде как проза не самого высшего качества, проза того, кто по призванию должен отнюдь не прозу сочинять. Что-то еще чувствуется в этом такое снисходительное – ну, это же проза поэта, не судите строго. Между тем, такая проза, как можно видеть, полистав классику, весьма многообразна. Выделяется проза авторов, которые в равной мере владеют и стихотворным и прозаическим искусством. Самое время немного поговорить об этом.
Начнем с вершин прозы собственно. Если внимательно проанализировать творчество лучших писателей, великих классиков прозы, то нетрудно заметить, что они уверенно владеют тремя составляющими литературы: лирикой, эпосом и драмой. В самом деле, эпическое начало лежит в основе романа, диалоги действующих лиц немыслимы без драматического содержания, лирика же просто обязана присутствовать, как в изображении человеческого чувства, так и в одухотворенном пейзаже или авторском отступлении.
Напротив, собственно поэзия в её стихотворном выражении может проявиться в одной лишь лирической форме. Да, были поэты, прекрасно владевшие эпическим и драматическим творчеством, вспомним многочисленные поэмы и драмы в стихах. Но было и множество чистых лириков, прославивших свои страны прекрасными произведениями.
И вот здесь можно отметить, что проза собственно лириков действительно отличается от классической прозы. Это либо лирическая проза, бессюжетная или со слабо выраженным драматическим началом. Или же это вообще разного рода статьи, очерки, эссе, но не рассказы, повести и романы. Примеров такой прозы поэтов много, и моя относится к их числу.
Признаюсь, что в юности я мечтал стать именно писателем-прозаиком, и свои стихотворные опыты рассматривал как некую ступеньку на пути к будущему роману, помня слова Пушкина о том, как «лета к суровой прозе клонят». Шли годы, я сделал несколько попыток писать, но ничего дельного не получалось, и в конце концов я понял, что мои литературные способности ограничены лирикой, и сосредоточился на стихах.
Тем не менее, проза время от времени появлялась, и за приблизительно 20 лет её накопилось немало. Это разные работы, которые мне удалось подразделить в этой книге на несколько разделов. Вкратце расскажу об этом.
В первый раздел вошли мои воспоминания о собственных путешествиях. Но это не путевые записки в их обычном виде, скорее лирические обобщения моих воспоминаний, а в одном случае («Путешествие из Стамбула в Анкару») большая повесть-эссе, содержащая предметный разговор о сущности искусства, облеченный в старомодную форму сентиментального путешествия.
Второй раздел посвящен живописи. Не являясь искусствоведом, я, тем не менее, давно интересуюсь изобразительным искусством и не мог не отозваться на некоторые важные события в мире живописи. Это создание частного музея русской иконы на Таганке, и две памятные выставки живописи: Александра Герасимова (2016) в Историческом музее и Ивана Владимирова (2017) в Музее современной истории России.
Одним из сильнейших увлечений моей жизни была и остается история. В детстве я мечтал заниматься древней или средневековой историей. Это не реализовалось, но я все-таки прикоснулся к истории, написав несколько очерков, посвященных русской послереволюционной эмиграции: об истории кадетских корпусов в Югославии, о жизни и судьбе его выпускников. К ним примыкает очерк с обзором работ русского историка И. И. Лаппо (также эмигранта) о единстве триединого (Россия, Малороссия, Белоруссия) русского народа и его подтверждении в документах XVI – XVII веков. Наконец, в этом разделе есть небольшой очерк о моем двоюродном деде И. В. Фетисове и его боевом пути в годы Великой Отечественной войны.
Ряд страниц посвящен литературной критике. Опять же, я не специалист-литературовед. Но я не мог нпройти мимо поэзии Даниила Андреева, которого считаю одним из самых значительных поэтов России ХХ века. Мне представляется незаслуженным и несправедливым тот факт, что внимание заострено на его мистике и лишь слегка скользит по его поэзии. Кроме этого, в разделе есть заметка о выражении «не говори красиво» из романа Тургенева «Отцы и дети», анализ цитат и упоминаний русской поэзии в творчества И. А. Ефремова, и отклик на рассказ Н. М. Мелёхиной «По заявкам сельчан».
Будучи по общему мнению «чистым лириком», я все же уделял время и сатире. В этой книге представлены три моих сатирических очерка, каждый из который представляет собой пародию на научную статью. Первый из них – памфлет по поводу так называемой альтернативной истории. В наше время, когда господствует постмодернистская установка на то, что любое мнение имеет значение, можно прочесть самые фантастические измышления, вроде того, что Исаакиевский собор не мог быть построен в середине ХIX века, ибо его колонны могли быть изготовлены только на станках, каких тогда не было, и что вообще Петербург построен задолго до Петра I. Я уже не говорю об «исследованиях» Фоменко-Носовского, заполонивших в свое время полки книжных магазинов, и просто берусь показать, что с помощью нехитрой демагогии и несложных фокусов можно доказать и то, что Наполеона и Ленина никогда не было. Другие два памфлета – о плагиате и графомании, явлениях, широко распространенных ныне.
Завершается эта книга двумя интервью, в которых я немного рассказываю о себе, делюсь мыслями, представлениями и планами.
СТРАНСТВИЯ
Возвращение в Россию
Путь, или, если проще выразиться, дорога – неотъемлемая часть моей жизни. Может быть, самая важная. Может быть, еще больше – дорога и есть моя жизнь, причем не в переносном, а в прямом смысле. Рёв паровозов моего детства, тяжелое движение грузовика к перевалу, лязгающий рваный ход гусеничного вездехода в тундре. Взгляд с кормы корабля на барк «Товарищ», идущий бейдевинд. А чаще всего – пеший маршрут. В горах, в тайге, пустыне, саванне…
Что же есть цель пути? Очень просто. Цель – это личность. Это я сам, такой, какой есть. В каждый миг – тот же самый, и всё равно новый, другой. Человек однажды рождается, но становится – всю жизнь.
Воспоминания – тоже путь, и, двигаясь по нему, приходишь к своему прошлому, и воссоздаешь его, а с ним воссоздаешь и себя, еще молодого, еще не познавшего всех странствий жизни. Я всегда любил вспоминать, но сейчас любовь подкреплена необходимостью, настоятельным чувством, желанием закрепить, запечатлеть то, что еще хранит слабеющая память.
Сейчас мне хочется вспомнить о самом, наверное, некомфортном, проблемном, бестолковом и утомительном из всех моих странствий. Было мне тогда двадцать пять лет, шел 1981 год. Время это уже стало историей, мифологически исказилось в сознании людей, а кое-где покрылось патиной и ржавчиной. Люди вообще много забывают, и я предполагаю, что большая часть жизненных событий каждого человека утрачивается его памятью с течением лет. Оттого всякая мемуарная литература – источник сведений о времени. Субъективных, неточных? Да, конечно, как, впрочем, субъективны, неточны, зачастую фальсифицированы и исторические документы. Если их вообще не засекретили.
Ну и ладно. Отправимся в путь-дорогу, и пусть нам поможет «чувство истины», доступное детям и поэтам, а дорога приведет туда, куда нам надо. И началось всё это с завершения – моей геологической экспедиции на Памире. В конце июля мы выехали из Мургаба на экспедиционном «ГАЗ-52», груженом снаряжением и собранными образцами горных пород. Два дня трудных дорог и перевалов, жаркий Душанбе, недолгая стоянка, отправка подчиненных самолетом в Москву – а дальше мне и шоферу предстоял путь в Баку, где предполагалось передать машину другому полевому отряду, отправив экспедиционный груз контейнером в Москву. В общем, стандартные хлопоты полевых геологов.
Долго ли, коротко ли, наконец, мы выехали из Душанбе на запад, через городок Байсун. Вскоре начались цепи скалистых, выжженных солнцем невысоких гор, и там двигатель машины, выдержавший памирские перевалы, вдруг начал сдавать. Он перегревался, в радиаторе закипала вода. И, когда горы кончились, и перед нами раскинулась ровная Каршинская степь, шофер съехал с дороги и сказал, что теперь надо разбираться. Дело было худо, двигатель «троил», один из поршней был то ли разбит, то ли поврежден.
Встали мы аккурат на выезде из маленького города Гузар, и встали намертво. Шофер возился с двигателем, а я дивился тому, что как-то тускнеет свет в разгар узбекского полдня. Это было неполное солнечное затмение, и сейчас без особого труда можно узнать, какого числа это случилось. На второй день шофер оставил попытки самостоятельно исправить двигатель – худшие подозрения подтверждались, а запчастей не было. Нас, впрочем, уже заметили в Гузаре – как в русском селе, здесь, в узбекском городке все друг друга знали, и о новых людях, да еще русских на экспедиционной машине, остановившихся на окраине городка, скоро стало всем известно. Молва летит быстрее новостей. Вечером около нас остановилась машина, и высокий крупный узбек поинтересовался, что произошло. Мы рассказали всё, как есть. Он выслушал, а потом сказал мне – «Завтра я в середине дня приеду, и ты со мной пойдешь, будем решать ваше дело». Сам он был, как мы потом узнали, водителем местного рейсового автобуса.
На следующий день он пришел и повел меня к ближним одноэтажным домишкам, и у меня случилась настоящая этнографическая экскурсия. Словом, попал я на дастархан, традиции восточного гостеприимства требовали сначала накормить гостя. Сидели в небольшом полутемном помещении, было нас человек двенадцать, все мужчины. Ели классический плов с бараниной, было очень жарко, благодаря полдню и из-за замкнутости помещения (а кондиционеров в таком, практически сельском, строении, и быть не могло!), и не в последнюю очередь горячий и острый плов сам добавлял градус.
Говорили по-узбекски, спокойно, медленно. Спросили меня несколько раз уже по-русски, я каждый раз отвечал и благодарил, так же медленно и спокойно. Все было тихо за дастарханом, только через щель в матерчатой шторке, занавешивавшей выход, лучился солнечный свет в крошечных искорках от пылинок, и через краткие миги промелькивала быстрая женская фигура. А, может быть, две, не помню точно. Эта женщина готовила еду, передавала посуду (узкую смуглую руку можно было заметить), забирала опустошенные тарелки. Вечные труженицы Востока…
Наступило время чая. Зеленый, грубоватый на вкус, горячий, и ни единой крупинки сахара, как и положено. Я тогда уже был привычен к зеленому чаю, он мне нравился, а в эту страшную жару в Каршинской степи он был спасением. Жаркое одолевало жару, и было такое чувство, что сам я уже нагрет больше, чем окружающий воздух, который стал казаться мне прохладным. Относительность человеческих ощущений удивительна – так в бане кажется сначала очень жарко, но после нескольких минут в парной выйдешь – и чувствуешь прохладу.
За первой кружкой чая последовала вторая, а там и третья. Было хорошо, только зудила в сознании нотка нетерпения – ну, когда же о деле речь зайдет? Но я молчал, не спрашивал, не торопил. В самом деле, разве прилично было бы мне, приглашенному и угостившемуся, лезть со своей машиной? И это было правильно. Вдруг ко мне обратились, и сразу коротко, быстро, по-деловому мне было сказано, что сегодня вечером два шофера приедут и помогут исправить двигатель.
Так оно и случилось. Прибыли двое – тот здоровенный водитель автобуса, а с ним пожилой, маленький и сухонький. Привезли целый поршень, еще какие-то детали, начали работать, иногда подбодряя себя тонким черным порошком (потом я узнал, что это насвай, особая смесь табака с известью). Втроем все шоферы трудились часа два, а я наблюдал, да подавал, что требовалось, инструмент или деталь. Так и вечер прошел, наступила черная звездная ночь. Старший из наших спасителей говорил – «Главное, тихо ехать, и чуть что, масло заливать, да побольше, побольше». Бутылку масла они нам дали.
Вот как оно было, и денег с нас не попросили, а времени и сил сколько потратили! И сейчас чувствую благодарность к этим людям, а ведь не знаю даже, живы ли они – оба были много старше меня, двадцатипятилетнего. А одно знаю точно – если бы каким-то чудом мы встретились еще раз, то все равно не узнали бы друг друга. Столько прошло времени! Стираются детали событий, блекнут черты, и только добрая память живет.
А наутро мы тронулись в путь. Сначала Карши, Касан, Каган, а там и Бухара. Ехали медленно, останавливались на редких заправках, спрашивали масло, но его не было. Поллитровая бутылка уже опустела, израненный движок поглотил все масло. Но мы были в Бухаре, сказочном городе Востока!
Каждый значимый город, значимый, конечно, в культурном и историческом смысле, обладает присущей только ему особой аурой, уникальной трансцендентностью, открывающейся, впрочем, не всем и не всегда. Мне, наверное, отчасти повезло, и я смог хотя бы краешком прикоснуться к душе Бухары. И сейчас я попытаюсь преодолеть вставшие между нами хребты времени.
Бухара открылась мне неожиданно. Панельная советская застройка расступилась, и возник за ней массив древней городской стены, серый плотный кирпич. В одном месте кирпичная облицовка уже давно осыпалась, и дожди размыли необожженный кирпич, и вскрыли внутренность стены, обнажив перекрещивающиеся бревна, иссохшие, древние, времен Бухарского эмирата. Контраст массивной и кажущейся незыблемой нетронутой части стены и её размытого дождями нутра очень резок. Но дальше контраст стал еще больше.
Огромные и дивно лазурные купола своей яркостью любое небо затмить могут. Но небо Средней Азии в разгар лета вообще не голубое. Оно бледно-желтовато-серое, как бы выцветшее от нестерпимого зноя в сорок градусов. И к этому выцветшему небу поднимается блистающая глазурью лазурь куполов многочисленных мечетей и медресе. Блестят и их огромные порталы, изукрашенные многоцветием изразцов, складывающимся в узоры. Но стены – кирпич цвета слежавшейся пыли, тускло-желтовато-серый. Вот он, главный контраст. Ослепительная трансцендентность Неба, возвышенного над прахом земной юдоли. Небо бессмертно, прекрасно, недоступно и неизъяснимо, земля же – могила и прах могильный, тленная пыль.
Человек покорно склоняется перед лазурью, перед этим образом Бога, и так сочетается с прахом, тленной землей, тем самым подтверждая свое происхождение из праха и скорое возвращение в прах. Исламское видение Бога и мира заметно отличается от нашего, православного, склонного видеть Бога среди земли, среди её цветов и птиц. Что-то домашнее, в самый быт врастающее есть в религиозном чувстве русского человека. Разные мы.
Но это не мешало мне любоваться и восхищаться, а когда я увидел огромное, многолетнее, несуразное и похожее на скособоченную папаху гнездо аистов на лазурном куполе, то вспомнил я Ходжу Насреддина, и подумал о том, что природа (а скорее даже сам Господь её силами) поправляет человека. Недоступен и трансцендентен купол, но гнездо стоит, и каждый год в нем вылупляются птенцы, и зеленый побег жизни вьется по суровой и жесткой коре тысячелетнего древа. Мудр человек, но не всегда постигает Бога в самой простой Его черте. Тщится объять величие, но может не узнать «небо в чашечке цветка».
Однако самое высокое сооружение старой Бухары не блещет лазурью. Только кирпич, хмурый и тусклый, слагает массивную колонну минарета Калян, что возвышается на главной площади города, словно гигантская фигура шахматного короля, да и не короля даже, а Шаха, коли уж мы в Бухаре. Лишь в верхней трети минарета есть узкая полоса голубых изразцов, все остальное – неглазированный фигурный кирпич, складывающийся в причудливые арабески, перемежаемые изречениями из Корана. Простота облика минарета соединена со сложностью и даже вычурностью. И еще, в облике Каляна есть суровость. Чем-то родственен он крепостным стенам Бухары, может быть, своей терракотовой массивностью? Не знаю, но вспоминаю легенду о казни сбрасыванием с минарета. Не верю в это, ибо подобные рассказы вообще распространены на Востоке, но минарет самой главной святыни города, Пятничной мечети, не кажется подходящим местом для казней. И все-таки легенда эта сочетается с суровостью огромной башни.
Калян очень древен (XII век), это самое старое здание Бухары. Большинство мечетей и медресе относятся к XVI – XVII векам, а есть и совсем поздние. К своему удивлению, наткнулся я на маленькое медресе начала ХХ века, у входа в которое на стене красовалась табличка «Детский сад имени Павлика Морозова». Анекдотично и печально. Впрочем, вкрапления современности в давно сложившуюся картину культуры обычно ужасны. Вспоминаю, как много лет спустя, гуляя по венскому Бельведеру, натыкался взглядом на совершенно неуместные в этом парке начала XVIII века современные скульптуры-раскоряки. Впрочем, там хоть идеологическая сущность не давила…
Гуляя по Бухаре, мы, увы, не чувствовали себя спокойно, ибо на самой окраине города движок нашей многострадальной машины застучал. Это означало, что в Баку нам уже не попасть. Шофер предложил дотянуть до Чарджоу, где тогда жила его бывшая подруга, и там заказать железнодорожную платформу, и ехать поездом в Москву. Собственно, иного решения не было. Поэтому знакомство с Бухарой было бедным и скомканным. И все-таки остались в памяти её образы – и огромный Шах (или, может быть, фарзин, визирь) Калян, и небесные купола с нахлобученными гнездами аистов.
И мы тронулись дальше в путь, на юго-запад, медленно, делая не более сорока километров в час. Да и некуда было больше спешить. Мимо проползали пески и стада одногорбых верблюдов, а потом открылась ширь Аму-Дарьи. Переправа на пароме, тяжкое течение серых мутных вод, и вот он, придавленный жарой, дышащий знойной испариной город Чарджоу. Старины в нем я не увидел, все только ХХ век – «сталинки», панельные новостройки. Въезжая туда, я почувствовал – здесь мы застрянем надолго.
И наступили трудные времена. Мы поставили машину в квартале пятиэтажек, среди пыльных тополей. У подруги шоферовой побывали, чай попили, побеседовали, и отправились по делам. Побежали на почту, послать телеграммы в Москву, в институт, запросили деньги (когда еще придут? – ворочалась муторная мысль). А на почте, о чудо, работали два мощных кондиционера, и можно было подойти близко-близко и дышать, дышать благословенным холодным воздухом. А потом надо было запастись терпением и выдержать ожидание. Хорошо, что скоро пришел ответ из института с обещанием, что все будет сделано.
А пока тянулось ожидание, пошли гулять по Чарджоу, забрели в городской парк. Увидев поливальную машину, я обрадовался – сейчас посвежеет – а шофер моей радости не разделил, говоря – так сейчас парить начнет, дышать нечем будет. И правда, так потянуло сырым и горячим, что совсем невмоготу стало. Пошли дальше – а там бильярдная, да только мы с шофером какие игроки! Так, пооколачивались, да с содержателем бильярдной разговорились. Маленький чернявый мужичок, да не туркмен, а… условно русский. А может, еврей. Во всяком случае, юмор у него был, хоть сейчас в Одессу отправляйся. Он развлекал нас длиннющей смешной поэмой, написанной легким чередованием четырех- и трехстопного хорея, и описывались в ней, весьма пикантно, похождения дамочек на южных курортах:
«Там лимоны, апельсины,
Сладкое вино,
Там усатые грузины
Ждут давным-давно».
Смеялись, смеялись, а сердце глодало беспокойство, мысли роились – а как дальше-то? И, как часто бывало и бывает еще в подобных ситуациях, хотелось придержать время, отдалить неизбежный час работы, незнакомой и трудной, и решений, в которых не уверен. И в тот же момент вдруг возникало противоположное желание – чтобы скорее закончилось мучительное ожидание.
Классическим способом скоротать время всегда был и есть поход в кино. До сих пор вспоминаю как нечто комически-утомительное длинную ночь в аэропорту Якутска в начале августа 1991 года – рейс был утром, а ночь надо было как-то провести, вот и мыкался я из одного видеосалона в другой (видеосалонами тогда называли любой вагончик, сарай или гараж, в котором стоял видеомагнитофон с телевизором, и были расставлены стулья), полузасыпая под очередной идиотский боевик или не менее идиотскую клубничку. Но в Чарджоу мне повезло.
Мы с шофером гуляли по парку, и наткнулись на летний кинотеатр. На афише значился «Али-Баба», это была совместная советско-индийская кинопродукция. Сам фильм был ярко охарактеризован в одной зарубежной (югославской!) рецензии, которую я прочел уже через несколько лет. Там с иронией говорилось, что в этой картине гармонически сочетаются особенности советского и индийского кино: прогрессивный юноша выступает против засилья капитала и криминала и направляет обретенные сокровища на службу народному хозяйству под музыку и танцы, сопровождаемые обильными слезами, перемежаемыми не менее обильными улыбками на протяжении длительного периода времени, достаточного для крепкого и здорового сна.
Но дело даже не в фильме, который, при всех чертах, отмеченных рецензией, был ярким и развлекательным, а в самом летнем кинотеатре. Черное небо, южная ночь, благословенно теплая после жаркого до испепеления дня – все это было прекрасно. Не знаю даже, есть ли сейчас летние кинотеатры, в наше время электронного проецирования и долби-звука. Раньше было их много – в парках, в самой Москве. Еще, судя по фильмам и книгам, были они в Америке – у дорог, и туда приезжали на машинах (мы в свои пешком ходили, сочетая просмотр с прогулкой в парке). Наверное, много таких летних кинотеатров было в Индии, может быть, и сейчас есть.
Но кино, даже индийское, все равно кончается, а ожидание длится и длится. Что же, на помощь приходит нужда, которая и занимает время, тянущееся резиной. Есть что-то надо? Надо. Деньги при себе – можно пойти в лагманную. Огненный лагман в сочетании с полузамкнутостью помещения действует сильно, но в этом находишь спасение и защиту от дневного зноя на улице. Прекрасно, но дорого, деньги тают, а в магазинах скудно. Хорошо, есть хлеб, есть вино, а, скажем, сыра ну никак не найти. Про колбасу и не спрашивайте, такие уж времена были.
Тут шофер порадовал смекалкой. Сначала он высказал неожиданную идею о том, что если развести томатный соус, то можно его пить как сок. Попробовал и я, но понял, что так можно поступать лишь изредка, и если уж очень хочется. Уксус, знаете ли, часто не попьешь.
А один раз увидели в магазине брынзу и, не задумываясь, купили. Увы, она была весьма почтенного возраста, высохшая и совершенно закаменевшая. Шофер, однако, не стал унывать. Ничего, сказал он, такую можно варить! Попробовали. Что получилось! Этот кусок почти кирпичной крепости после варки размягчился и стал напоминать по консистенции жевательную резинку, приобретя неопределенный вкус и выразительный запах. В общем, даже закусить вино им было трудно. В итоге наши кулинарные изыски деградировали до немудреной выпечки и рыбных консервов. Последние делились на две категории: бланшированные и обычные. Обычные предпочитались, а о бланшированных шофер со знанием дела говорил, что они изготавливаются из такой рыбы, которую вот-вот надо бы выбросить. Разнообразия здесь не наблюдалось – никаких лососей натуральных или там тунцов-макрелей, чаще всего килька с глазками (то есть, целая) в томате. Ей и закусывали.
Но вот деньги пришли, и настало время хлопотать, оплачивать платформу. Пообивали пороги, на удивление недолго, и получили направление на станцию Зергер. Проехали через город, и на окраине выбрались на станцию, за которой, судя по карте, расстилались пески пустыни Каракум. Там железнодорожники уже приготовили для нас платформу, и мы завели на нее машину. Шофер где-то достал деревянные бруски, смастерил чурбаки под колеса – я и не успел заметить и запомнить, когда и как он их сделал. Но это все были мелочи, главное нам только предстояло.
Надо было делать стропы, крепления из проволоки – за скобу платформы и за рессору или раму грузовика. Один из железнодорожников, старший по положению, если судить по тому, как он держался, сказал нам – делайте из проволоки, только каленую не берите. Лом есть?
Лом был. А где взять проволоку, нам не было сказано, выплывайте, как можете. Бродили мы по станции – тут и там мотки толстой проволоки, или же обрезки, куски. Ну, что же, взяли один моток, спросить, годится ли, боязно – не наше ведь. И давай, петлю туда, петлю сюда, тянем, а она пружинит, гнется тяжело. Намотали и начали скручивать, продев лом через середину намотанных петель, изо всех сил вдвоем вращая лом. Раз провернули, два, но не тут-то было. Крак – и лопнула проволока. С тех пор знаю, каленая означает стальная. А для нашей цели железная, гнущаяся нужна. Странно, что шофер сразу это не понял.




