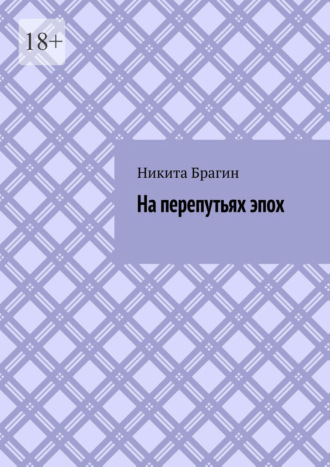
Полная версия
На перепутьях эпох
Так и прошел день. Вечером еще бродили по станции, да все мотки, что валялись меж путей, были стальными. Огорченные и измученные, легли мы спать в кузов машины, и тут началась пытка. Налетели тучи комаров, очевидно, с каналов. Днем они спят, жара невыносимая, а ночью – на промысел. Вот ужас был… И ночью ведь жарко, а от них деться некуда, и ни пологов марлевых, ни репеллентов у нас не было, ведь мы же на Памире работали, на четырех тысячах метров над уровнем моря, где комаров не бывает.
Почти бессонная ночь, а утро как путь на казнь. Только солнце блеснуло, как навалилась жара. И в этой жаре начались новые поиски проволоки. Да, мотков не было, но зато нашлись спутанные, гнутые-перегнутые клубки этой самой проволоки. Ну, что ж, рельсов сколько угодно, разгибаешь проволоку руками, как получится, кладешь на рельс и молотком выправляешь, стук-постук, даром, что ли, в геологи пошел. Один большой кусок нашли, распрямили, потом долго и муторно наматывали его, продевая через раму, а потом стали закручивать ломом. Пыль, ржавчина, жара сорокаградусная (а, может, и выше), сущий ад. Ну, как-то закрутили, а день уж на исходе…
Промучившись следующую ночь, мы активизировались, облазили всю станцию, совались в любые закоулки. А железнодорожников это совершенно не волновало. В итоге мы нашли еще несколько клубков толстой железной проволоки, и стало ясно, что теперь все стропы получатся. А мне стало ясно, что в этой системе главное – бери, что плохо лежит, да делай побыстрее свое дело, и не мозоль глаза.
И вот, все стропы были сделаны, и мы отправились в станционную контору докладывать, что машина окончательно установлена на платформе. Хорошо, завтра отправим вас – был ответ. О ужас, еще одна комариная ночь! Но, видимо, мы уже так намучились, что заснули, невзирая на кровопийц. А наступившее жаркое утро казалось просто благословенным, ибо работа наша закончилась, и можно было сидеть на платформе, пить чай и ждать. Все относительно, и то, что кажется сущим мучением, становится отдохновением после тяжелого труда.
Маленький маневровый локомотив зацепил нашу платформу и оттащил её на крайний путь, сцепив еще с несколькими. А потом медленно двинулся в путь по направлению к Чарджоу. Как же радостно движение после долгого изнурительного труда, и пусть недолгого, но все-таки ожидания. Дорога, железная дорога стелилась и блестела впереди, локомотив тихо тянул наш маленький состав, колеса постукивали, пусть редко, но постукивали, отсчитывая метры, десятки метров… И даже легкий, хоть и жаркий, ветерок овевал лицо. А станция Зергер уходила назад, и с ней уходили так и не увиденные мной пески пустыни Каракум.
В детстве я наивно верил, что объеду весь мир. Тропическая Африка, аризонские красные скалы, идолы острова Пасхи казались мне пусть и трудно, но вполне доступными. В юности я думал уже иначе. Но, когда пришло время окончания университета и получения диплома, я посмотрел на огромную геологическую карту СССР, висевшую в рекреации, и подумал, что уж эти земли я точно все-все-все увижу… И поначалу во мне жила иллюзия, я вправду надеялся… Но наступили 90-е годы, и тогда, помнится, купил я атлас Московской области масштабом два километра в одном сантиметре, и стал мечтать поехать туда, и туда, и туда… Наверное, даже в пределах большого города можно странствовать, если просит душа. И неважно, что многого не увидел и никогда не увижу. Важно только то, что в тебе, и то, что ты нашел на своем пути, подобрал и сохранил.
А неспешная дорога наша тянулась все дальше, и уже ползли по сторонам городские кварталы и пирамидальные тополя. Но вот начались разветвления рельсов, потянулись неподвижные длинные полосы вагонов. Мы прибыли на сортировочную станцию Чарджоу. Локомотив отцепил нас и ушел обратно к Зергеру, а мы сначала ждали, а потом другой локомотив протащил нас несколько раз туда-сюда по станции, пока не приткнул к формирующемуся составу. Потом подогнали еще вагонов, с грохотом соединили, и мы оказались в середине огромного эшелона. И все стихло, только зной наплывал, затопляя мозг и обесцвечивая небо до тускло-серого цвета.
Мы сидели в кабине своей машины. Это было самое удобное место, лучше ничего невозможно было выбрать. Заберешься туда, сидишь в относительном покое, поглядываешь на окружающий мир через лобовое стекло, если оно еще не пожелтело от выхлопов локомотива (такое бывает, если прицепят близко к локомотиву – тогда его мощный дизель в течение долгого перегона обдает следующие три-четыре вагона). А если смотреть не на что, можно достать книгу и читать.
В те времена Средняя Азия была местом, где в магазинах попадались хорошие книги. Вообще, книги были великой ценностью для думающих людей моего поколения – их искали, выменивали, покупали у спекулянтов. Книга была дефицитом, иметь хорошие книги было престижно, читать книги было модно. Из-за этого я иногда с грустью думаю о той эпохе. Но сейчас важно не это, сейчас надо объяснить, почему в книжном магазине Чарджоу, куда я заглянул в период ожидания, еще до мытарств на станции Зергер, так вот, почему там оказался том «Памятников литературы Древней Руси», XIII век, третий том знаменитого издания под редакцией академика Лихачева. Очень просто – потому, что тогда была плановая экономика, и тираж книги более или менее равномерно распределялся по книжным магазинам огромной страны без учета читательского спроса. Столько-то попало в Москву и Ленинград, где большая часть ушла «налево», а остальное моментально расхватали спекулянты, знавшие время выставления книг на продажу от товароведов и продавцов. А столько-то попало в Чарджоу, где этим почти никто не интересовался, и пылилось на полках.
Вот так сидел я в кабине машины, кругом раздавался обычный шум сортировочной станции, а мне до него и дела не было, я читал повести трагического века России, пожарища Рязани и Козельска чернели в моей душе. Тут снаружи донесся крик. Мы с шофером взглянули – кричали с соседнего состава. Рядом с нами стоял большой серый вагон-рефрижератор, из окна которого выглядывали двое мужчин – один лет тридцати, с бойкими глазами и гусарскими усиками, другой постарше, с первой сединой. Старший, увидев, что мы смотрим, ухмыльнулся и крикнул – «Ну, заводи!»
Слово за слово, заперли мы кабину, и пошли к ним в гости. Пошли разговоры о том, о сем, выяснилось, что эти двое – профессиональные сопровождающие железнодорожных грузов, путешествуют так по всей стране. Стали они рассказывать про станцию Чоп, не помню, правда, отчего она им запомнилась, но говорили много. А я и сам вспомнил Чоп, где неоднократно пришлось мне бывать в детстве и ранней юности, во время поездок на поезде в Югославию, где мой отец был на дипломатической службе. Стоило вспомнить!
Чоп – маленький городок и большая железнодорожная станция в Закарпатье, на границе с Венгрией. Там уже нет гор, там широкая равнина, самое начало большой Паннонской низменности. На станции меняют колесные пары, широкие русские на узкие европейские и наоборот, смотря куда ехать. И каждый раз, пока длилась эта процедура, родители отправлялись со мной в привокзальный ресторанчик, где первым блюдом была хорошо запомнившаяся мне солянка, густая, золотистая и в красноту переходящая, с любимыми солеными огурцами и нелюбимыми мной в то время черными горьковатыми маслинами. А потом мы возвращались, вагон долго обходили советские пограничники, наконец, поезд трогался, за окнами медленно проплывали ряды проволочных заграждений, контрольно-следовая полоса, красно-зеленый столбик. А дальше была венгерская сторона, уже без проволок и полосы, венгерские пограничники быстро проверяли документы, уходили, и поезд устремлялся в заграничный простор.
Это я вспоминал, но сам не рассказывал о своей дороге через Чоп, ибо уже хорошо знал, что рассказы о загранице вызывают зависть, а то и неприязнь. Молодой сопровождающий тем временем взял гитару и стал импровизировать на тему песни Верещагина из «Белого солнца пустыни». Беседовали, пили, закусывали салатом из помидоров. Я почувствовал, что развозит, попрощался и ушел в машину спать, уже темнело.
Проснулся от тряски, вагон качало из стороны в сторону. Выглянул – мчимся куда-то стремительно, вокруг пустынная равнина, кое-где кусты, временами тускло-голубые каналы. Вскоре и шофер проснулся. Трясло так, что нечего было думать о чае, глотнули холодной воды. Есть хотелось, а сготовить хоть кастрюльку риса или гречки было невозможно.
Тем временем поезд замедлил ход и остановился на разъезде. А там – домик, тополя, огород, в огороде женщина трудится, а наша платформа как раз напротив остановилась. Мы скорей-скорей соскочили с платформы, позвали. Попросили – продайте нам помидоры! Русская женщина, средних лет, приветливая, собрала нам полную миску, денег брать не хотела, но мы уговорили. Забрались обратно на платформу, поезд тронулся, она нам помахала. Словно сквозь бездну времени вижу её с поднятой рукой. Где ты, добрая душа, жива ли? Перенесла ли трагедии, что совершились потом, унижения от местных, нищету, изгнание? Грустно и горько вспоминать об этом.
А поезд мчался все дальше. Помидоры и хлеб стали нашим обедом, да много ли надо молодым? Главное – движение, главное – уносящиеся назад километры пути, главное – приближение к дому. К России. Я уже говорил, что с детских лет грезил путешествиями, странствовал в мечтах своих в дальних удивительных краях. А потом – жизнь полевого геолога такова, что поездки, путешествия, составляют самую суть её. И когда я стал ежегодно уезжать далеко и надолго, то узнал о себе то, что прежде мне было неизвестно. Оказывается, во мне жила и живет сильнейшая связь с домом. Перед отъездом в экспедицию я всякий раз обязательно отправлялся погулять по Москве. Чаще всего в Лужники, поскольку этот парк был недалеко от дома, где я тогда жил. Там я проводил несколько часов, прощаясь с зелеными склонами Воробьевых гор, Москвой-рекой, стадионом, где я много раз бывал – но не на футболе, а в маленьком кинотеатре «Рекорд»… «Андрей Рублев», «Солярис», «Древо желания» – там смотрел…
А возвращение! Сколько эмоций, когда видишь после трех, а то и четырех месяцев экспедиции Москву в осеннем убранстве, когда лица в метро вдруг кажутся знакомыми (отвык от русских лиц), когда вдыхаешь влажный и прохладный воздух, в котором растворена золотеющая листва. Потом уже нашел параллель в английской литературе, в стихах Байрона о родном доме, где пес лает у ворот. А дальше я понял, что цель всякого странствия – возвращение.
Что же до описываемого путешествия, то оно с начала до конца и было возвращением, а города и станции этого маршрута были промежуточными пунктами на пути к дому. Один из таких пунктов уже приближался. Было еще совсем светло, но жара уже начинала спадать, когда мы прибыли на станцию Ургенч. Это древнее название носил один из больших городов Хорезма, полностью уничтоженный во время нашествия Чингисхана, потом восстановленный, но в XVII веке почти покинутый жителями из-за изменения русла Аму-Дарьи. Нынешний Ургенч, где расположена большая железнодорожная станция, вполне современный город.
Какая же радость дождаться остановки поезда и увидеть, что локомотив отцепился и ушел! Это значит, что стоять будем достаточно долго, и можно не только отдохнуть от стремительного и совсем не комфортабельного движения, но и приготовить ужин – помидоры хорошо, но надо поесть что-то существенней. Готовили мы либо на примусе, либо даже на паяльной лампе – грубо, но быстро. Поели, наконец, и стали пить чай.
Тут нас окликнул молодой машинист-узбек (стоит сказать, что мы уже покинули Туркмению, Ургенч находится в Узбекистане, а впереди Каракалпакия и Казахстан). Мы его пригласили к чаю, он пожалел, что у нас черный, а не привычный зеленый. Как-то мы не запаслись зеленым чаем, но это объяснимо, ведь работали мы на Памире, в высокогорье, и не готовились к жарким низинам Средней Азии. А зеленый чай, тогда малоизвестный столичным жителям, был, как я уже рассказывал, наиглавнейшим средством в летнюю свирепую жару. Уже позже, в 1984 году, в СССР состоялся Международный геологический конгресс. По всей стране прошли экскурсии для участников конгресса, одна из них была в горах Малого Каратау в Южном Казахстане, где в 1977 году я прошел преддипломную практику, так что этот район мне хорошо известен. Зверская жара, голый камень, никакой тени на геологических объектах. Иностранные гости привезли с собой огромное количество пива, всякого Туборга и Карлсберга, но на второй-третий день все перешли на горячий зеленый чай. Что и требовалось доказать.
Если же мысленно отправиться в далекое прошлое, скажем, в середину ХIX века, то можно узнать совсем неожиданное. Оказывается, в то время в России в ходу был именно зеленый чай, выращенный в Китае, преимущественно с цветочным ароматом. Об этом пишет Гончаров в книге «Фрегат «Паллада», весьма уничижительно отзываясь об английском черном чае, как о чем-то неприятном на вкус и прямо-таки наркотическом. Об этом свидетельствует Островский – помните «Грозу»? Куда отправляют Бориса Дикого после признания Катерины мужу? «В Тяхту, к китайцам…» А Кяхта, маленький поселок на границе Бурятии и Монголии, был тогда важным перевалочным пунктом на чайном тракте из Пекина в Москву…
Да, не было сейчас у нас зеленого чайку, но машинист все равно остался с нами и оказался он словоохотливым и любопытным. Рассказали мы ему, откуда едем. Естественно, он поинтересовался – куда? Как куда – в Москву! Удивлению нашего узбека не было предела. Да что там удивление! Он несколько раз переспросил, даже уточнил – так по этой дороге, через Казахстан едете? Ну, конечно, а как же еще? И тут нашего машиниста прорвало.
«Ребята… вы будьте осторожнее там. Они же на вас нападут, они убьют вас. Они же звери! Возьмите, что угодно, чтобы защищаться. Монтировка есть?» Шофер показал лом, сказал, что есть еще и монтировка, и кувалда. Тогда машинист немного успокоился, но все равно твердил – «вы не спите там, на разъездах очень опасно. Они бандиты, звери, они вас убьют спящих!»
С тех пор я всегда вспоминаю этот разговор, когда читаю или слышу про советскую дружбу народов. Нет, она, конечно, была, эта дружба. Только не всегда и не со всеми. Справедливости ради надо сказать, что в Казахстане, в том же мной упомянутом Малом Каратау я много общался с казахами, приходилось встречаться и с простыми людьми, и с образованными, и у меня не было и нет к ним предубеждения. Но слова машиниста-узбека меня тогда шокировали.
Стояли мы в Ургенче долго, наступила темнота. Ночью поезд тронулся, и утром мы пересекли восточный чинк (обрыв) плато Устюрт. Сыпучие склоны, подчеркнутые горизонтальными пластами, желтовато-серые, усыпанные сверкающими на солнце кристаллами гипса. А дальше поезд пошел по ровной как стрела дороге, пересекавшей плоскую сухую степь, унылый безлюдный пейзаж.
Дорога здесь была одноколейная, и поезд останавливался на каждом разъезде, иногда на несколько минут, иногда на полчаса, а то и больше. Причем совершенно невозможно было угадать длительность стоянки. И, конечно, случилось то, чего я опасался с самого начала нашей поездки. Шофер на очередном разъезде куда-то отлучился, прошло несколько минут, и вдруг поезд плавно тронулся. Я глядел во все глаза, но никого не было видно, а поезд набирал ход, и вот уже мчался по пыльной глади Устюрта. Теперь я был один на платформе!
Одиночество, нередко желанное в большом городе, благословенное в краткие часы творчества, может стать не просто неприятным, но опасным и даже трагическим в путешествии. Я сразу ясно представил себе последствия – теперь мне не отлучиться от машины, вода кончится – а отойти набрать не получится. Просить кого-то на станциях? Разве что… Добрые люди всегда найдутся. Но и дурные – тоже. В любом случае, я теперь один, и мне одному забота о машине, экспедиционном грузе и о себе самом.
Так я думал, пока поезд преодолевал перегон. Но вот разъезд, остановка. Вижу, бежит шофер, изо всех сил бежит. Вскочил на платформу, отдышался. Выяснилось – когда поезд тронулся, он успел забраться в тамбур последнего вагона, и так ехал весь перегон. Я, конечно, почувствовал облегчение, а потом снова задумался об одиночестве. Люди избирали его добровольно, люди искали его. И при этом страшились его. Религиозные медитативные практики, различные пути самосовершенствования, формы отречения от мира, аскезы. И – наказание, исключение из мира людей, изгнание, бойкот. Так одно и то же становится то желанным, то ненавистным. И сколько еще таких примеров помимо одиночества!
Впереди была ночь. Темнело быстро, холодело, в ясном небе все ярче проявлялись звезды, и хотелось думать о прекрасном и таинственном. Степной простор содержит в себе отчетливую, сильную ноту Космоса – её слышишь, только подняв глаза к ясному ночному небу. Так было со мной еще в 1976 году в Монголии. Помню черные августовские ночи в Гоби, когда во всех концах горизонта в необъятной дали высились грозовые тучи, подсвечиваемые призрачным бесшумным огнем зарниц, а вблизи зенита сияли Вега и Альтаир, выделяясь среди бесчисленных светил. Мне было достаточно снять очки, чтобы множество звезд превратилось в рассеянное свечение всего неба – оно горело вечным светом, не сгорая, но светясь изнутри. И много позже, в 1992 году на полуострове Мангышлак, в холодной мартовской ночи мне так же сияло ледяное небо, сияло безмерным, прекрасным и пугающим простором. Есть некая справедливость в том, что космодром Байконур стоит среди практически такой же степи под ясным небом, открывающим Космос.
Космос, дивная мечта моего детства, полного восторга от первых полетов, от ожидания новых и новых чудес, что обязательно должны были стать явью, и очень скоро. В середине 60-х годов я нисколько не сомневался, что еще при моей жизни люди достигнут Марса, построят базы на Луне и огромные орбитальные станции, космические города на околоземных орбитах. Рэй Бредбери на склоне лет горько заметил – ничего этого не случилось, но зато люди вдоволь позанимались всякой чепухой вроде костюмов для собак. Правда, мечта осталась, и я вспоминаю о ней всякий раз, когда вижу звездное небо над головой.
Что же до нравственного закона во мне, то именно в эту ночь ему было суждено испытание. Поезд вновь остановился, как уже было много раз. Неожиданно, далеко впереди, на расстоянии не меньше десяти вагонов раздались громкие крики. Разобрать, что кричат, было невозможно. Не по-русски, яростно, сразу несколько человек, слышались удары. Похоже было, что напали на сопровождающих какого-то вагона, и мы сразу вспомнили машиниста в Ургенче… Без колебаний схватили ломы и стали ждать. Шофер тихо сказал мне – если полезут, сразу бей по голове.
Ломом – по голове. Как бы я поступил, случись нападение на нас? Вот тут мой мир, красивый мир моей прекрасной души дает трещину. Брешь быстро ширится, сквозь лазурь прёт чернота. О том, что дальше, не хочется думать. А надо бы, да только как?
Целомудрие старца не подвиг, а немощь на похоть —
говорил в стародавние годы великий Святитель.
Вот и мы в наше время ведем себя вроде неплохо —
не кромсаем, не бьем, говорим поминутно – простите!
Но достаточно сбить надоевшую планку запрета,
на кровавую волю пустить аппетит обезьяний,
и тогда развернется он, страхом и злом разогретый,
и попрёт, не считая ни времени, ни расстояний.
И рука волосатая стиснет дубовую ветку,
и поднимет её, и узлами раздуются вены…
Это черное семя, наследство звериного предка —
от него не спасет даже чтенье Тейяр де Шардена.
Как же повезло нам, что никто не подошел к нашей платформе… Поезд тяжело взгремел и пошел, крики утихли. А мы так и не узнали, что случилось. Не было времени, остановки на разъездах коротки, отстать страшно. А потом эшелон переформировали на очередной сортировочной станции, не помню уже, где.
Дальнейшие несколько дней просто смешались. Кончился Устюрт, тянулась плоская Прикаспийская низменность. Помню, как проехали вполовину пересохшую Эмбу – цепочка луж, подумалось мне. Проползли мимо нефтяных вышек Доссора и Макита. Пересекли реку Урал. Стояли в Гурьеве. Странная апатия овладевала мной. Брал книгу, читал. «О дивно дивная и пресветло украшенная земля Русская» – плыли перед глазами строчки «Повести о погибели Русской земли».
Мы свою землю чаще умом любим, чем чувством. Можем восхищаться березовыми рощами, травой-муравой, речным плесом. Но стоит отправиться на экзотический юг или роскошный богатый запад, и своё, родное вдруг начинает казаться бедным, безыскусным, простоватым каким-то. Мне кажется, что лучшее средство для пробуждения любви к русской природе – это длительное пребывание в азиатской засушливой степи или пустыне, причем непременно равнинной, плоской. И чтобы обязательно было жарко и пыльно, так, чтобы тончайшая пыль обесцвечивала небесную синь, обращая её в нечто грязно-желтовато-серое. И чтобы не было зеленой мягкой травы, а росли бы только серые сухие кустики степной полыни, колючек, перекати-поля. Ну, если не хотите сами это видеть, перечитайте «Очарованного странника», там как раз об этом.
А потом мы как-то незаметно пересекли границу Казахстана и оказались в России. И ничего не изменилось для глаза – те же плоские выжженные солнцем пространства, кустики бедной растительности, верблюды. Потом, как миновали Астрахань и поехали вдоль Ахтубы, потянулись густые прибрежные заросли, повеяло влагой, захотелось свежей рыбы. У нас из продуктов остались только крупы, сахар и соль, все остальное кончилось – мы же не ожидали капитальной поломки машины, отправляясь в Баку. И на столе нашем уже давно доминировала килька «с глазками», та самая, в томатном соусе, что стояла штабелями в продуктовых магазинах.
Потом поезд вновь удалился от зеленой полосы в сухую степь, и. наконец, надолго остановился на станции Баскунчак. Было ясно, что стоим, как минимум, час, и я бросился в магазин. Очередь, длинная, медленная. Продавщица с каждым покупателем еще и беседует. Стою, то и дело оборачиваясь – как там поезд. Слушаю, не прогремит ли локомотив, сцепившись с вагоном. Нет, пока тихо. Очередь ползет по-черепашьи, каждому надо то и это, вроде все купил, но начинает что-то вспоминать, потом, долго перебирая слова, из которых не все по делу, просит еще столько-то грамм того и этого. И жара, бесконечная жара, теперь уже астраханская, или нижневолжская.
Ну, дошла и до меня очередь, купил, что было, и к платформе. А локомотива все нет, и уже ясно, что и волноваться не стоило, все равно еще долго ждать. Сквозь просвет между вагонами увидел фрагмент пейзажа – одинокую гору Большой Богдо, заныла душа по геологии… Потом я спустился и стал бродить по станции. Между рельсами валялось множество всякой всячины: белые и розовые куски гипса, ярко-желтая сера, которую собирал шофер, чтобы окуривать деревья и кусты на своей даче. А главное – лежали арбузы. Большие, спелые, расколотые, разбитые, упавшие во время погрузки. Можно было выбрать самый большой и самый красный, вынуть прямо рукой чистую сочную сердцевину. А потом искать еще один такой же арбуз.
И так прошел целый день. Вообще, за время этой поездки, этих мытарств, дни словно слиплись в один комок, подобно подмокшей карамели, и сейчас, спустя почти сорок лет, мне трудно разлепить их. Да и зачем их разделять? Пусть они и в этом повествовании будут слитными, текущими единой полосой, словно непрерывная лента дороги. Остался позади Баскунчак, и теперь поезд очень медленно двигался по узкому коридору между двумя бесконечными лесополосами, ограждающими путь. Шофер скучал, а я утешал себя древнерусской литературой. Где мы находимся, было непонятно. Но вот раздвинулись лесополосы, поезд вошел на станцию. На здании станции была табличка «Урбах». Яснее не стало.
Ну, ничего. Остановка длилась и длилась, и до меня дошло. Это же Саратовское Заволжье, некогда бывшее автономией с необычным названием «Трудовая коммуна немцев Поволжья». Оттуда и название. Многие железнодорожные станции сохранили свои названия во время кампаний по переименованию, иначе в копеечку все влетало – так мне объясняли. Впрочем, это объяснение не могло удовлетворить, ведь переименование города влечет еще большие издержки. Теперь мне думается, что в таких делах был какой-то интерес у железнодорожников, и министерство имело возможности и желание отказывать в переименовании станций. Хотя и не всегда, например, железнодорожные станции бывшей Твери в то время, как и город, носили имя «всесоюзного старосты».
Переименование называют войной с прошлым. Но оно и война с будущим. Это пристегнутый ярлык, еще хуже – поводок, закрепление в названии именно этой эпохи, именно этого деятеля. Между тем, время отшелушивает лишнее, сдувает сор. Есть городок Пошехонье, к которому прививали название «Володарск». Пошехонье – это старина русская, отзывающаяся родовым воспоминанием в сердце, это название, говорящее яснее ясного каждому русскому, осознающему себя. Володарск… Много ли найдется людей, помнящих, кто такой Володарский, и каковы заслуги этого деятеля?




