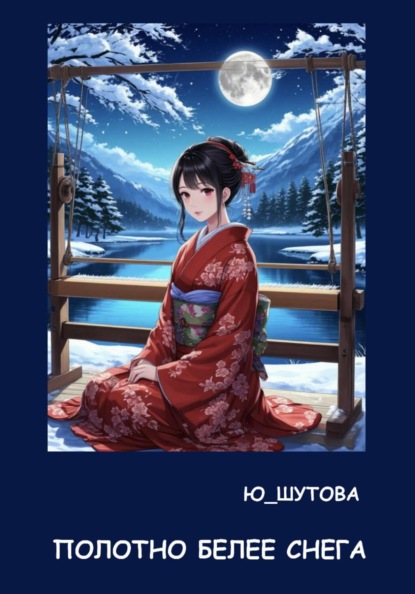Полная версия
Драма на трех страницах – 2

Александр Ралот, Ляля Фа, Юлия Цыбульская, Ольга Кузьмина, Лариса Львова, Инна Девятьярова, Виктор Моисеев, Анастасия Егорова, Евгения Симакова, Алла Антонова, Елена Ворон, Tai Lin, Раиса Кравцова, Марина Найбоченко, Наталья Кравцова, Павел Крапчитов, Лена Толина, Стасия Полецкая, Даниэла Данкевич, Николай Хрипков, Александр Гор, Евгения Блинчик, Денис Краснов, Андрей Макаров, Андрей Пучков, Наталья Волгина, Анна Горева, Оксана Ююкина, Александра Окатова, Наталья Лебедевская, Екатерина Шрейбер, Лидия Мельнечук, Олег Пронин, Регина Климович, Константин Соколов, Михаил Стародуб, Вероника Булычева, Лидия Гусева, Ольга Новель, Надежда Квасова, Ксения Котова, Ника Созонова, Макс Эмгэ, Аким Нелин, Марья Тралялянская
Драма на трех страницах – 2
Слово редактора
Перед вами – сборник рассказов-финалистов второго сезона литературного конкурса «Драма на трёх страницах». Каждый из этих текстов – доказательство того, что настоящая художественная вселенная может уместиться на трёх страницах, а сила слова способна перевернуть сознание читателя за несколько мгновений.
Здесь нет места случайным деталям – только выверенные фразы, отточенные до совершенства, и эмоции, которые обрушиваются на читателя с первых строк. В этом малом формате скрыта огромная мощь: трагедии и надежды, ирония, боль и тихие откровения жизни упакованы в лаконичные, но предельно насыщенные сюжеты.
Каждый рассказ – это целый мир. Мир, который живёт по своим законам, дышит своими страстями и оставляет след в душе. Это истории, где каждое слово работает на пределе, а финал всегда оказывается неожиданным, но неизбежным – как сама жизнь.
Идеальное чтение для тех, кто верит, что истинная литература начинается не с количества страниц, а с глубины мысли и силы эмоций.
Юлия Карасёва
Алла Антонова. ПОЕДЕМ В ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Тёмный забор, почти упавший в глину, и одуванчики. Сквозь разбитое окно торчит клок кружевной и когда-то белой занавески. Катя сползает на землю прямо у калитки и плачет. Ради этого она ехала?
– Хватит! Перестань! – кричит за стеной бабка.
Дед Коля снова пришёл поддатый. Когда он выпивает, то из него лезет агрессия. Придирается и к бабке, и к Кате. Хлопает дверью и может пнуть ботинком Грушу. Поэтому Катя прячет кошку у себя, как только видит, что дед пьян.
– Ууу, бездельницы, сидите на моей шее, ещё и указываете мне, что делать! – Дед хочет стукнуть кулаком по столу, но неверная рука соскальзывает, и удар не получается. Он круглыми стеклянными глазами смотрит на слабые пальцы, словно удивляясь, почему и они его не слушаются.
– Коля, иди спать, срамота одна. Перед соседями же стыдно.
Дед воинственно размахивает руками, угрожает губернатору и почему-то Сталину. Бабка увещевает и ругается. Катя сидит тихонько в комнате, прижимает Грушку и иногда плачет.
Наутро бузотёр трезвеет и мается чувством вины. Гладит кошку, обнимает бабку и, заглядывая в глаза, с ностальгией, от которой щекочет на душе даже у Кати, заводит извечную песню:
– Машуня, а поедем в Павловский Посад! Ты помнишь, какие там яблони?
Бабка пользуется его чувством вины и выговаривает сердито:
– Позорище просто! Каждую пятницу пьёшь! Мне как соседям в глаза смотреть? Вчера на кусты у подъезда кто ссал? Райка всё видела! Мне теперь даже здороваться с ней неловко! Как кобель дворовый! Ты что – до дома не мог дойти пять шагов?
– Машунь, ну, наверное, приспичило, невмоготу было идти. Да Бог с ней, с Райкой! А знаешь, что её сыночек ненаглядный, Костик, два дня назад на заводской проходной попался? Кабель тащил! Не знаешь? А то-то же. Так Райке и скажи, если что говорить будет. И гордо ей в лицо смотри! Ты у меня умница, Машуня!
Дед лезет обниматься, бабка отпихивается и смеётся. Потом они, конечно, мирятся и вместе начинают убирать квартиру. Только дед подходит к холодильнику и хлебает из банки рассол, когда бабка не видит.
В следующую пятницу всё повторяется.
– Машунь, ну давай в Павлов Посад, а? Домик там хорошенький, тёплый! И нам место будет, и Катюшке на втором этаже комната! А выйдешь с крыльца – и по траве, по росе! Ты грядки заведёшь. Я тебе шланги проведу, чтобы поливать легче было. Поедем? Там соловьи по ночам.
– Ба, – спрашивает как-то Катя, – что за дом в Павле Посаде?
– Павловском, – поправляет бабка, – дед там родился. Домик за ним сохранился. Мы раньше там жили, до того, как ты родилась.
Бабка задумывается и уплывает светлыми белёсыми глазами старости в прежние дни.
– А потом? – не выдерживает Катя.
– А потом суп с котом! – сердится бабка. – Не о чем говорить, это дед по пьяни да с похмелья вспоминает.
Катя растёт и дедовы пятницы переползают на среды, а потом и на понедельники. А бабкины глаза всё светлеют и светлеют. И только неизменно остаётся домик в Павловом Посаде – с похмелья. Улица Муранова, дом девять. Дед как- то шепнул ей адрес и подмигнул. Может, правда, а может, пьяный был, наврал.
В одну из пятниц дед приходит не сам, приводит Райкин сын. Не приводит – притаскивает. Бабка открывает дверь, охает. Костик устало сваливает деда в коридор и уходит, не отвечая на бабкино «Спасибо».
– Всё, Маша, пенсия! – торжественно вскинув руку, объявляет дед и в тот же миг роняет руку на пол, а голову – на грудь и храпит.
На пенсию деда выпроваживают – надоело пьянство терпеть. А он, оставшись без опоры и крепкого мужского коллектива, запивает ещё горше.
И они уже не обнимаются с бабкой, помирившись, по утрам. И на все его «Машунь, Павлов Посад, поедем, родная» бабка зло отмахивается и ворчит только, что совсем из ума выжил.
– Бабуль, может, свозим его? – предлагает Катя. – Я Лёшку из группы попрошу, он поможет. Давай?
– И ты туда же? Дался вам этот Павловский Посад! Вези его куда хочешь! Мне дела нет. Пусть хоть под забором там околеет.
Но Кате не хочется оставлять эту идею. Она советуется с Лёшкой, и он соглашается помочь ради пары карих глаз, в которые влюблён с первого курса.
Дед в тот день трезв. Но Катя не говорит ему, куда они едут. Дед спит в машине под радио «Романтика», а Катя с Лёшкой переглядываются, как заговорщики. Навигатор довозит до нужного дома.
– Ты уверена, что адрес правильный? – спрашивает Лёша, выглядывая на заброшенную улицу.
Они выходят из машины и подходят к дому. Дед пока спит. Катя сползает и плачет. Она даже не может объяснить, почему возлагала столько надежд на этот дом. «Там яблони, и роса, и так приятно ходить босиком», – наверное, поэтому.
Утыкается лбом в тёплые доски.
Она не знает, что делать. Быстро залезать в машину и увозить деда, пока не проснулся? Поздно.
Катя слышит, как хлопает дверь. Слышит тяжёлые стариковы шаги за спиной.
Дед молчит. И Катя нервничает.
– Катюня…
Она отрывает лицо от калитки и оглядывается. Дед тянет руки к дому и тоже плачет.
– Катюня, мой дом, домик.
Он счастливо улыбается и шагает навстречу обветшалому забору, разбитым стёклам. Как родного, дед приветствует старый покосившийся дом. И открывает калитку. Катя с притихшим Лёшкой переглядываются.
Пить деду теперь некогда, только ругается, что руки дрожат. Разбитые окна пока фанерой заколачивают. Подводят свежие столбы под крышу на пару с Лёшкой. Катя моет, чистит домик изнутри. Занавесочки привозит. Такие же, как были, только новые. Потом и до новых стёкол руки доходят. Лёшка приезжает с удовольствием. Катя даже переживать начинает. Она-то Лешке ничего не обещает и не предлагает. Только как- то случается, что они сидят на закате на крыльце, и так хорошо этим тёплым вечером, что Лёшка придвигается близко и целует сначала в плечо, а потом, поощряемый молчанием, тянется к губам. Красивый закат во всём виноват.
Катя ныряет в любовь, и всё забыто – и дед, и домик. Выныривает в какую-то пятницу. Приходит раскрасневшаяся со свидания.
– Бабуль, покушать что есть? – задорно кричит с порога.
– Картошку, Катя, пожарила. А ты, паразит, накушался уже.
На табуретке в кухне сидит дед и качается, уперев стеклянный взгляд в кромку стола.
– Дед, ты чего? – ахает Катя. – Давно же не пил, чего вдруг сегодня?
– Дом его дурацкий сгорел, проводка замкнула, – бабка припечатывает тяжело, со вздохом. Проводит по чистому столу тряпкой. И ещё раз.
Катя садится рядом.
– Дедуль… – шёпотом зовёт.
– Катюня, – отзывается дед. Поднимает взгляд от стола.
Боль, разведённая водкой, плещется в мутных глазах.
Дед молчит, качается. Останавливается.
– Машуня, а давай в Павловский Посад поедем. Там роса, знаешь, какая? И яблони.
Наталья Лебедевская. ЕЁ ЗОВУТ ЖУЛДЫЗ
Сауле лежит на спине. Земля тёплая, влажная после дождя. Пахнет мокрой травой, навозом и тюльпанами. Кони пасутся рядом, слышится их нервное, шумное дыхание. Худенькие руки Сауле сжимают липкую деревянную рукоятку ножа, что торчит из её живота.
Жарко.
Песчинка попала в глаз. Хочется почесать, но двигаться нельзя – больно. Крупные слёзы катятся по щекам Сауле. Мысли в голове пролетают пёстрыми сапсанами.
Никто.
Никто не найдёт её в густых зарослях цветущего тамариска. Странно, но Сауле совсем не страшно. Её беспокоит другое. Что теперь будет с малышкой Жулдыз? Нельзя оставлять девочку сейчас. Рано. Всего восьмой год пошёл. Отец Сауле – хромоногий, угрюмый Айдар – уже стар и не сможет вырастить девчушку. Хоть бы он не забыл сегодня забрать Жулдыз из школы, переживает Сауле.
Она опять трогает живот дрожащими пальцами. Пятно на платье мокрое, ткань тяжёлая, давит, словно камень.
Глазки Жулдыз озорными искорками возникают перед лицом Сауле. Голос звонкий, словно весенний ручеёк.
«Мама, а эта ящерка из сказки?» – маленький пальчик указывает на пепельного геккона, пока тот неподвижно замер на камне, греется под палящим солнцем.
«Да, Жулдыз, она самая. Всемогущая царица Тынышкуль. Ветреная, но добрая и справедливая. Загадывай скорее желание!»
И девочка зажмуривает глазки.
«Мама, мама, а эти яблоки волшебные?»
«Да, моя хорошая. Их вырастила щедрая Умай. Ешь скорее и угости подружек!»
Жулдыз смеётся, прыгает на тоненьких ножках в белоснежных сандаликах, а медовые косички парят вместе с ней в знойном воздухе. Сауле берёт свою зеленоглазую малышку на руки, обнимает и целует в щёчки и нос, поправляет брошку с перламутровой стрекозой на груди. Улыбается. Но внутри у Сауле горит страх. Она боится, что может лишиться своей дочки.
* * *
Сауле шестнадцать. Больничные стены давят, и кружится голова. Пахнет спиртом. Фельдшер Жания Радиковна осторожно кладёт ладонь на худенькое плечо.
– Никогда тебе не родить, девочка. – Старая врачиха обнимает её. Плачет.
Сауле закрывает лицо ладонями. Дрожит. Как всё забыть? И звериные глаза его. И пальцы, что лезли, куда нельзя незамужним. И рваный жёлтый сарафан в белый цветочек, который сжёг потом отец. Любимый сарафан Сауле.
Из дома долго не выходила. Стыдно. Все в селе знали уже. Отец гонял мальчишек, что мелкие камни в окно кидали. А кто-то самый наглый написал на заборе белилами: «Порченая».
Отец забор покрасил. Жизнь дальше продолжилась.
Старый Айдар принёс младенца в дом через год после той беды. Девочке и месяца не было отроду. Завёрнутая в белую пелёнку, она не кричала, а просто открывала маленький рот.
Сауле встревоженно поглядела на отца, тот нахмурился:
– В трактор мне подкинула. Ну, эта… Райка. Я её искать, а она… – махнул рукой. – Нет нигде. Кукушка!
О Рае в Карагаше нехорошо отзывались. Она не жила в селе, только изредка приезжала. Крутила то с одним, то с другим. Сауле даже видела её несколько раз и слышала, как соседки говорили, что Шайтан давно забрал Райкину распутную душу.
Ребёнок закричал.
Боль заметалась в животе Сауле. Тонкими иголочками побежала прямо к горлу, улеглась горечью на языке. И она молча взяла девочку на руки. Прижала. Ничего в тот момент не произошло. Ни тепла не почувствовала, ни холода. Совсем ничего.
Молока нашли у соседки, накормили. Сауле в чистое запеленала малютку и качала, качала всю ночь. Мычала под нос мелодию, которую сама сочинила. Спать совсем не хотелось. Отец тоже не спал, ворочался, а как только солнце в окно заглянуло, вскочил. Поехал опять Райку искать. Но та уже упорхнула за лучшей жизнью.
– Давай оставим? – Сауле посмотрела на отца тоскливо, думала: закричит, рассердится.
Старый Айдар промолчал. Закурил, во двор вышел. А когда вернулся, пьяными глазами на Сауле уставился и сказал:
– Её будут звать Жулдыз.
* * *
Он притормаживает машину рядом с Сауле. Смотрит с ухмылкой:
– Помнишь меня? Она молчит.
– А я тебя запомнил, красивая, – глаза хищные щурит, губы треснутые облизывает, – вот опять к вам приехал. Повторим?
Восемь лет прошло. Сауле сразу его узнала, только виду не подала. Просто подбородок к груди опустила, задрожала, шаг прибавила. Букет пудровых тюльпанов в руках крепче сжала, сок потёк сквозь пальцы.
– Давай подвезу, слышишь? Садись. Сауле молчит.
– Кому сказал, садись! – он цедит уже сквозь зубы.
И Сауле рванула вправо с дороги. Побежала по тёплой земле после дождя, по хрустящей траве к черепаховым пескам. Он резко остановил машину, выскочил за ней. Зарычал. За несколько размашистых шагов настиг. Толкнул огромной ладонью за кусты. Навалился сверху, вдавил лицо во влажную землю.
– Только пикни!
Огляделся. Нет никого. Развернул её с силой, нож к животу приставил, заулыбался. Она резко дёрнулась вперёд. Вскрикнула. Испуг увидела в его глазах. Когда лезвие в живот вошло, всё внутри полыхнуло болью. Но тогда Сауле понимала, что второй раз его мерзкие руки она не переживёт.
– Ты чего натворила, дура?! – Он вскочил, руками замахал растерянно. – Я ж не хотел. Ты зачем сама? Дура узкоглазая!
Попятился, спотыкаясь о земляные кочки.
Сауле слышала, как взревел мотор. Как взвизгнули колёса,
затрещали мелкие камни по бамперу. Как наступила тишина, изредка прерываемая ржанием лошадей.
* * *
Сауле лежит на спине. Земля тёплая, влажная после дождя. Пахнет мокрой травой, навозом и тюльпанами. Кони пасутся рядом, слышится их нервное, шумное дыхание. Худенькие руки Сауле сжимают липкую деревянную рукоятку ножа, что торчит из её живота.
Жарко.
Стрекозы разрезают влажный воздух. Огромные. Блестящие. Иногда они зависают над лицом Сауле, дребезжа прозрачными крылышками, и тут же исчезают. Сауле медленно поворачивает голову за одной из них и видит: на обочине машина останавливается. Сжимается всё внутри. Неужели вернулся? Нож забрать? Проверить, жива ли?
Нет, другая машина.
– Да я быстро, Ренатик. Только пописать сбегаю. – Голос женский. Пьяный. Весело хохочет. – А уж потом мы с тобой зажжём!
Короткая джинсовая юбка. Топ чёрный ажурный, грудь большая колыхается, того и гляди выскочит. Рыжие кудри в хвосте на самой макушке.
«Я здесь. Посмотри на меня, – умоляет Сауле про себя.
Голоса нет, да и сил крикнуть. – Посмотри…»
Рыжая сидит на корточках, песню про бухгалтера голосит. Потом встаёт, трусы натягивает, колготки в сетку. Сигарету закуривает, двигается обратно к машине, но резко оборачивается. Застывает.
– Слышь, Ренатик, там, похоже, лежит кто-то.
– Рая, поехали… – Мужской голос недовольный, усталый. – Нажрался кто-то, всех подбирать будем?
– Да погоди ты!
Трава хрустит под лакированными лодочками Раи, высокие
шпильки утопают в земле. Она подходит к кусту, заглядывает осторожно. Испуганно смотрит на Сауле. Садится рядом, сигарету о землю тушит.
– Ох ты ж! Милая. Как тебя угораздило? Разворачивается, кричит:
– Рена-а-ат! Гони в Карагаш за врачами. Тут девочку порезали. Сильно.
Рая наклоняется ближе. Проводит пальцами по лбу Сауле, откидывает спутанные влажные волосы с лица.
– Держись, милая, держись, – шепчет Рая, – Ренатик мигом – туда и обратно. Держись только.
Сауле молчит. Рассматривает смуглое, изрезанное тонкими морщинами лицо. Помада размазана. Блестящие клипсы в ушах. Зелёные глаза с ровными синими стрелками. Взгляд хмельной, весёлый. Неровная татуировка ящерицы на груди.
– Это Тынышкуль, – улыбается Рая, поймав взгляд Сауле.
– Мой оберег. И тебе поможет. Не засыпай только. Ладно? Тих-тих. Молчи. Не разговаривай.
Рая вытирает рукой мокрый лоб.
– Я же здесь семь лет не была, представляешь? Завтра опять уеду, – шепчет она, глаза отводит в сторону и губу закусывает. – Дочка у меня в Карагаше живёт. С отцом… С ним лучше, сама понимаешь.
Замолкает. Тихонько гладит Сауле по голове.
– Мать бы из меня всё равно хреновая вышла. Только этим себя и успокаиваю. – Пожимает плечами и нервно улыбается.
– Даже не знаю, как её зовут…
Сауле закрывает глаза. Глотать больно, горло сжимается.
Делает вдох носом. Короткий. Ещё два прерывистых вдоха.
– Тих-тих, милая. Вон уже и Ренатик. И скорая. Всё хорошо с тобой будет, слышишь? Хорошо…
Рая вытягивает шею, выглядывает из-за куста тамариска, машет в сторону, и двое мужчин в белых халатах подбегают к Сауле. Один из них раскрывает чемоданчик, ругается, достаёт шприц и ампулы. Кричит второму, чтоб бежал за носилками.
– Жул-дыз, – выдыхает Сауле, не отрывая от Раи заплаканных глаз.
Та хмурит загорелый лоб. Наклоняется ближе.
– Чего? Не поняла я.
Сауле опускает ладони на землю и сжимает липкими пальцами траву.
– Её. Зовут. Жулдыз.
Оксана Ююкина. ГОЛОС
ТАЙГИ
Говорят, что за воем вьюги не слышно крика души. Говорят, что хруст снега заглушает звук рассыпающегося на осколки сердца. Говорят, что в северной стуже никто не увидит застывшие льдинки в уголках глаз. Говорят, говорят, говорят… Люди вообще очень много болтают. Думают только мало, а знают и того меньше.
Но об этой истории не знают ни абаасы1, ни иччи2, ни люди. Разве что бродит юёр3, одинокая и холодная, готовая поведать свою историю каждому, кто будет слушать. Но есть ли хоть кто-то, кто заметит едва уловимый шёпот тоски по разбитым мечтам?
Улуу Тойон4 в те дни ещё не был покровителем шаманов и главой абаасы верхнего мира. Был просто Улуу, который никогда не встречал людей. Она стала для него первой.
Несуразная, краснощёкая, перепачкавшаяся в земле. Задравшийся тангалай из ровдуги5 да звенящие на весь лес колокольчики вместо привычных подвесок. Яркий фиолетовый цветочек, крепко сжатый в пухлых пальчиках, и испуганный взгляд карих глаз. Глаз, затягивающих быстрее болотной трясины.
Улуу замирает. Айта поднимает руку, пытаясь прикоснуться к нему. Её губы растягиваются в по-детски открытой улыбке, той самой улыбке, которая предвкушает важнейшую в жизни встречу. Улуу сбегает, так и не позволив себя коснуться. Ветви елей ещё долго обнимают его плечи, ветра поглаживают жёсткие крылья, напевая заунывным шёпотом песню первой любви. Пока звучит эта песня, ноги Улуу не коснутся тайги.
Улуу украдкой наблюдает, подсматривает в тёмное мутное окошко. Окошко, в котором Айта растёт. Пухлые щёки сменяются выразительными скулами, перепачканная грязью кожа становится перемазанной мукой и жиром, растрёпанные косички превращаются в плотную, украшенную цветами косу. Только хитрые карие глазки по-прежнему продолжаютзазывать в свои топи каждого, кто посмотрит. Улуу смотрит. Смотрит год за годом, день за днём. Он мог бы с закрытыми глазами найти каждый шрам, царапинку и даже маленькую родинку на смуглой шее. Улуу знает об Айте даже то, чего она знать не может. Знает, но лишь продолжает смотреть. Смотреть днём и ночью, забывая обо всём на свете.
Улуу смотрит, как Айта учится шить, смотрит, как Айта поёт и спотыкается в танце. Смотрит, как в Айту влюбляются, устраивают охоту на дичь ради её улыбки, приносят дары. Айта опускает глаза и скромно качает головой. Улуу облегчённо вздыхает ровно тринадцать раз. Четырнадцатому вздоху облегчения случиться не суждено. Айта говорит своё молчаливое «да». Улуу больше не подходит к своему окну.
Стужа кидает снежинки в лицо, вьюга поёт о разбитом сердце, пока ноги Улуу погружаются всё глубже в махровую мягкость сугроба. Не следы, а глубокие дыры остаются за ним в белоснежной глади тайги. Такие же дыры зияют в его душе. Улуу возвращается к прежней жизни. Его глаза вновь видят сотни миров, которые больше не заслоняет улыбка Айты. В этих мирах к нему взывают, просят помощи и справедливости, умоляют наслать мор и болезни на врагов. Впервые за одиннадцать лет Улуу слышит их зов.
Его окно остаётся чёрным, мутным, слепым, пока он не слышит голос. Голос Айты, просящий Юрюнга подарить ей много детей и семейное счастье, сберечь её родных от гнева и болезней, насылаемых Улуу.
Теперь Улуу хочет лишь одного – больше никогда не слышать голоса Айты. Не видеть её улыбку, предназначенную не ему. Не видеть её тонкие пальцы, ласкающие не его плечи. Не видеть. Не слышать. Не чувствовать. Не знать её. Длинный, до самого пола, тангалай навсегда врезается в память Улуу, досмотревшего свадьбу Айты до последнего гостя.
Он всё ещё видит, как нежные пальцы оглаживают мех на одежде, как крепкие зубы в тревоге кусают мягкие губы, как льётся реками кумыс и щедро раздаётся мясо. Обряд за обрядом – и она на шаг ближе, чтобы стать чужой. Улуу щёлкает зубами, пытаясь понять: когда же она стала его, если он даже не позволил ей к себе прикоснуться? Яростный клёкот заставляет окно темнеть, вырезая лучами света улыбку Айты под веками.
Улуу становится абаасы верхнего мира. Легко, играючи, даже не замечая, какое влияние он имеет. Всё так же он приходит на зов шаманов, насылает болезни, несёт справедливость в сердца, урасы и балаганы. Только к одному голосу он остаётся глух. Тоненькому голоску, что сгорает в страданиях пятый раз, приводя в мир новую жизнь. Тоненькому голоску, который проклинает эту самую жизнь и своего мужа. Тоненькому голоску, слабо молящему о смерти и освобождении.
Улуу закрывает глаза, пытаясь не слышать, не думать, не вспоминать. Тоненький голосок замолкает совсем, чтобы однажды закричать громче всех в его голове. Его имя. Его? Кого же ещё можно молить о смерти… Сотни раз Айта убеждала других абаасы сберечь от Улуу Тойона, просила у иччи защиты для своих детей и мужа, чтобы однажды взмолиться ему? Улуу замирает. Замирает, чтобы попытаться забыть, что у него когда-то было сердце. Беломордая рыжая лошадь надрывно кричит, заливая кровью лесные сугробы. Ритуальная жертва, которая принесёт Айте желаемую смерть. Теперь он не сможет отвернуться от этой просьбы.
В третий раз ноги Улуу касаются тайги, когда Айта почти не дышит. Она просила защиты, милосердия, покровительства у всех, кроме того, кто мечтал ей всё это дать. У него Айта просит лишь быстрой безболезненной смерти, которой он дать не может. Он может только мучить, испытывать, посылать смерть навстречу. Алые лужи на белоснежном снегу и кровавые полосы от медвежьих когтей кажутся чужеродным, лишним, страшным подтверждением услышанной мольбы.
Улуу это зрелище не пугает. Он оставляет глубокие следы на сугробах, не слыша ничего, кроме рваного ритма чужого сердца.
Айта замирает. Улуу опускает к ней руку, пытаясь прикоснуться. Её губы растягиваются в по-детски открытой улыбке, той самой улыбке, которая предвкушает важнейшую в жизни встречу. Улуу сбегает, забирая с собой тепло её пальцев в когтях. Ветви елей ещё долго обнимают безжизненное тело, ветра поглаживают смоляные волосы, напевая заунывным шёпотом песню первой любви. Пока звучит эта песня, ноги Улуу никогда не коснутся тайги.
Шаманы, иччи, абаасы – каждый знает, что стоит позвать
– и Улуу Тойон придёт. Каждый знает, что Улуу Тойон справедлив и силён. Каждый знает, что у Улуу Тойона нет и никогда не было сердца. Знает, знает, знает. Духи вообще очень много знают. Говорят только мало, а рассказывают и того меньше. Но об этой истории не знают ни абаасы, ни иччи, ни люди. Разве что бродит Улуу, одинокий и холодный, готовый поведать историю каждому, кто будет слушать. Но есть ли хоть кто-то, кто заметит едва уловимый шёпот тоски от разбитого своими же руками сердца?
Лариса Львова. ДУЛЯ
Куркины приобрели усадьбу в Средней Елани в начале нового века, как только вышли на пенсию. Дом на окраине села достался совсем дёшево и уже окупился бы с рыночной торговли, если бы не аппетиты невестки Гальки. Ей ведь то отдельную квартиру подай, то шубу новую, то отдых на каких- то островах. Сама же расщедрилась только на внучку. Свёкров навещала регулярно, но больше командовала, чем работала.