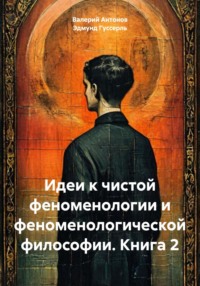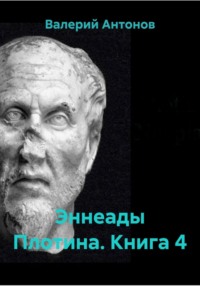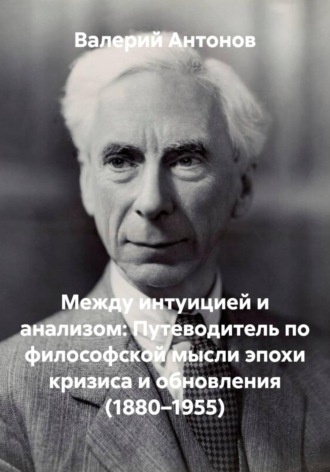
Полная версия
Между интуицией и анализом: Путеводитель по философской мысли эпохи кризиса и обновления (1880–1955)
Нельзя сказать, что такая ситуация логически удовлетворительна. Если государство как таковое означает Общую Волю, и если Общая Воля всегда хочет блага, то, по-видимому, следует, что не существует никаких мыслимых обстоятельств, при которых можно было бы сказать, что государство действует аморально. И в конечном счете все сводится к тавтологии, а именно, что воля, которая всегда хочет блага, всегда хочет блага. Фактически, сам Бозанкет, кажется, осознает это, поскольку предполагает, что при строгом определении деятельности государства следует сказать, что оно на самом деле не желает аморального действия, которое мы обычно приписывали бы «государству». В то же время логично, что он должен признать, что могут быть обстоятельства, при которых можно законно говорить об аморальной деятельности государства. Но, говоря о «едва мыслимых обстоятельствах», он не может не подразумевать, что на практике государство избегает критики. Для тех, кто утверждает, что утверждения об деятельности государства всегда сводимы к утверждениям об индивидах, нет проблемы говорить об аморальной деятельности государства. Но если мы исходим из того, что можно осмысленно говорить о «государстве как таковом», не сводя наши утверждения в принципе к набору утверждений об определенных индивидах, возникает проблема, могут ли нормы личной морали законно применяться при оценке действий этой несколько таинственной сущности.
5. Критика Л. Т. Хобхауса.
Понятно, что когда некоторые британские писатели пытались показать, что окончательная ответственность за Первую мировую войну лежит на немецких философах, таких как Гегель, политическая философия Бозанкета получила свою долю критики. Например, в «Метафизической теории государства» (1918) Л. Т. Хобхауса, хотя он в основном занимается Гегелем, содержит довольно обширную критику Бозанкета, в котором он справедливо видит британского политического философа, наиболее близкого к Гегелю.
Хобхаус суммирует то, что он называет метафизической теорией государства, в следующих трех положениях: «Индивид достигает своего истинного "я" и своей свободы в соответствии со своей реальной волей»; «такая реальная воля есть общая воля»; и «общая воля воплощена в государстве». Таким образом, государство практически отождествляется со всей социальной структурой, с обществом в целом; и оно рассматривается как хранитель и выражение морали, поскольку оно является высшей моральной сущностью. Но если государство отождествляется с обществом, следствием является поглощение индивида государством. И почему национальное государство должно рассматриваться как высший продукт социального развития? Если исходить из аргумента, что существует Общая Воля и что таковая есть реальная или истинная воля человека, то такая Воля нашла бы гораздо более адекватное выражение в международном обществе, чем в национальном государстве. Конечно, международного общества еще не существует. Но создание такого общества должно рассматриваться как идеал, к которому следует стремиться эффективно, поскольку Бозанкет, следуя Гегелю, проявляет неоправданное предубеждение в пользу национального государства. В этом смысле идеалистическая политическая теория чрезмерно консервативна. Более того, если государство рассматривается как хранитель и выражение морали, поскольку оно является высшей моральной сущностью, логическим следствием является пагубный моральный конформизм. В любом случае, если государство действительно, как считает Бозанкет, моральная сущность более высокого порядка, чем индивидуальный моральный агент, очень странно, что такие возвышенные моральные сущности, как различные государства, не смогли регулировать свои взаимные отношения, придерживаясь моральных норм. Короче говоря, «смешение государства с обществом и политического долга с моральным долгом есть центральная ошибка метафизической теории государства».
Резюмируя метафизическую теорию государства в определенное количество тезисов, Хобхаус вынужден признать, что Бозанкет иногда говорит таким образом, что его слова нелегко вписываются в эту абстрактную схему. Но он решает эту проблему, говоря, что Бозанкет виновен в непоследовательности. Он отмечает, например, что во введении ко второму изданию «Философской теории государства» Бозанкет ссылается на социальное сотрудничество, которое строго не соответствует ни государству, ни частным индивидам как таковым. И он считает это несовместимым с тезисом, что истинное «я» каждого человека находит свое адекватное воплощение в государстве. Более того, Хобхаус отмечает, что в «Социальных и международных идеалах» Бозанкет говорит о государстве так, как если бы оно было органом сообщества с функцией поддержания внешних условий, необходимых для развития лучшей жизни. И он считает эту манеру речи несовместимой с тезисом, что государство тождественно всему социальному зданию. Вывод Хобхауса, следовательно, состоит в том, что если такие пассажи выражают то, что Бозанкет на самом деле думает о государстве, он должен предпринять «реконструкцию всей своей теории».
В общем, очевидно, что Хобхаус совершенно прав, находя у Бозанкета так называемую метафизическую теорию государства. Без сомнения, это преувеличение сказать, что, согласно Бозанкету, истинное «я» человека находит свое адекватное воплощение в государстве, если под этим понимать, что возможности человека полностью реализуются в том, что обычно можно было бы считать его жизнью гражданина. Подобно Гегелю, Бозанкет рассматривает искусство, например, отдельно от государства, хотя и предполагает общество. В то же время, несомненно, верно, что он придерживается органической теории государства, согласно которой утверждения о государстве «как таковом» принципиально несводимы к утверждениям об определенных индивидах. Также верно, что Бозанкет придает национальному государству выдающуюся роль как воплощению Общей Воли, и что он не проявляет никакого интереса к идее более широкого человеческого общества. Что касается смешения моральных и политических обязанностей, которое Хобхаус упоминает как кардинальный элемент метафизической теории государства и которому он решительно противится, я думаю, необходимо одно замечание.
Если мы защищаем телеологическую интерпретацию морали, согласно которой долг понимается как требование, относящееся к действиям, необходимым для достижения определенной цели (например, реализации и гармоничной интеграции наших собственных возможностей как человеческих существ), и если в то же время мы рассматриваем жизнь в организованном обществе как одно из средств, необходимых в норме для достижения такой цели, мы едва ли сможем избежать рассмотрения политического долга как одного из выражений морального долга. Что никоим образом не означает, что мы должны смешивать моральный долг с политическим долгом, если под этим понимать сведение первого ко второму. Такое смешение возникает только в том случае, если государство рассматривается как основа и истолкователь морального закона. Если мы так рассматриваем государство, результатом будет, как отмечает Хобхаус, пагубный конформизм. Но хотя теория Бозанкета о том, что Общая Воля находит свое адекватное воплощение в государстве, несомненно, поддерживает его страстную идею моральной функции последнего, мы видели, что он также допускает, хотя и с некоторым неудовольствием, моральную критику любого реального государства. Аргумент Хобхауса, однако, состоит в том, что Бозанкет здесь виновен в непоследовательности, и что если он действительно хочет позволить моральную критику государства, он должен пересмотреть свою теорию Общей Воли. Мне кажется, этот аргумент справедлив.
6. Р. Б. Холдейн, гегельянство и теория относительности.
Мы отмечали, что Бозанкет был ближе к Гегелю, чем Брэдли. Но если мы хотим найти британского философа, который открыто разделял энтузиастическое почитание Стирлингом Гегеля как великого мастера спекулятивной мысли, мы должны обратить внимание на Ричарда Бардона Холдейна (1856-1928), выдающегося государственного деятеля, получившего в 1911 году титул виконта Холдейна Клоанского. В своей двухтомной работе «Путь к реальности» (1903-1904) Холдейн заявлял, что Гегель был величайшим учителем спекулятивного метода со времен Аристотеля, и что он сам не только готов был называться гегельянцем, но и стремился к этому. И действительно, его нескрываемое восхищение немецкой мыслью и культурой вызвало довольно постыдную атаку на него в начале Первой мировой войны.
Холдейн стремился показать, что теория относительности не только совместима с гегельянством, но и требует его. В «Пути к реальности» он предлагал философскую теорию относительности; и когда Эйнштейн опубликовал свои работы по этой теме, Холдейн увидел в них подтверждение своей собственной теории, развитой в «Царстве относительности» (1921). Короче говоря, реальность как целое едина, но знание такого единства может быть достигнуто с различных точек зрения, таких как точка зрения физика, биолога и философа. И каждая точка зрения вместе с категориями, которые она использует, представляет частичное и относительное понятие истины и не должна абсолютизироваться. Эта идея не только соответствует, но и требуется философской перспективой, которая рассматривает реальность в конечном счете как дух и понимает истину как полную систему истины: полное отражение или знание себя реальностью, цель, достигнутая через различные диалектические стадии.
Нельзя сказать, что такая общая теория относительности была сама по себе новинкой. И в любом случае было уже слишком поздно пытаться оживить гегельянство, подчеркивая релятивистские аспекты системы и призывая к покровительству Эйнштейна. Тем не менее, Холдейн заслуживает упоминания как одна из видных фигур в общественной жизни Англии, проявлявшая значительный интерес к философским проблемам.
7. Г. Г. Йоахим и теория истины как когерентности.
У нас уже была возможность ссылаться на теорию истины как когерентности, а именно, что всякая частная истина является таковой в силу места, которое она занимает в исчерпывающей системе истины. Эту теорию исследовал и защищал в «Природе истины» (1906) Гарольд Генри Йоахим (1868-1938), который занимал кафедру логики Уайкхэма в Оксфорде с 1919 по 1935 год. И не будет лишним сказать что-то об этой работе, потому что ее автор показывает в ней ясное осознание проблем, которые теория ставит, и с которыми он смело сталкивается.
Йоахим исследует теорию истины как когерентности посредством критического рассмотрения других теорий. Рассмотрим, например, теорию соответствия, согласно которой эмпирическое утверждение истинно, если оно соответствует вненаучной реальности. Если кто-то спросит нас, какова реальность, к которой относится, например, истинное научное утверждение, наш ответ неизбежно должен быть выражен в суждении или ряде суждений. Таким образом, когда мы говорим, что научное утверждение истинно, потому что оно соответствует реальности, мы на самом деле говорим, что определенное суждение истинно, потому что оно систематически когерентно с другими суждениями. То есть соответствие истины превращается в теорию когерентности.
Или возьмем теорию, что истина есть качество определенных сущностей, называемых «предложениями», качество, воспринимаемое непосредственно или интуитивно. Согласно Йоахиму, тезис о том, что непосредственный опыт есть опыт истины, может быть принят только в той мере, в какой будет показано, что интуиция есть результат рационального опосредования, то есть поскольку будет видно, что рассматриваемая истина когерентна с другими истинами. Предложение, рассматриваемое как независимая сущность, обладающая качеством истинности или ложности, есть просто абстракция. Таким образом, мы снова должны понимать истину как когерентность.
Йоахим, таким образом, убежден, что теория истины как когерентности превосходит все другие конкурирующие с ней теории. «Я никогда не сомневался в том, что истина едина, полна и завершена, и что всякая мысль и всякий опыт движутся внутри этого утверждения и подчиняются его явному авторитету». Точно так же Йоахим не сомневается в том, что различные отдельные суждения и системы частичных суждений являются «более или менее истинными, т.е. поскольку они более или менее тесно приближаются к единственной норме». Но как только мы начинаем делать теорию когерентности явной, думать о ее смысле и импликациях, возникают проблемы, которые нельзя игнорировать.
Во-первых, когерентность означает не просто формальную непротиворечивость. В конечном счете, она относится к значимой и всеобъемлющей целостности, в которой форма и материя, знание и его объект, неразрывно соединены. Иначе говоря, истина как когерентность означает абсолютный опыт. И адекватная теория истины как когерентности должна предложить понятное исследование абсолютного опыта, всеобъемлющей целостности, и показать, что различные степени неполного опыта образуют конститутивные моменты абсолютного опыта. Но невозможно, в принципе, чтобы какая-либо философская теория могла выполнить такое требование. Поскольку всякая философская теория есть результат конечного и частичного опыта и, в лучшем случае, может составлять лишь частичное проявление истины.
Во-вторых, истина, как она достигается человеческим познанием, включает два фактора: мысль и ее объект. И этот факт как раз и дает начало теории истины как соответствия. Адекватная теория истины как когерентности должна, следовательно, быть способна объяснить, как следует концептуализировать это отчуждение от целостности, от абсолютного опыта, которое вызывает относительную независимость субъекта и объекта, идеального содержания и внешней реальности, внутри человеческого познания. Но Йоахим признает, что такое объяснение никогда не давалось.
В-третьих, поскольку всякое человеческое познание подразумевает мысль о Другом (то есть другом, чем само себя), всякая теория природы истины, включая теорию когерентности, должна быть теорией об истине как ее Другом, как о чем-то, о чем мы мыслим и высказываем суждение. Что равносильно тому, чтобы сказать, что «теория истины как когерентности, как она сама признает, никогда не может превзойти уровень познания, который, в лучшем случае, достигает "истины" соответствия».
С замечательной откровенностью Йоахиму нисколько не стыдно признать «крушение» своих усилий по установлению адекватной теории истины. Иначе говоря, он не может ответить на проблемы, которые ставит теория когерентности. В то же время он убежден, что такая теория продвигает нас дальше, чем любая другая, в отношении проблемы истины, и что ее можно защищать от возражений, фатальных для других теорий, хотя теория когерентности и ставит вопросы, на которые нельзя ответить. Однако вполне ясно, что окончательная причина, по которой Йоахим придерживается теории когерентности, несмотря на проблемы, которые она решительно ставит, является метафизической, определенным убеждением о природе реальности. Действительно, он прямо говорит, что не верит, что «метафизик может согласиться с определенными логическими теориями, когда успех таких теорий требует от него принятия ряда гипотез, в области логики, которые его собственная метафизическая теория осуждает». Иначе говоря, абсолютный идеализм в метафизике требует теории истины как когерентности в области логики. И несмотря на проблемы, которые такая теория ставит, мы можем принять ее с хорошими основаниями, если другие теории истины неизбежно превращаются в теорию когерентности при попытке точно их сформулировать.
Чтобы судить, превращаются ли другие теории истины на самом деле в теорию когерентности, мы должны принять во внимание замечание самого Йоахима о том, что когерентность здесь означает не просто формальную непротиворечивость. Признание того, что два взаимно несовместимых предложения не могут быть одновременно истинными, не равносильно принятию теории истины как когерентности. Как ее представляет Йоахим, когда он говорит о проблемах, которые она ставит, теория явно является метафизической теорией, частью и принадлежностью абсолютного идеализма. Таким образом, вопрос состоит в том, рушатся ли все другие теории истины в конечном счете полностью под критическим рассмотрением или они подразумевают обоснованность абсолютного идеализма. И вряд ли кто-либо, кто уже не является абсолютным идеалистом, признает, что такова ситуация. Но я не собираюсь намекать, что когерентность не имеет ничего общего с истиной. Фактически, мы часто используем когерентность как проверку, когерентность между уже установленными истинами. И спорно, что это подразумевает метафизическое убеждение о природе реальности. Но из этого не следует с необходимостью, что это имплицитная вера абсолютного идеализма. В любом случае, как откровенно признает сам Йоахим, если предложение истинно лишь постольку, поскольку оно представляет момент абсолютного опыта, превосходящего нашу способность познания, очень трудно понять, как можно знать, что предложение истинно. И тем не менее, мы уверены, что можем иметь некоторое знание об этом. Возможно, существенным требованием для любой попытки сформулировать «теорию» истины является тщательное исследование способов, какими термины «истинный» и «истина» используются в обычном языке.
Ориентация на персоналистический идеализм
1. Прингл-Паттисон и ценность человеческой личности.
Отношение, принятое Брэдли и Бозанкетом по отношению к конечной личности, логически должно было вызвать реакцию даже внутри идеалистического движения. Одним из главных представителей такой реакции был Эндрю Сет Прингл-Паттисон (1856-1931). В своей первой работе «Развитие от Канта до Гегеля» (1882) он представил переход от критической философии Канта к метафизическому идеализму Гегеля как неизбежное движение. И он всегда придерживался тезиса, что ум не может оставаться в системе, подразумевающей теорию вещи в себе как непознаваемой. Но в 1887 году он опубликовал «Гегельянство и личность», где, к некоторому удивлению своих читателей, подверг абсолютный идеализм открытой критике.
На первый взгляд, признает Прингл-Паттисон, гегельянство, кажется, возвеличивает человека. Поскольку, какими бы туманными ни были заявления Гегеля, его философия явно указывает, что Бог или Абсолют отождествляется со всем историческим процессом как диалектическое развитие к самопознанию в и через человеческий ум. «Знание Бога, принадлежащее философу, есть знание, которое Бог имеет о себе самом». Таким образом, заложены корни для превращения теологии в антропологию левыми гегельянцами.
Более внимательное изучение показывает, однако, что гегельянство придает мало значения индивидуальной личности. Поскольку человеческие существа становятся «фокусами, в которых временно концентрируется безличная жизнь мысли, чтобы обеспечить себя собственным содержанием. Такие фокусы появляются только для того, чтобы исчезнуть в перманентном процессе ее реализации». Человеческая личность, другими словами, есть не более чем средство, посредством которого Безличная Мысль приходит к познанию себя. И с точки зрения любого, кто придает реальную ценность личности, ясно, что «гегелевское решение иметь процесс и субъект было первоначальным источником ошибки». Радикальная ошибка гегельянства и его английских производных состоит в «отождествлении человеческого и божественного самосознания или, точнее, в унификации сознания в едином "я"». Такая унификация в конечном счете разрушает реальность как Бога, так и человека.
Таким образом, Прингл-Паттисон настаивает на двух пунктах. Во-первых: должно быть признано реальное самосознание в Боге, хотя мы должны перестать приписывать ему факты конечного самосознания, рассматриваемого именно как таковое. Во-вторых: должна быть утверждена ценность и относительная независимость человеческой личности. Поскольку каждая личность имеет свой собственный центр, волю «непроницаемую» для любой другой личности, «центр, который я сохраняю даже в своих отношениях с самим Богом». Обе позиции – божественная личность и человеческое достоинство и бессмертие – являются дополнительными аспектами одной и той же экзистенциальной перспективы.
Это кажется отказом от абсолютного идеализма в пользу теизма. Но в своих поздних работах Прингл-Паттисон вновь утверждает абсолютный идеализм или, скорее, пытается пересмотреть его таким образом, чтобы позволить придать конечной личности большую ценность, чем в философиях Брэдли и Бозанкета. Результатом является неудовлетворительная амальгама абсолютного идеализма и теизма.
Во-первых, аргументами ранних английских идеалистов нельзя доказать, что мир Природы может существовать только как объект для субъекта. Аргумент Ферье, например, совершенно несостоятелен. Конечно, очевидно, что мы не можем мыслить материальные вещи, не мысля их; но «такой метод приближения не может доказать, что они не существуют независимо от этого отношения». Что касается аргумента Грина о том, что отношения не могут существовать иначе, чем через синтезирующую деятельность универсального сознания, он предполагает уже мертвую психологию, согласно которой опыт начинается с несвязанных ощущений. Фактически, отношения так же реальны, как и вещи, которые они связывают.
Это не означает, однако, что, как утверждает «низший натурализм», Природа существует отдельно от тотальной системы, которая придает ей ценность. Напротив, в Природе можно увидеть непрерывный процесс в сочетании с возникновением качественно различных уровней. Человек появляется как «орган, через который вселенная созерцает и наслаждается собой». И среди возникающих качеств, характеризующих вселенную, мы должны признать не только так называемые вторичные качества, но и «аспекты красоты и возвышенности, которые мы признаем в Природе, и те более тонкие интуиции, которыми мы обязаны поэту и художнику». Моральные ценности также должны пониматься как качества вселенной. И весь процесс Природы, с появлением качественно различных уровней, следует рассматривать как прогрессивное проявление Абсолюта или Бога.
Согласно Прингл-Паттисону, идея Бога, существовавшего «до» мира и создавшего его из ничего, философски несостоятельна. «Идея творения имеет тенденцию превращаться в идею проявления»; и бесконечное и конечное находятся в отношении взаимной импликации. Что касается человека, он «существует как орган вселенной или Абсолюта, единого Существа», которое следует концептуализировать в терминах его высшего проявления и, таким образом, как духовную жизнь или абсолютный опыт.
Несмотря на то, что «Гегельянство и личность», по-видимому, подразумевает, в поздней работе Прингл-Паттисона нет полного отказа от абсолютного идеализма. Напротив, во многих пунктах он согласен с Бозанкетом. В то же время, Прингл-Паттисон не готов принять теорию Бозанкета о судьбе человеческого индивида. Согласно ему, дифференциация составляет истинную сущность абсолютной жизни, и «каждый индивид есть уникальная природа… выражение или фокусировка вселенной, которая нигде более не повторяется». Чем выше мы поднимаемся по шкале жизни, тем яснее становится для нас уникальность индивида. И если ценность возрастает пропорционально уникальной индивидуальности, мы не можем думать, что различные «я» достигают своей судьбы, будучи поглощенными без различия в Едином. Каждое должно сохраняться в своей уникальности.
Таким образом, Прингл-Паттисон не готов сказать вместе с Брэдли, что временной мир есть явление. И поскольку он сохраняет теорию Абсолюта, он, по-видимому, вынужден сказать, что Абсолют подвержен временной последовательности. Но он также хочет утверждать, что в реальном смысле Абсолют или Бог трансцендентен времени. И поэтому он прибегает к аналогиям драмы и симфонии. В исполнении симфонии, например, ноты следуют одна за другой; однако в реальном смысле целое присутствует с самого начала, придавая смысл и объединяя отдельные единицы. «Подобным образом, мы можем, возможно, концептуализировать, что временной процесс сохраняется в Абсолюте и затем превосходится».
Если бы мы углубились в такие аналогии, естественным выводом было бы, что Абсолют есть просто Идея; или, возможно, более уместно, ценность всего космического и исторического процесса. Но Прингл-Паттисон явно хочет утверждать, что Бог есть абсолютный личностный опыт, который не может быть определен просто как смысл и ценность мира. Другими словами, он пытается сочетать абсолютный идеализм с теистическими элементами. И двусмысленный результат предполагает, что ему было бы лучше либо сохранить Абсолют и отождествить его с историческим процессом как движением к возникновению новых ценностей, либо четко порвать с абсолютным идеализмом и придерживаться теизма. Однако ясно, что в рамках общей структуры абсолютного идеализма он пытался сохранить и утвердить ценность конечной личности.
2. Плюралистический идеализм МакТаггарта.
Мы можем теперь обратиться к философу из Кембриджа, Джону МакТаггарту Эллису МакТаггарту (1866-1925), которому не ставилась и не могла ставиться проблема отношения конечных «я» к Абсолюту, поскольку для него не было Абсолюта помимо общества или системы «я». В его философии Абсолют в смысле Брэдли и Бозанкета просто исчезает со сцены.