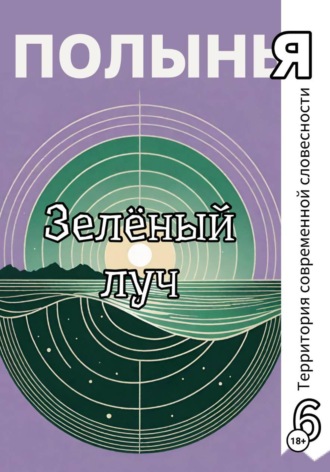
Полная версия
Зеленый луч
Днями жук спал, укрывшись от жары или холода среди листвы, в траве или под большим камнем, и видел во сне великого онгона Токтобая.
Ночами он любовался звездами – недостижимо далекими исполинскими горами из драгоценных камней, с земли казавшимися маленькими сверкающими точками, и молил Светоносного Тенгри* об одном: чтобы люди наконец вспомнили о своем отважном предке, и чтобы вновь запылали жертвенные костры, и чтобы все стало так, как было. Но бог молчал.
И вот однажды, когда свет Чулпан-Джулдуз[3] растворился на бледно-голубом утреннем небосклоне, увидел служитель, как разгневанный Тенгри с ужасающим грохотом метнул на землю серебряное копье, и вонзилось оно в ущелье Джети-Огус[4], туда, где лежат, подставив брюхо солнцу, семь красных быков.
Понял он, что Светозарный Тенгри вознегодовал на людей за непочтительность к духам предков, и в ярости своей может дойти до того, что уничтожит весь род человеческий. Расправив крылья, встревоженный жук поднялся в воздух и полетел в сторону ущелья – туда, где за красными холмами жили люди, потомки благородного воина Токтобая.
Лишь к вечеру он достиг человеческого поселения. Печальное зрелище предстало его глазам. Мрак и запустение царили в долине. Не пасся на вольных пастбищах скот, не сбивались в кучу, словно стадо овец, белые юрты. До самого горизонта тянулась почерневшая от огня степь.
«О Лучезарный Тенгри, не гневайся на людей! – заклинал служитель. – На каком языке обратиться к тебе, чтобы ты услышал меня? Верни все, как было!» Но бог молчал.
До самой темноты служитель кружил над опустевшей землей. С непривычки он изрядно утомился и, наскоро зарывшись в землю, задремал. «Неужто гнев твой столь беспощаден, что истребил ты целый народ? Кто же тогда станет оказывать тебе почести и кормить духов?» – сокрушался он во сне. Вдруг новая, спасительная мысль озарила служителя. Скорее всего, Вседержавный Тенгри очень занят и не слышит его горестных воззваний! Значит, нужно во что бы то ни стало докричаться до него!
Ободренный этим соображением, жук взвился в воздух, со всей страстью моля Бога обратить на него свой взор.
«Ж-ж-ж!», – исступленно жужжал он, не замечая возникшей прямо по курсу темной зияющей пещеры. Влетев с разгона внутрь, он всеми шестью лапами увяз в липкой субстанции, покрывающей мягкую шевелящуюся полость. Только тут служитель осознал, что очутился в чьем-то рту, чудом избежав участи быть заживо проглоченным. Во всяком случае, пока.
Во рту стояло неприятное ощущение бьющейся чужой жизни, наполняющей поднебное пространство вибрацией и жужжанием. Алыке заплакал и перевернулся на другой бок.
Провалившись на этот раз в пустое гулкое забытье, мать безмятежно спала, пока хныканье ребенка не подняло ее с постели. Встав над детской кроваткой, она тихонько потрясла сына за плечи.
– Алыке, – позвала она, – что с тобой? Отчего ты плачешь?
Слова матери полыхнули над головой служителя священным откровением – молитвой, которую он должен повторить, чтобы бог услышал его и сжалился над людьми! Алыке тихонько засмеялся, а жук исполнился ощущений, какие бывали, когда он, в молитвенном экстазе, попадал в небесную сферу, где обитал Предвечный Тенгри.
Сновидение, в котором лицом к лицу столкнулись мальчик и жук, рассыпалось, и оба зависли в приоткрывшейся на мгновение вечности, предваряющей пробуждение. И увидел служитель в изумленных глазах мальчика прошлое и будущее, простирающиеся в века, и вольные широкие пастбища, и богатые селения, именуемые городами, и памятники предкам, отлитые из незнакомого металла.
Служитель напрягся изо всех сил и пропел сакральную песнь на таинственном языке небес: «Ж-ж-ж!»
И бог услышал!
Далеким призрачным видением мелькнул перед Алыке древний алтарь, никогда прежде не виданный и тут же забытый навсегда. Смутный образ женщины, склонившейся над спящим ребенком, проплыл перед служителем и растаял, как облако. Охваченный мистическим трепетом, жук проснулся, обнаружив себя пребывающим на священном холме. Лапы его утопали в разложившейся туше верблюда, а тот страшный, непостижимый, на мгновение приоткрывшийся божественный мир исчез.
Марат Валеев. БОРЬКА
– Сына, иди-ка на улицу! – прямо в сапогах заскочив с улицы в горницу, где за столом делал уроки пятиклассник Антоха, сердито позвал его отец.
– А че надо? – буркнул Антоха, не отрываясь от тетрадки: задачка по математике шла сегодня очень трудно, а помочь ему в доме было некому, и мать, и отец Антохи закончили всего по три-четыре класса
«Такое время было, сынок – вздыхала мама. – А ты учись, учись. Может, агрономом или зоотехником станешь».
– Через плечо! – гаркнул злой с похмелья батя. – Пошли, говорю! Борьку своего нам из сарая позовешь! Не идет, зараза!
Батя выматерился и выскочил из дома, хлопнув дверью.
– Иди, сынок, иди, помоги папке-то, – перестав греметь посудой, из кухни выглянула мама с озабоченным лицом.– А зачем им Борька? – с подозрением спросил Антоха.
– Ну, зачем, зачем, – уклончиво вздохнула мама, откидывая за ухо прядь поседевших волос. – Что ты как ребенок, ей-Богу? Сам же все знаешь. Пришло Борькино-то время.
У Антохи заныло под ложечкой. Конечно, он был не маленький, и прекрасно знал, и видел, что батя время от времени делает с той живностью, которая блеет, мычит, хрюкает, квохчет и гогочет в разномастных клуньках, сараях, денниках, налепленных друг к дружке в разных уголках их большого сельского подворья.
Семья Панкиных, к которой имел честь принадлежать и Антоха, считалась в Моисеевке одной из хозяйственных. Батя Антохи хоть и попивал, но дело свое знал. В сарае у них всегда переминалась с ноги на ногу и грустно вздыхала корова и один-другой теленок; в свинарнике похрюкивали штук с пяток подрастающих к закланию поросят; по двору шлялись несколько меланхоличных овечек и пара коз с бесовскими желтыми глазами; собравшись в тесную компашку, деловито клевали высыпанный прямо на землю корм куры; чертя по земле распущенным крылом, боком ходил злобный индюк, болтая свисающей с носа красной кожаной «сосулькой» и высматривая, кого бы клюнуть; скандально гоготали крупные бело-серые гуси.
Батя, когда мама просила его об этом, ловко выхватывал любую пернатую тварь за шею, шел к специальной колоде и в секунду оттяпывал на ней птице голову топором и отбрасывал ее, еще хлопающую крыльями, в сторону. И, как ни в чем не бывало, шел заниматься другими делами, потому что дальше была уже мамина забота – ошпарить перепачканную кровью тушку птицы и ощипать ее.
С овцами отец тоже разделывался на раз. Поймав за заднюю ногу несмело брыкающуюся ярку, он, попыхивая торчащей из уголка жесткого сухого рта папироской, волок ее под специально сооруженный навес у дровяника. Собрав в кучку все четыре ноги овцы, связывал их бечевкой, потом брал в правую руку острый нож, и… И через пять минут уже свежевал подвешенную за задние ноги тушу.
Больше возни было со свиньями. Одному с раскормленным хряком или уже отслужившей свое и потерявшей репродуктивные способности свиньей весом килограммов с полтораста, а то и двести, отцу было не справиться. С Антошки, хотя и старшего из двух братьев, толку еще не было, и батя приглашал помочь совершить свинское смертоубийство дядю Колю, женатого на его сестре Соне.
Дядя Коля, худой, с вечно спадающими с тощей задницы штанами, приходил обычно с похмелья, жаловался, что у него трясутся руки, и они, прежде чем взяться за дело, распивали с отцом бутылочку, а то и другую, за которой отец посылал в магазин маму.
Мама ворчала, но отцу перечить не смела: тот, очень сильный, вспыльчивый и всю свою сознательную деревенскую жизнь бестрепетно губивший домашних животных, и с людьми-то был скор на расправу.
Потом они, раскрасневшиеся после выпитого, выходили во двор с неизменными папиросками во рту, дружно наваливались на выманенную из свинарника каким-нибудь запашистым кормом свинью – особенно те велись на сваренную в мундире мелкую картошку, – укладывали ее, истошно визжащую, на спину, и отец коротко и сильно бил длинным лезвием ножа в бледнокожее углубление под левой передней и короткой ногой, отведенной его безжалостной рукой в сторону. Если удар был точен и холодная сталь сходу пробивала свинское сердце, то визгу было немного.
Ну а если рука ошибалась и лезвие останавливалось в сантиметре-другом от сердца, истошный крик неудачно забиваемой свиньи слышался далеко окрест. Антоха в такие моменты затыкал уши и убегал в дом или со двора куда подальше, чтобы не видеть и не слышать всего этого.
Такие жесткости на дворе Панкиных происходили регулярно, как, впрочем, и во всех остальных дворах Моисеевки, и считались делом хоть и малоприятным, но обычным. Не сделав больно животным и не убив их, нельзя было отнять у них сало, мясо для пропитания семей и для продажи излишек. На этом живодерстве, в основном, и строилось благополучие деревенских жителей. И все дети сызмальства знали, откуда берутся вкусные куриные ножки в супе или толстые сочные котлеты на большой скворчащей сковороде, и относились к кровопролитиям на задних дворах если не равнодушно, то с пониманием.
Но при этом в деревенских семьях случались и трагедии – это когда родители неосмотрительно дозволяли своим малолетним детям полюбить выращиваемых на заклание поросят, телят. Конечно, таких детей в час Х старались не выпускать во двор, но ведь те все равно спустя какое-то время обнаруживали исчезновение своих любимцев, по поводу чего потом закатывали истерики и отталкивали от себя тарелки, подозревая, что в них плавает как раз мясо их любимцев. Впрочем, такие душевные раны были не особенно глубокими и заживали достаточно быстро. Можно сказать, в считанные часы, особенно когда надоедало есть один хлеб с молоком. И образ любимого забавного существа также быстро стирался из детской памяти.
Антоха на своей короткой еще памяти уже терял таким образом смешного белого поросенка с черными рыльцем и пятачком, которого он назвал Чернышом, и практически ручного гусака Гоголя. Полуторагодовалый Борька был третьим существом, к которому Антоха привязался с самого его рождения. Это был красивый пестрый теленок, с рыжими, почти красными пятнами на ослепительно белой шкурке, родившийся зимой и первые несколько недель живший у них дома в специально отгороженном для него уголке на кухне.
В семействе Панкиных этому коровьему детенышу обрадовались все. Правда, каждый по-своему. Родители – потому, что это был бычок, которого можно откормить на мясо и выгодно продать. Антоха с младшим своим братцем Ванькой – потому, что Борька оказался очень компанейским парнем, охотно сосал им пальцы своим беззубым, теплым и слюнявым ртом, и еще ему нравилось бодаться с пацанами. То Антоха, то Ванька, улучив момент, пока не видят родители (те ругали их за эту забаву, считая, что бычок может вырасти очень бодливым), нагнувшись и упершись своим лбом в курчавый лоб Борьки, толкали его. Борька тоже начинал сопеть, упираться разъезжающимися копытцами в деревянный пол, и часто у них бывала ничья.
Потом Борьку перевели в сарай, к мамке поближе, а там и весна пришла. На улице стало тепло, снег сошел, и быстро растущего бычка, которого буквально распирала энергия и он, как сумасшедший, прыгал в своем закутке, стали выпускать на свежий воздух. И Борька, смешно взмыкивая и вертя голым хвостиком с пушистой кисточкой на конце, кругами носился по двору, распугивая кур и овец.
А с приходом лета Борьку стали выгонять на пастбище вместе с матерью, волоокой и с очень большим, сразу на ведро молока выменем, коровой Зорькой. Где-то там, далеко за селом, они целый день щипали сочную травку под присмотром общественного пастуха, вечно пьяненького дяди Ильи Копейкина, и грузно возвращались домой с раздутыми боками. Борька очень быстро рос, к осени он уже почти нагнал свою мамку. Голова у него стала очень большая, как чемодан, и была увенчана толстыми и пока еще короткими, но уже очень убедительными рогами. А сзади между ног у Борьки смешно болталась продолговатая округлая, увесистая мошонка.
У быка играл гормон, отчего подурнел характер, он стал раздражительным, пытался рогами разломать свой закут, а, оказавшись на дворе рядом с матерью, тут же старался взобраться на нее, вытягивая от усилия шею и пуская слюни из мычащей пасти, но Зорька возмущенно пресекала эти поползновения и даже пару раз лягнула его по морде раздвоенным копытом.
– Надо бы Борьку кастрировать, – сказал как-то за обедом матери отец. – Купи бутылку, я ветеринара позову.
Пришел благоухающий спиртом, навозом и еще какой-то пахучей гадостью ветеринар дядя Геша Анциферов. Бутылку с отцом они усидели в палисаднике, в тени раскидистого клена, но мошонку Борьке отрезать не стали. Ветеринар научно доказал папке, что с коками бык быстрее вырастет и наберет больше веса, за что папка выкатил ему и вторую бутылку. Так Борька остался при своих причиндалах, и однажды сделал со своей матерью то, чего давно добивался. И взрослые только обрадовались этому проявлению животного инцеста: Зорька как раз пришла в охоту, и не надо было ни с кем договариваться, чтобы ее за плату покрыл какой-то чужой бык: свой как нельзя лучше справился с этой важной задачей, и теперь от Зорьки можно было ждать нового приплода.
А Борька же очень быстро вырос в натурального, кило на четыреста, бугая. Его побаивались все, кроме Антохи. Борька по-прежнему охотно подпускал этого белобрысого ласкового пацана к себе, особенно когда тот приходил с краюхой хлеба, слегка посыпанной солью. А еще он очень любил, когда тот почесывал ему шею. Борька клал свою тяжелую голову на край загородки и только шумно вздыхал, когда Антон с хрустом расчесывал ему растопыренной пятерней тяжело отвисшую с мощной шеи кожистую складку.
Ближе к весне с кормами стало туго, и отец решил, что Борьку кормить больше нет смысла и пора пустить его на мясо. Сдавать быка «шкурникам» из заготконторы, старающихся объегорить хозяев закупаемого скота, он не стал. «На хрен я им буду зазря отдавать треть цены!» – орал батя накануне вечером, когда они под бутылку договаривались у них дома с дядей Колей, когда будут решать Борьку.
И вот Борькина очередь настала. Уже сегодня.
– Ну, где ты там застрял? – раздраженно сказал отец, когда Антоха, накинув фуфайку и сунув ноги в галоши: на улице уже подтаивало, нехотя вышел за ним во двор.
– Да иду же, иду, – буркнул Антоха, плетясь за отцом к сараю. Во дворе уже все было заготовлено для заклания быка: под скотобойным навесом постелена свежая солома, а рядом светились чистенько вымытые эмалированные тазы и корыта для потрохов и мяса, курилось паром наполненное теплой водой ведро со свисающими с краю тряпками. На колоде лежали два больших остро наточенных ножа (отец вчера, морщась от дыма, торчащей из уголка рта папиросы, долго ширкал ими по полукругу наждачного камня). К колоде был также прислонен и топор, на соломе валялись длинные ремни вожжей.
И у Антохи внутри все похолодело, когда он окончательно понял, что весь этот ужасающий арсенал заготовлен для того, чтобы мучительно и беспощадно убить Борьку и, превратив его в несколько сот килограммов мяса, затем распродать на базаре в райцентре. Того самого глупого и веселого бычка, с которым они так славно, лоб в лоб, бодались на кухне зимними вечерами.
– Я не пойду звать Борьку, – внезапно остановившись, сказал хриплым голосом Антоха.
– Это почему же? – недобро прищурился отец.
– Потому что вы его зарежете, – прошептал Антоха и всхлипнул.
– Ну.ю растудытьтвоюпротакпроэтак! – в сердцах загнул что-то труднопроизносимое отец. – Что ты как маленький, а? А ну, пошел в сарай!
И он отвесил сыну пока не сильную, но довольно увесистую затрещину. Антоха испуганно подпрыгнул и покорно побрел к сараю.
– Хлеба возьми, – сунул ему в руку отец горбушку. – Я вот прихватил. И даже присолил, как он любит.
Борька стоял в своем загоне, повернувшись головой не к яслям с сеном, а к выходу, и угрюмо набычившись. Мать его, Зорька, лежала на дощатом настиле в соседнем и, громко вздыхая, меланхолично пережевывала жвачку. И ей, похоже было абсолютно все равно, что вот-вот должно произойти с ее выросшим дитем.
– Му-у! – басом пожаловался на что-то Борька, завидев Антоху.
– На, Боренька, съешь, – утерев слезы, протянул ему Антоха горбушку. Борька аккуратно зацепил краюху длинным сизым языком и отправил ее в рот, медленно зажевал, двигая нижней челюстью из стороны в стороны.
– Ну, зови его, – вполголоса сказал за его спиной отец. – Или ты хочешь, чтобы мы зарубили его топором прямо здесь?
– Я щас, щас, – испуганно заторопился Антоха. Отперев загородку, он ласково позвал:
– Пойдем, Боря, пойдем, погуляешь.
Борис доверчиво шагнул за ним из загородки, осторожно ступая громадными раздвоенными копытами, вышел на улицу из полумрака сарая, и потопал за Антохой к навесу, где для него все было заготовлено. Дядя Коля, улучив момент, сноровисто накинул быку на шею через небольшие еще рога веревочную петлю и другой конец ее примотал к столбу.
Отец в это время суетился в ногах Борьки – он их, все четыре, как-то быстро и по-особому перехватил вожжой, и они вместе с дядей Колей дружно потянули свободный конец на себя. Вожжа захлестнулась на ногах быка в хитроумную петлю, потянула их все в кучу, и Борька с недоуменным мычанием пошатнулся, потерял равновесие и рухнул на солому.
Антоха со все возрастающим страхом следил за тем, как ловко работают мужики: дядя Коля крепко притянул голову Борьки рогами к столбу, а отец для страховки еще раз перевязал скрещенные ноги быка. Тот теперь был совершенно беспомощен и только шумно дышал, и затравленно поводил вокруг синеватыми белками вытаращенных глаз в обрамлении белесых ресниц.
– Фуф! – вздохнул отец, отирая рукавом потрепанного пиджака потный лоб. – Пойдем-ка, Коля, дернем грамм по сто да перекурим. Устал я чего-то. А бычок пусть полежит пока. Никуда он уже не денется.
И они, не обращая внимания на стоящего в сторонке и потупившегося Антоху, пошли в дом. Когда за ними, скрипнув, закрылась дверь в сенцах, Антоха бросился к быку, встал перед ним на колени и забормотал, гладя его по курчавому лбу:
– Боренька, ты не обижайся на меня, ладно? Ну, чего ты на меня так смотришь, а? Я же ничего не могу поделать, сам должен понимать…
– Ммууу! – снова тихо пожаловался ему Борька и попытался привстать, но лишь дернул спутанными ногами и обреченно вздохнул. У впечатлительного Антохи из глаз снова закапали слезы, и он, ткнувшись быку губами в шершавый влажный нос, встал, чтобы уйти. Не домой, к незаконченном урокам, а куда-нибудь со двора подальше, чтобы не видеть и не слышать происходящего здесь. Антоха еще раньше дал себе клятву во что бы то ни стало выучиться и навсегда уехать из деревни, чтобы никогда самому не разводить скот и не убивать его. А сейчас он только укрепился в своем решении.
Борька проводил его печальным взглядом, и этот взгляд обреченного животного резанул по сердцу Антохи как ножом. И Антоха, еще не понимая, что он делает, но в то же время осознавая, что наступил в его жизни тот самый миг, когда от него требуется поступок, вернулся к колоде, взял с нее нож и, присев около Борьки, разрезал веревку, которой тот был примотан за рога к столбу. Борька тут же поднял голову с болтающимся на шее обрывком веревки, и снова попытался встать.
– Щас, Боря, щас! – лихорадочно шептал Антоха, на коленках подползая к его ногам и перерезая стянувшие их вожжи.
Бычок тут же тяжело вскочил на ноги и остался стоять на месте, еще не определившись, видимо, куда ему идти.Антоха же подбежал к калитке, распахнул ее и, вернувшись к Борьке, шлепнул его ладошкой по мускулистому заду, одновременно как бы подталкивая вперед:
– Иди, Борька, на улицу, – просительно сказал он. – Ну, иди же, тебе говорят!
А тупой Борька ухватил клок соломы и принялся ее пережевывать. Тогда отчаявшийся Антоха подобрал около поленницы палку и легонько стукнул бычка по мясистой ляжке.
– Пошел, пошел!
И Борька, поняв, что Антоха гонит его со двора, неспешно пошел к калитке, протопал мимо глядящих во двор окон горницы, и из дома, к счастью, его никто не заметил, так как Ванька носился где-то в деревне, отец с дядей Колей бражничали в это время на кухне, а мама, как обычно, хлопотала у плиты.
Задевая своими крутыми боками проем калитки, Борька протиснулся на улицу и степенно двинулся к концу села, где обычно на выгоне по утрам собирали весь скот перед тем, как погнать на пастбище. Бычок хорошо помнил эту дорогу и уверенно шел по ней, ничуть не сомневаясь в том, что его гонят именно туда, где растет сочная зеленая трава. Не смущало его и то, что рядом не было его постоянной спутницы – мамы-коровы Зорьки. Главное, рядом шел, держась за свисающую с его шеи веревку, Антоха, а ему Борька доверял как никому.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Онгон – дух предка семьи или рода, его культовое изображение (прим авт.).
2
Баатыр – богатырь, храбрец, герой. (прим авт.).
3
Чулпан-Джулдуз – утренняя звезда (прим. авт.).
4
Джети-Огус – горное ущелье с живописными красными скалами в Кыргызстане (прим авт.).



