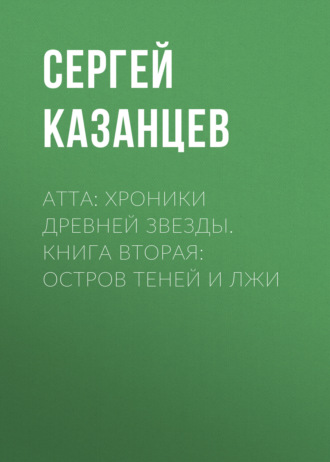
Полная версия
Хроники древней звезды. Книга вторая: Остров Теней и Лжи
Их разношерстную компанию, как и договаривались, составляли пятеро матросов из племени Большеногих. Эти коренастые, молчаливые ребята с их характерной фигурой — узкие, покатые плечи и несоразмерно широкие, мощные бедра, делающие их похожими на груши, стоящие на огромных, похожих на ласты стопах, — сновали по палубе, выполняя лаконичные, отрывистые команды Трескота. Их природная сила и выносливость были незаменимы при управлении парусами и прочей тяжелой работе, а их плотные фигуры, казалось, придавали хлипкому судну дополнительную солидность и устойчивость.
Но главным источником энергии и света на борту была, несомненно, Огнеза. Девочка так настойчиво уговаривала Богдана взять ее с собой, и ее глаза горели таким неподдельным нетерпением и любопытством, что отказать ей было просто невозможно. Она то и дело подбегала к самому борту, хватая Богдана за рукав своего платья, чтобы показать ему проплывающее стадо резвящихся рыб, похожих на дельфинов, или невиданную яркую птицу, вспорхнувшую с прибрежных скал.
— Смотри, Хранитель, смотри! — восклицала она, и ее голос звенел, перекрывая шум ветра и воды. — Они же нас провожают! Вон тот, самый большой, он прямо смотрит на нас! Правда, моряки говорят, что это к удаче?
— У моряков, Оги, на все случаи жизни есть своя примета, — уклончиво, но с теплой улыбкой отвечал Богдан, глядя на ее восторг. — Одни говорят, что дельфины — к добру, другие — что они предвещают шторм. Но если это и вправду знак, то глядя на тебя, я готов поверить, что знак это самый что ни на есть хороший.
Первый день плавания прошел на удивление спокойно и почти идиллически. «Пьяная Волчица», вопреки всем мрачным прогнозам и своему плачевному виду, довольно бодро шла по набегающим волнам, послушно подчиняясь рулю и ловя попутный ветер своими потрепанными парусами. Трескот, расположившись у штурвала на самодельном ящике, временами что-то бормотал себе под нос, сверяясь с положением солнца и меняющимися очертаниями берега. Гринса, устав от безделья и созерцания, принялась с методичным упорством точить свой длинный разделочный нож о специальный точильный брусок, что она, с присущей ей предусмотрительностью, прихватила с собой. Лиас понемногу осваивался, и его первоначальная настороженность постепенно начала смениться профессиональным интересом; он даже отважился достать свою потрепанную книгу по геральдике в кожаном переплете и пытался читать, покачиваясь в такт размеренной качке корабля.
С наступлением вечерних сумерек, когда берег начал терять четкие очертания и растворяться в лилово-золотой дымке, Трескот хриплым голосом отдал приказ убрать паруса и бросить якорь на безопасном удалении от берега.
— Ночью среди этих подводных камней да рифов шляться — себе дороже выйдет, — пояснил он, поворачивая штурвал и проверяя с помощью старого лота.
Устроились на ночь кто как мог. Богдан, как капитан и главный инициатор этого путешествия, без лишних церемоний занял единственную более-менее пригодную для жилья каюту, которая, судя по затертым картам на стене и застрявшей в щели стола засохшей табачной трубке, и была капитанской. Она была крошечной, с жесткой, узкой койкой, прибитой к полу, грубым столом и одним небольшим, запотевшим иллюминатором, но после открытой палубы и соленых брызг эти несколько квадратных метров казались ему настоящими роскошными апартаментами. Богдан капитаном назывался чисто номинально. Потому что в морском деле понимал примерно так же, как фотомодель в стрижке овец. Но после острова Большеногих ему подчинялись все беспрекословно, признавая лидера. Огнезу устроили в соседнем, еще более тесном помещении — то ли каюте для «почетных гостей», то ли каморке для помощника капитана, хотя на таком судне, как «Пьяная Волчица», вряд ли кто-то вообще имел столь высокий статус.
Ночь опустилась на корабль густая, бархатная и невероятно тихая, нарушаемая лишь убаюкивающим плеском воды о борт, скрипом снастей на ветру и далекими, загадочными звуками с берега. Богдан, уставший за день от новых впечатлений и морского воздуха, уже проваливался в глубокий сон, как вдруг дверь его каюты с тихим, жалобным звуком скрипнула. В проеме, закутавшись в свое грубое шерстяное одеяло, стояла Огнеза с растрепанными рыжими волосами, и в полумраке он увидел, как блестят ее широко раскрытые изумрудные глаза.
— Баг? — тихо, почти шепотом, позвала она, и в голосе слышалась неуверенность. — Можно я… можно я посплю сегодня у тебя?
Богдан, с трудом выныривая из объятий сна, приподнялся на локте и сонно протер глаза. Помнится, раньше, когда они пробирались по лесам, она таких вопросов не задавала.
— У тебя же есть своя собственная каюта, — пробормотал он, все еще не совсем понимая суть вопроса. — Там своя, отдельная койка. И дверь закрывается.
— Мне страшно, — призналась девочка еще тише, и ее голос дрогнул, выдав внутреннюю тревогу. — Там так темно и… пусто.
— Чего ты боишься-то? — спросил Богдан, уже окончательно проснувшись и садясь на койке. — Мы стоим на надежном якоре, все рифы остались далеко позади, а вся наша команда тут, на борту.
— Не знаю… — она сделала маленький, несмелый шаг внутрь каюты, и в тусклом свете луны, пробивавшемся сквозь мутное стекло иллюминатора, он увидел ее испуганное, бледное личико. — Просто неуютно. И очень тревожно. Там все поскрипывает по-разному, и тени от луны такие странные и длинные падают… Будто кто-то шепчет за стеной.
Богдан посмотрел на нее, на эту худенькую девочку, дочку лорда-протектора, оказавшуюся в изгнании и вырванную из привычной среды, для которой он сейчас был единственной опорой, защитой. Он вздохнул, но в голосе его, когда он заговорил, не было и тени раздражения или недовольства.
— Ладно, хорошо, — сказал он мягко, откидывая край своего одеяла. — Залезай сюда, раз уж так. Места хватит на двоих.
Он подвинулся к самой стенке, освобождая место на узкой, жесткой койке. Огнеза, словно испуганная, но доверчивая мышка, юркнула под его одеяло и крепко, по-детски прижалась к нему спиной, наглухо закутавшись с головой в свое собственное. Через несколько минут ее дыхание стало ровным, глубоким и безмятежным. Она заснула почти мгновенно, чувствуя себя под защитой, в полной безопасности.
Богдан еще какое-то время лежал без сна и смотрел в темноту потолка, слушая ее спокойное дыхание и мерный, убаюкивающий плеск волн за бортом. В конце концов, в этом незнакомом, подчас жестоком и всегда непредсказуемом мире, он для этого юного создания был самым близким, почти что родным человеком, единственным, кому она могла доверять без оглядки. И эта простая, но такая важная мысль согревала его изнутри куда сильнее, чем самое толстое и теплое одеяло.
Глубокая ночная тишина каюты, такая густая, что, казалось, её можно было резать ножом, была внезапно разорвана. Сначала до слуха Огнезы донесся какой-то отдаленный, неясный звук — словно где-то далеко скрипели несмазанные петли. Она замерла, прислушиваясь сквозь сон, но всё стихло. И тогда, словно ледяной нож, в эту тишину вонзился резкий, неприятный скрежет за бортом, похожий на то, как по обшивке судна с противным визгом волочат тяжелую ржавую цепь. Этот звук не просто разбудил её — он резко вырвал из объятий сна, заставив сердце забиться в тревожном ритме.
Она вскочила на кровати, глаза широко распахнулись, бессмысленно вглядываясь в полумрак. В слабом свете, пробивавшемся сквозь неплотно прикрытый иллюминатор, едва угадывались знакомые очертания — матросский рундук в углу, темный проем двери, и... пустое место рядом. Простыня на соседней койке была смята, холодна на ощупь. Рука инстинктивно потянулась туда, и пальцы ощутили лишь ледяную ткань, от которой веяло одиночеством.
«Богдан?» — прошептали её пересохшие губы, и этот тихий звук показался ей оглушительно громким в гнетущей, давящей тишине. Ответом была лишь звенящая пустота, будто весь корабль, все его поскрипывающие балки и натянутые канаты замерли в немом ожидании. Даже привычный скрип корпуса «Пьяной Волчицы» куда-то исчез, поглощенный этой аномальной тишиной.
Сердце заколотилось где-то в горле, учащенный, неровный ритм отдавался в висках. Она была совершенно одна в этом скрипучем деревянном мире, плывущем в бескрайней ночи. Осторожно, будто боясь спугнуть это зыбкое молчание, она соскользнула с койки. Босые ноги коснулись холодных досок пола, и ледяной озноб пробежал по всему телу. Каждый её шаг к двери отдавался в тишине глухим шелестом, заглушаемым лишь собственным учащенным дыханием и бешеным стуком сердца, которое, казалось, вот-вот вырвется из груди.
Рука дрожала, когда она дотронулась до холодной металлической ручки. Скрип дверной петли прозвучал оглушительно громко, словно выстрел, нарушая ночной покой. Короткий, тесный коридор показался ей бесконечным туннелем. Затем её ноги ступили на узкую, крутую лестницу, ведущую на палубу. Дерево ступеней было ледяным, и холод проникал глубоко в кости, заставляя её дрожать. Когда она наконец вышла под открытое небо, соленый ночной воздух с силой ударил в лицо, обжег легкие и заставил её отшатнуться.
Огнеза уже изучила каждый уголок корабля и его строгий распорядок. Она точно знала, что по правилам один из матросов всегда должен патрулировать палубу ночью, его размеренные шаги были привычным звуком. И фонари на капитанском мостике, возле штурвала — те самые, что предупреждали другие суда и служили символом безопасности, — должны были гореть до самого рассвета, отгоняя мрак и вселяя уверенность.
Но сейчас палуба была пуста и безмолвна, а фонари были погашены. Эта неестественная темнота и тишина делали ночь еще более зловещей и враждебной. Всепоглощающая чернота океанской ночи окутала корабль плотным, почти осязаемым покрывалом. Лишь где-то в бескрайней вышине слабо мерцали холодные, безразличные звезды, их тусклый свет был слишком слаб и далек, чтобы разогнать сгущавшийся вокруг мрак.
Огнеза почувствовала, как по её спине побежали противные мурашки. Она медленно шла вдоль борта, цепляясь дрожащими пальцами за шершавые, влажные от морской соли и ночной прохлады перила. Всё её маленькое, хрупкое тело мелко подрагивало — и от пронизывающего холода, и от нарастающего, иррационального страха, сжимавшего горло. Казалось, сама атмосфера пропитана ожиданием чего-то неотвратимого.
И вдруг — свет. Не яркий и уверенный, а мерцающий, неровный, похожий на последние судорожные всполохи угасающей жизни. Он исходил от левого борта, притягивая взгляд, словно магнит. Девочка, затаив дыхание и чувствуя, как сердце готово выпрыгнуть из груди, медленно, как во сне, подошла туда.
То, что открылось её глазам, было невозможно, немыслимо, противоречило всем законам и привычному укладу. Сходни, которые во время плавания всегда надежно убирались и крепились к борту, чтобы их не сорвало волной, были спущены. Но не вниз, в черную, бездонную, жадную пучину воды, а образовали неестественный, зыбкий, призрачный мостик, уходящий в темноту. Длина его была пугающей, невероятной — не меньше семи метров, и он вел к маленькому, одинокому каменному островку, безжизненному и мрачному, торчащему из ночного моря, как надгробие. А на том островке, как раз напротив конца этого неестественного пути, мерцал, подмигивая и дразня, тот самый слабый, зовущий и одновременно пугающий огонек, будто маяк, влекущий на верную гибель.
«Нет, — застучало, забилось в висках у Огнезы, сливаясь с ритмом сердца. — Не надо. Нельзя. Надо вернуться. Надо найти Богдана». Мысли путались, приходили обрывками, но ноги, словно чужие, отрезанные от воли, сами понесли её вперед, подчиняясь какой-то неведомой, гипнотической силе. Какая-то невидимая воля, тянущая, как магнит, непреодолимая, заставляла её делать шаг за шагом, ведя к краю. Она поднялась на зыбкие, ненадежные доски, чувствуя, как дерево под босыми ступнями было холодным, шершавым и живым, словно оно дышало в такт океану. С каждым её осторожным, неуверенным шагом сходни жалобно скрипели, стонали и покачивались, словно умоляя, предупреждая, пытаясь остановить это безумие.
Островок приближался, вырастая из темноты. Камни, темные, мокрые и скользкие от брызг, были уже совсем близко, казалось, вот-вот можно дотянуться рукой. И в этот миг, когда надежда уже начала теплиться в груди, мостик под ней с глухим, костным, предсмертным скрежетом резко качнулся! Его правый край внезапно покачнулся вниз. Огнеза взвизгнула, отчаянно взмахнув руками, инстинктивно пытаясь поймать равновесие, и чудом, ценой невероятного усилия, удержалась, не сорвавшись в черную, ждущую, безмолвную пучину, что зияла под ногами.
Сердце бешено колотилось, слеза подступили к глазам, застилая мир влажной пеленой. Но та же невидимая, жестокая сила снова толкнула её вперед, лишая выбора. Ещё шаг. Ещё. И вот, наконец, пошатываясь, почти падая, она ступила на твердую, неровную, но такую жеванную теперь поверхность каменного островка. Ноги подкашивались, и она едва устояла, опершись о мокрый камень.
Прямо перед ней, защищенная от ветра небольшим скальным выступом, стояла простая, даже убогая восковая свеча. Её слабый, одинокий огонек отчаянно боролся с всепоглощающей тьмой, мерцая и подрагивая, как испуганное существо. Он отбрасывал длинные, пляшущие, искаженные тени на камни, создавая причудливые, пугающие силуэты. Пламя свечи было единственным источником света, крошечным островком тепла в этом ледяном мраке, и его неравная борьба с тьмой казалась глубоко символичной и трагичной.
Огнеза с трудом заставила себя обернуться, и её взгляд утонул в бескрайнем, темном, безжалостном океане. И там не было ничего… Ни длинного мостка. Ни корабля. Только темный океан и волны…
Волны, черные как вар, с ленивым, неумолимым, древним рокотом накатывали на камни, разбивались в фейерверке хлопающей пены и с шипением, словно змеи, отползали прочь. Этот ритм был гипнотическим, первобытным: накатывали и уходили, накатывали и отступали. Но с каждым новым циклом, с каждым ударом о камни волны становились ВСЁ БОЛЬШЕ, ВСЁ ВЫШЕ, их рокот перерастал в сокрушительный гул, от которого вибрировали не только камни под ногами, но и самые кости внутри неё.
Брызги, холодные, соленые и колкие, как иглы, уже достигли её босых, замерзших ног, заставляя вздрагивать от холода и сжимающего сердце страха. Ещё одна, более мощная, свирепая волна набежала из темноты, и целый веер ледяной, обжигающей воды хлестнул прямо в беззащитное пламя свечи. Огонек отчаянно дернулся, затрепетал, шипя и борясь, и наконец погас, оставив после себя лишь тонкую, извивающуюся струйку едкого дыма и горький запах гари, смешанный с соленым воздухом. Теперь единственным источником света были далекие, равнодушные звезды, и их было безнадежно недостаточно, чтобы разогнать сгустившийся вокруг мрак, который, казалось, вот-вот поглотит её целиком.
Огнеза, дрожа всем телом, как осиновый лист, инстинктивно сжалась в комок, пытаясь стать как можно меньше, незаметнее, спрятаться. Но океан, будто разъяренный бог, не унимался. Из темноты, медленно, неотвратимо, начала подниматься действительно исполинская, чудовищная волна, темная, как сама ночь, как сама смерть. Она выросла перед ней грозной, непроницаемой стеной, заслонив собой все звезды, все небо, и с оглушительным, первобытным ревом, от которого закладывало уши, обрушилась на островок. Девочка в ужасе зажмурилась, ожидая, что её сейчас сметет, раздавит, унесет в ледяную пучину, но...
Удар не пришел. Вода с оглушительной силой разбилась прямо перед ней, словно о невидимый, прочный, прозрачный купол, о незримый барьер. Брызги окатили её с ног до головы ледяным потоком, промочив одежду до нитки и заставив задрожать ещё сильнее, но сама волна, с грохотом и шипением, словно обескураженная, отхлынула, не причинив ей никакого физического вреда. Это было чудо, но чудо зловещее, неестественное.
И когда вода отступила, открывая мокрые, блестящие в тусклом звездном свете камни, Огнеза увидела нечто, от чего кровь буквально застыла в жилах, а дыхание перехватило. В нескольких шагах, там, где только что бушевала и клокотала пена, стояла фигура.
Это была Каролика.
Её тело, обтянутое мертвенно-бледной, синеватой, как у утопленницы, кожей, было опутано скользкими, черными, отвратительными водорослями, которые шевелились и извивались, словно живые, наделенные собственной волей. Красные волосы, слипшиеся, мокрые и тяжелые, свисали на лицо, скрывая черты, но не скрывая двух провалов глаз, горящих из глубины немым, всепоглощающим безумием. От неё исходил тяжелый, удушливый запах тины, морских глубин и разложения.
Каролика сделала резкий, неестественный, судорожный скачок вперед, подобно пауку, и оказалась прямо перед Огнезой, так близко, что девочка почувствовала ледяное, неживое дыхание, пахнущее гнилью, смертью. И колдунья, вложив в свой голос всю леденящую душу, первобытную мощь океанской бездны, закричала, и её крик, пронзительный и металлический, разорвал тишину, прозвучав как окончательный и бесповоротный приговор, как заклятье, высекаемое в самом сердце ночи:
— БУДЬ СКАЛОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!
От этого ужасающего звука, от этого леденящего прикосновения небытия Огнеза вскрикнула и проснулась.
Она лежала в своей койке, в относительной безопасности каюты, но сердце все еще бешено колотилось, готовое выпрыгнуть из груди, а по спине и всему телу струился ледяной, липкий пот, пропитывая простыню. Рядом послышался шорох, скрипнула койка, и сквозь звон в ушах до неё донесся сонный, спокойный, такой знакомый и родной голос Богдана:
— Всё в порядке?
Он лежал на своем месте, приподнявшись на локте, и в полумраке каюты она увидела его усталое, но бодрствующее, обеспокоенное лицо, его твердый, спокойный взгляд. Это зрелище, эта связь с реальностью, с защитником, медленно, но верно возвращали её из плена кошмара, отгоняя остатки леденящего ужаса.
— Да, — выдохнула она, чувствуя, как спадает тяжелый, ледяной ком страха, сжимавший горло. — Кошмар. Всего лишь кошмар.
Она перебралась к нему поближе, прижалась головой к его твердому, надежному, сильному плечу, чувствуя сквозь тонкую ткань рубахи живое, согревающее тепло и знакомый, успокаивающий запах его кожи. Он негромко, сонно что-то пробормотал, уже почти засыпая снова, и тяжелая, сильная рука легла ей на голову, приглаживая её рыжие волосы. Этот простой, почти отеческий жест был таким утешительным, таким настоящим. Стук сердца постепенно утих, переходя в ровный, спокойный ритм, дыхание выровнялось, наполняя легкие спокойствием. И под убаюкивающий, мерный скрип корабля, под его ритмичное покачивание и под ровное, глубокое дыхание Богдана Огнеза снова погрузилась в сон — на этот раз глубокий, спокойный, безмятежный и без сновидений, зная, что он рядом, что он на страже, и что она — в безопасности.
С рассветом «Пьяная Волчица» продолжила свой путь. Утро было на редкость ясным и спокойным. Солнце, поднимаясь из-за кромки горизонта, разливало по небу теплые, золотистые тона, окрашивая редкие перистые облака в нежные розовые и персиковые оттенки. Его первые лучи упали на палубу, отогнав ночную прохладу и заставив заблестеть капельки ночной влаги на снастях. Воздух был свежим и прозрачным, пахнущим соленым бризом, смолой и сладковатым ароматом цветущих прибрежных кустарников, доносимым с берега. Море плескалось о борт невысокими, ленивыми волнами, и казалось, сама стихия благословляет их путешествие.
Огнеза, проснувшаяся одной из первых, устроилась на своем излюбленном месте — на свертке мягких, пропахших смолой канатов на самом носу корабля. Поджав под себя ноги и накинув на плечи легкий платок, она с восторгом наблюдала за утренней жизнью моря. Ее медные волосы, отливающие золотом, как всегда, были заплетены в тугую и сложную косу, уложенную вокруг головы наподобие короны.
Богдан, прислонившись к массивному фальшборту, с легкой, почти незаметной улыбкой кивнул. В такие моменты, окутанные утренним покоем и красотой, этот суровый и странный мир казался почти идиллическим, притупляя память о недавних кошмарах и кровопролитиях. Он наблюдал, как солнечный свет играет в огненно-рыжих прядях Огнезы, и чувствовал странное умиротворение.
Даже Гринса, чье лицо обычно было подчеркнуто суровым и сосредоточенным, стояла у левого борта, опершись локтями на полированное дерево и подставив лицо ласковому утреннему ветерку. Ее каштановые волосы, заплетенные в тугую практичную косу, развевались, а в глазах, цвета холодной морской волны, светилось что-то похожее на отрешенное умиротворение. Ее хвост, обычно напряженный или подрагивающий от сдерживаемой энергии, лежал на палубе расслабленной, плавной линией.
— Неплохое утро, — тихо, больше для себя, произнесла она, глядя на расстилающуюся перед ними бирюзовую гладь.
— Лучше не придумаешь для начала перехода, — отозвался с кормы хриплый голос Трескота. Он пока не трогал штурвал, доверяя судно легкому попутному ветерку, который ровно и уверенно наполнял единственный парус, придавая «Волчице» стабильный, плавный ход. — Ветерок ровный, течения благоприятные. Если так пойдет, к полудню уже будем в столице.
Но, как это часто бывает в море, идиллия оказалась мимолетной. По мере того как они, следуя изгибам береговой линии, продвигались на север, знакомый и дружелюбный пейзаж начал медленно, но неуклонно меняться. Пологие, поросшие сочной зеленью и цветущими кустарниками склоны стали сменяться угрюмыми, темными утесами. Вода, еще недавно прозрачная и лазурная, стала мутной, свинцово-серой, словно в нее подмешали пепла. Впереди, насколько хватало глаз, из воды, подобно гнилым, почерневшим зубам какого-то исполинского чудовища, торчали черные, остроконечные скалы. Они образовывали причудливые и пугающие архипелаги, лабиринты из каменных столбов и арок, создавая хаотичную и однозначно угрожающую панораму. Воздух наполнился новым звуком — не мягким плеском волн о песок, а глухим, низким рокотом и шипением, с которым вода разбивалась о неподвижные каменные громады.
Трескот, до этого расслабленно стоявший у штурвала, внезапно выпрямился, его поза стала собранной, а взгляд — острым и пристальным. Все его существо, вся многолетняя моряцкая косточка, напряглись, улавливая малейшие изменения в поведении судна и окружающей стихии.
— Эй, на палубе! — скомандовал он, и его голос, обычно ворчливый, прозвучал жестко и властно, не терпя возражений. — К шкотам! Убираем парус! Сбрасываем ход!
Команда мгновенно ожила. Не суетясь, но и не мешкая, они бросились к снастям. Двое дикарей, ловко орудуя руками, начали быстро выбирать шкоты, ослабляя напряжение на полотнище. Еще один, стоя у мачты, помогал им, сворачивая тяжелую, пропитанную смолой ткань. Парус послушно обвис, а затем был быстро и умело свернут и закреплен. Гул ветра в снастях стих, «Волчица», лишившись своей движущей силы, заметно сбавила ход, но по инерции продолжала медленно скользить вперед, теперь полностью во власти течений и мастерства рулевого.
Богдан, почувствовав резкую смену ритма, подошел к штурвалу.
— Проблема? — спросил он коротко, его взгляд скользнул по водной преграде впереди, и он без лишних слов понял, что ситуация серьезная.
— Не то чтобы проблема, капитан Баг, — скрипуче, не отрывая глаз от воды, ответил Трескот. Его руки крепко, почти впившись пальцами, лежали на рукоятях штурвала. Он слегка подрагивающим движением повернул его, и «Волчица», послушная его воле, плавно, насколько это было возможно, развернулась носом, чтобы вписаться в начинающийся лабиринт. — Смотрите. Видите вон ту темную, почти черную полосу воды справа по носу? Это не глубина, капитан. Это подводная скала, ее гребень в двух шагах от поверхности. Ударимся — и нам конец. А вон там, слева, — он кивком, экономя на словах, указал на участок воды, который неестественно пенился и бурлил, — бурун. Течение натыкается на риф и поднимается кверху. Попадешь в эту струю — и тебя, как щепку, развернет и выбросит на камни. Здесь каждый метр — ловушка. Но ничего, я эти места знаю. Старого морского волка этим скалам не сожрать.
Он работал с предельной концентрацией, его тело стало продолжением штурвала, а взгляд, острый и пронзительный, метался от одного едва заметного знака к другому, считывая скрытую карту опасностей. Казалось, он видел сквозь мутную, обманчивую гладь воду, чувствуя каждый подводный камень, каждую воронку течения своим нутром, накопленным за десятилетия в море.
Огнеза, притихшая и напуганная внезапно сгустившейся атмосферой всеобщего напряжения, осторожно подошла поближе, стараясь не мешать матросам. Она сжала край своего платка и, глядя на нависающие над ними мрачные, местами покрытые белесыми потеками помета птиц скалы, тихо, почти шепотом, спросила:
— Дядя Трескот, а как называется это место? Оно такое... злое.
Штурман на мгновение оторвал взгляд от воды, чтобы посмотреть на девочку. В его единственном прямом глазу мелькнула тень чего-то неприятного, давно знакомого и несущего дурные воспоминания.
— Местные моряки, дитя, зовут его не иначе как «Берегом Съеденных Кораблей», — ответил он хриплым, нарочито спокойным шепотом, чтобы не сбиваться с ритма сложного маневра.







