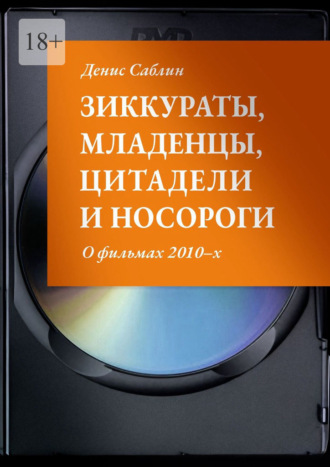
Полная версия
Зиккураты, младенцы, цитадели и носороги. О фильмах 2010–х
Потом вдруг выключается война, включается подмосковная дача – какая дача, всех эвакуировали ещё два года назад?! И понятно, что это не та дача, что это другая дача, не из этого мира, не из этой реальности – это декорации застывшего прошлого. Как была не из этой реальности речка, как не из этой реальности будет свадьба безногого солдата – на которой пьют, и веселятся, и никакой войны. Это другая реальность.
Комдив Котов умер. Убит при взятии Цитадели. А, наверное, ещё раньше. Об этом титр есть ещё в первом фильме. В смысле, в первом первом фильме. Для этого он и нужен был, фильм тот, как отправная точка.
И Митя умер ещё тогда, в ванне при свете шаровой молнии. И вот что их теперь ждёт. Застрявших меж двух миров.
Котов – вечный Агасфер, не могущий умереть. Вернее, умирающий раз за разом: в лагере, под бомбёжкой, в штрафбате, у Цитадели, от энкавэдешной пули, от плебейской финки, каждый раз бросаемый в новую плоть и новую явь.
Кроме шуток, это только в советской школе говорили, что, дескать, в своей великой поэме Гоголь обличал мещанство и царский режим. По замыслу автора «Мёртвых душ», Чичиков, ославивший себя явно меньшим, чем красные командиры, проступком, был вынужден за него мотаться по загробному миру, скупая мёртвое у мертвецов.
И в «Цитадели» Котов искупает своё по полной. Это повествование того же рода. И это не ляпы монтажа и не импотентность сценаристов. Котов совершенно точно ни живой ни мёртвый – для дураков это наглядно показано, достаточно одного взгляда на его мёртвую железную руку.
Он обречён на вечные мытарства, застывший на грани миров, вне времени, имея при себе лишь своё прошлое, которое теперь – во вневременье – может только механически повторяться на все лады.
И понятно, что не какой-то там бухой генерал посылает мальчишек «взять Цитадель лобовым ударом» – это сам командующий дивизии Котов вновь и вновь творит собственную мерзость, посылая людей на бессмысленную смерть своим штабным гонором. Только теперь, в безвременье, сам же он становится одним из тех смертников, причём по какому кругу – зрителю неизвестно, но явно не по первому. И в конце фильма снова будет то же самое, и тут снова будет сам он отдавать тот же приказ, и снова сам туда идти…
Это не фронт ВОВ, это Вселенная души массового убийцы. И в ней даже Сам Верховный носит китель генералиссимуса, а говорит при этом простые вещи: «Ты, Котов, рубил шашкой священников и умерщвлял деревнями тамбовских крестьян, и застрял в этой сансаре навечно. А я даже когда-то считал тебя своим другом. А чай – напиток вкусный, пей».
И в этой Вселенной не спрятаться ни в семейное гнёздышко (там любимая будет иметь детей от обрюзгших тюфяков и тайком убегать с ними), ни в объятья дочери, которой, как ни грезь всю эту вечность, можно лишь скомандовать: «Кругом. Шагом марш. Двадцать шагов прочь от меня».
Михалков неглупый человек. Снять очередной фильм о том, что, дескать, «война – это ад» – делали, снимали, хорошо-плохо, по-разному: взрывы, пули, огнемёты – это не ад. Ад – это когда от себя не уйти. Он это знает. Когда остаёшься один на один с тем, что совершил, и другого у тебя нет.
Потому не бравый супермен Котов идёт аки посуху с черенком против немецких гаубиц, отнюдь – это проклятый Агасфер идёт, чтобы снова выслушать тиканье мины и в очередной раз быть разорванным на куски, претерпевая смерть за кого-то, кого и в лицо при жизни не разглядел с высоты своего красного коня, зарубая или расстреливая. И снова собственной смерти не найти.
Идея эта читается легко. Если «Предстояние» – это реальность, похожая на загробный мир, то «Цитадель» – это загробный мир, похожий на реальность. С неизбывным проклятьем невозможности умереть, тут же рождаться под бомбами на новое проклятье.
И «Цитадель» действительно нужно будет глянуть лет через десяток. Есть ощущение, что Михалков – уж никто не знает, сознательно или какой-то паучок спустился, – зацепил-таки что-то настоящее, притчевое, мифогенное, архаичное. Насколько прочно этот зверь запутался в его ленте, покажет лишь время; может, через годик-другой силок этот окажется уже пуст.
До Данте и Гоголя дотянуть сложно, но сама эта попытка создания художественной истории в таком разрезе достойна уважения. Проблема всё же в том, что зритель Михалкову не верит: не снимай он лубка про цирюльников и прочую пургу про территорию любви, и даже останься он верен своим старым камерным фильмам, может, и тогда ожидания не были бы другими.
Все ждали от Михалкова чего угодно – экшена, имперского манифеста, дефиле национальной идеи, парада кинозвёзд, – в общем, то ли борща, то ли мировой революции, но никак не экзистенциально-дантовского эпоса. В котором, кстати, как и в безвременье Котова, одновременно нашлось место и шедеврально узнаваемым михалковским ходам эпохи «Неоконченной пьесы» и «Чужого среди своих», и позднее отточенному мастерству малого эпизода, впрочем, не без лубочной водки-гармошки-присядки.
Нет, требуют историчности, патетичности, идеологичности. И в этом смысле фильм критики не выдерживает – ни ветеранам, ни школьникам, ни военным историкам, ни патриотам, ни домохозяйкам, ни «оскаровской» комиссии категорически его показать нельзя. (Как и Гоголя, кстати, тоже читать им не рекомендуется).
А так – очень хорошо сделанное авторское кино. Вернёмся к нему лет через десять. Там, к слову говоря, и режиссёрская версия подоспеет.
[май 2011, по заказу Sqd]Из жизни простейших
(«Древо жизни»
Т. Малика, 2011)
На экране зарябили титры, мы вышли из пустого зрительного зала. Говорить о фильме не хотелось.
Ничто так не портит фильм, как Каннская пальмовая ветвь. Терренс Малик – мастодонт американского кинематографа, кинопоэт и кинофилософ, сторонник вкрадчивого закадрового голоса и неспешных визуальных пиршеств.
Известно, что фильм этот он вынашивал не один десяток лет, что к прошлым Каннам посчитал работу сырой, а к последним приурочил премьеру. И не будь этого злосчастного приза, все бы грандиозно похлопали, фильм спокойно вошёл бы в вечность, и никто не стал бы на него смотреть так, как приходится это делать теперь.
Разумеется, это кино обладает тремя великолепными составляющими, выполненными практически безупречно (никто не сомневался – Терренс Малик это умеет): картинка, звук, актёрское существование.
Оператор Эммануэль Любецки действительно бесподобен – шутка ли, носиться с двухпудовым стедикамом за дурачащимися мальчишками, при этом чудом не врезаясь в окрестные деревья и столбы, или лавировать между мебелью в не шибко просторной квартире, при этом не используя не то что операторской тележки, но и ни единого искусственного источника освещения.
Взгляд камеры то пронзает мистическое зазеркалье окон, то окунается в водяной вихрь газонного разбрызгивателя, то опускается в глубину теней, то нанизывается на иглы солнечных бликов.
О симфоничности «Древа жизни» не отозвался только ленивый – эпическая мощь всей академической школы от Баха, Моцарта, Мусоргского и Малера до более мелких представителей современности действительно заставляет содрогнуться, плюс густая звуковая атмосферность быта, подчёркивающая мистический реализм скользящей камеры.
Актёры – особенно младшего возраста – вполне себе взаправду живут в кадре: смеются, стыдятся, бунтуют, молятся, мечутся и блаженствуют. При этом всё это проникнуто личным переживанием режиссёра, снабжено сверхидеей, списком вопросов к Богу и эпической поэтикой образов.
Но есть в этом и с полдюжины крупных «но».
Малик – классный режиссёр. Он в совершенстве владеет тремя названными киноинструментами.
Но коль уж сам он завёл разговор о материях божественных и символических, хочешь – не хочешь, а приходят на ум три великих дисциплины средневековой университетской мудрости: грамматика, логика и риторика. Это «тривиум» – базовый курс средневекового богослова и учёного, пролагающий путь к истинам мирозданья.
Истины этого тривиума – истины, что должны были отскакивать от зубов любого студиоза. Истины, что до сих пор носят соответствующее название. Да-да, нетрудно догадаться – истины тривиальные.
И в этом вся загвоздка. Малик, вскарабкавшийся на методологический пьедестал Аристотеля, рассматривая мир с высоты универсалий, почему-то забывает об известной примерно столько же тысячелетий разнице между тем, что нынче именуют искусством, и тем, что именуют наукой.
И если классическую науку интересуют явления тривиальные в их универсальной повторяемости: все звёзды созидаются так – и Малик это показывает; все тектонические процессы протекают так – и Малик это показывает; все бактерии размножаются так – и изображение становится тому наглядным доказательством; все медузы плавают так, все динозавры выглядели так. Всё, всегда, повсюду так.
И всё это работает до тех пор, пока в поле зрения не оказывается человек. Вам интересна индивидуальность хламидомонады? Нет, зато на её примере можно проследить жизнь всех хламид всех времён. Вот только с человеком этот номер не проходит.
Искусство никогда не сможет вытерпеть фразу учёного типа «кишечник человека устроен так» – искусству будет всегда интересен кишечник какого именно человека.
И пуще того, человек этот в качестве героя художественного произведения как раз и появится именно тогда, когда выяснится, что у этого человека что-то «не так», как у остальных: что его мозг думает не так, что его сердце бьётся не так, и что, может, он и хотел бы потерять свою индивидуальность и стать как другие, да не может.
Но величие режиссёра-натуралиста непреклонно: его персонажи именно такие, как все. То есть как никто.
И на экране, как логическое продолжение бестиария с медузами и динозаврами, возникает именно такой тривиальный человеческий мирок.
Америка пятидесятых у Малика устроена так же, как колония инфузорий из учебного фильма по биологии: они все живут на одной улице, все одинаково выращивают газоны перед – и одинаково ругаются внутри – однотипных двухэтажных домиков.
Брэд Питт олицетворяет несуществующего отца универсального несуществующего инфузориеамериканского семейства, втолковывающего никогда не могущим существовать в реальности детям тривиальные истины типа «Будешь добреньким – они сядут тебе на шею» и «Учись бить, сынок».
Он тривиально жесток, как должны быть жестоки все отцы, и любит своих детей, как некий отец вообще. Мать семейства добра, как ни одна из живущих конкретно, но как универсально усреднённо возможная любящая мать.
Всё это выглядит вдвойне нелепым, оттого что в результате выходит плохое кино наоборот: в подавляющей массе продукции киноиндустрии живых персонажей неестественно изображают дурные актёры, а в «Древе жизни» получается точно наизнанку – живые мальчишки реально плачут и злятся, но делают это от лица искусственного персонажа, по фатальному умыслу режиссёра-концептуалиста, полностью лишённого индивидуальности.
Режиссёр проводит подростка по страницам учебника возрастной психологии, экранизируя его психические реакции на всём спектре жизненных ситуаций: от рождения сиблинга, смерти сверстника, нарушения общественных запретов, пубертатно-гормонального гона, через вуайерический интерес к чужим окнам, невиданно безыскусную манифестацию Эдипова комплекса, разбивания камнями стёкол, садистические игры с братом, до столь же бесхитростно тривиальных обращений к Господу Богу типа «сделай так, чтобы он умер» или «сделай так, чтобы я слушался маму и папу».
Самое печальное, что задней мыслью я, как неглупый зритель, понимаю, что режиссёр вовсе не хотел этого эффекта – фильм, вполне вероятно, автобиографичен и исполнен реальными чувствами.
Но в результате Малик выглядит как чистой воды персонаж Кустурицы из «Аризонской мечты», что разыгрывает на актёрских пробах сцену преследования на кукурузном поле. Он-то, бедолажка, переживает и выкладывается на полную катушку, только зрителям это, увы…
Но если по поводу содержания ещё как-то можно автору посопереживать, то вторая диалектическая составляющая – форма – явно прогневала бы любого университетского профессора.
Моя спутница, с которой я разделил участь просмотра «Древа жизни», достаточно точно подметила: фильм напоминает то письмо из деревни Простоквашино, в котором текст про одно почему-то продолжается другим про другое, а заканчивается третьим от лица третьего.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.


