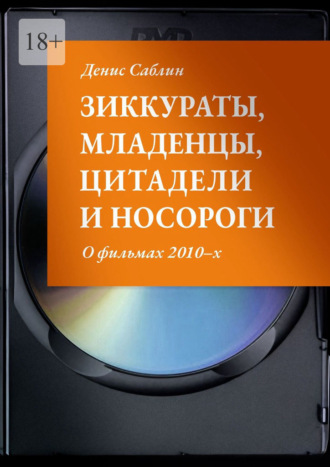
Полная версия
Зиккураты, младенцы, цитадели и носороги. О фильмах 2010–х
Вообще, жизнь персонажей, одной ногой стоящих по ту сторону сумасшествия, всегда влекла и манила нас, посюсторонних. Страсти и волнения, которые мы – простые невротически организованные личности – можем кое-как, с помощью лома и такой-то матери, худо-бедно переносить, наши сограждане-психотики перенести не могут, и потому их реальности – выдуманная и взаправдашняя – в этот момент ломаются, расщепляются, скрещиваются и перемешиваются. Что было явью, а что галлюцинацией, что делали они сами, а что делал кто-то другой – даже дедушке Фрейду неведомо.
Мы смотрим о них кино – «офигенное про Психоз» – с замиранием сердца и тайной надеждой: а вдруг и меня так же заглючит? А вдруг со мной такое вот случится, а вдруг уже случилось? Может, я – на самом деле не я?!! Очень тревожно и очень заманчиво.
Хотя, понятно, что с каждым первым это случиться не может – как-то к концу прошлого века в том разобрались, в книжках пропечатали: как ни мечтайте – не дождётесь. Разве травануться психотропом или допиться до «белочки», что за пределами вышеупомянутого отхожего места считается малопривлекательным.
Но это не мешает деятелям масскульта эксплуатировать тему параллельных реальностей, возможных вселенных и прочих изменённых, расширенных и продвинутых состояний сознания, увлекая вглубь и вдаль народные массы, а в обратном направлении – поток денежных средств.
Вопрос в другом. Помнится, Ф. М. Достоевский (царство ему небесное), между прочим, тот ещё спец по психотическим расстройствам, могущий дать фору многим новоявленным инди, в своё время сказал: «Я могу напечатать в вечерней газете объявление, что русский писатель Достоевский такого-то числа покажет задницу из окна своего дома. И непременно соберётся множество народа. Но какова будет во всём этом моральная польза?»
Таким ли вопросом задавался Аронофски, снимая «Чёрного лебедя»? Ибо очередное расщепление он показал, но какова в этом моральная польза?
Вот когда его «Реквием по мечте» крутят в качестве антинаркоманийской агитки, я всегда остаюсь в недоумении. Ибо, как никакой другой, этот фильм не то чтобы не обличает наркоманию – хотя, впрочем, вся «задница» наркоманской жизни из окна в нём показана, – но, напротив, моральная польза «Реквиема» в том, что обличает он саму гнилость общества потребления.
Того общества, где, не колись ты, так будешь залипать по телешоу, спортивным тотализаторам, ролевым играм, политике, пилатесу, «Одноклассникам», вышиванию крестиком, спасению отчизны от наркомании – как бы то ни было, позаимствованный масс-медийный или тусовочно-групповой бред будет подменять тебе ту реальную жизнь, которой ты лично боишься жить. И непонятно, на что подсесть лучше.
Это достойный манифест, поныне актуальный, и Аронофски за это останется вечно уважаем.
Но «Чёрный лебедь»… В принципе, после Боба Фосса снимать кино про танцоров – если не глупость, то сознательно провальный ход, могущий быть лишь оправдан краеугольностью круто закрученного концепта. Но Аронофски, похоже, не придаёт этому значения.
Ему, видимо, нужна ниша производственной драмы: выбрал балет – это ещё и красивое производство (хотя какая-нибудь фабрика нижнего белья с противостоянием дизайнерш – кто кого пересоблазнит – была бы даже пикантней).
По мнению знающих людей, на реальный закулисный балетный мир получилось ничуть не похоже. Видимо, главное дело было не в балете, а в психозе. Но и тут, однако, автор остался недопонят.
Наверняка моя знакомая, что с тех студенческих времён уже успела переехать во Францию, получить научную степень в университете «Париж-8» и открыть частную психоаналитическую практику где-то в Бордо, увидев фильм Аронофски, лишь ностальгически пожмёт плечами: «Ну, психоз…» Хорошая иллюстрация к психоаналитическому букварю, классический случай: поглощающая мать, дефицит функции отца, как следствие – аутодеструктивное отношение к телу, сексуальные проблемы и развязывание острого психоза в ситуации соблазнения, протекающего в дальнейшем как процесс расщепления сознания. В клинике каждый второй случай интереснее хотя бы потому, что за ним стоит реальная жизнь, а не схема.
Может, тогда автору важен психологический триллер? Да, кстати, получилось. Порой пробирает, но как-то… тот же Поланский пооткрытей и попервородней, на мой вкус.
По итогу создаётся впечатление, что просто саму фишку с перетасовыванием колоды реальностей, будь она явлена как пафосноватая полиморфность в «Фонтане» или вот шизоидный бред расщеплённой на «чёрную» и «белую» балерины, саму по себе – без особого смысла – Аронофски таскает из проекта в проект, применяя более или менее удачно.
Ну делал бы это хоть забавно, как великий Бунюэль. Ведь иначе так и повисает большой вопрос: зачем раз за разом, растрачивая плёнку и человеко-часы, снимать очередной схизайн? Или это всё то же подростковое желание протащить инди-авторские трах’н’глюки на большой экран – эдак нацарапать на античном барельефе «Цой жив!» и при этом не убежать, а ничтоже сумняшеся дожидаться вручения «Оскара»? Да, непременно соберётся множество народа. Но какова в этом моральная польза?
Да, кстати, кто не смотрел – уделите время, посмотрите на Портман. Все, кому жалко, что талантливая умница, так замечательно начинавшая у Бессона, почему-то вынуждена вечно играть марионеточных принцесс из «Звёздных войн», можно считать, дождались – Натали выложилась, судя по всему, на полную. Один подвиг освоения академической хореографии стоит памятника. Ну или хотя бы статуэтки. И таковых Портман, действительно, навручали в этом году вдоволь.
[март 2011, по заказу Sqd]I Can’t Get No!
(«Сатисфакция»
с Е. Гришковцом, 2010)
Говорить о фильме «Сатисфакция» сложно. Очень сложно, потому что фильм очень простой. Он не гениален – у него есть свои плюсы и свои минусы, но прост. И эта простота, что парадоксально, является тем барьером, через который не каждый зритель может перебраться.
Зная завязку сюжета, а о ней – если вы даже не читали расплывчато-сдержанных рецензий и анонсов – становится известно после первых десяти минут картины, привыкший к респектабельному киноискусству зритель уже внутренне мобилизует свой мозг и адреналиновую железу на вполне конкретный лад.
Двое мужчин. Тот, что «покруче», требует сатисфакции от другого, что «помоложе». Один на один. Лицом к лицу. В закрытом пространстве. С миллионом баксов на кону.
Десять минут позади, и сейчас должна разразиться психологическая битва, детективная драма, ну или, на безрыбье, какая-нибудь вакханалия посттарантиновских словесных эскапад. Схватка, разборка, перебранка и перепалка – в общем, дуэль, а фильм оказывается не про это. И не то чтобы борьбы в фильме не было – есть, и борьба нешуточная, но иного рода.
Нас как-то приучили, что киногерою – на то он и киногерой – положено вступать в неравную схватку с каким-нибудь мировым первозлом, в форме ли жизненных неурядиц или межгалактического разума. И даже если в фильме не предусмотрено счастливого конца, всё равно кино – на то оно и кино – устроено для того, чтобы некая идея, исповедуемая героем, обязана была побороть некую иную идею, которую проповедуют его враги. Пусть один герой не победил другого, но кто-то из них, как правило, должен быть прав, ведь так?
А тут такое странноватое кино, как будто и не кино вовсе: в кадре двое несчастных людей, вымотанных борьбой, только борются они не друг с другом, а каждый сам против себя. И на глазах у зрителя каждый сам себя и добивает, при этом ещё успевая помочь парой нужных реплик соратнику сделать то же самое.
По итогу: два мертвецких тела и никто не прав. И полнейшая сатисфакция – сиречь удовлетворение.
Слишком простое и нереспектабельное кино – такого дрессированный зритель не переваривает.
Когда-то, добрый десяток лет назад, в столице скромно появился и незаметно для всех совершил переворот в театральном искусстве Женя Гришковец – филолог-авантюрист, уроженец далёкого сибирского облцентра, по совместительству последний романтик своей эпохи. Он очаровывал странным даром: хранить, подобно мальчишке, в карманах своей памяти разноцветные пуговки и камешки воспоминаний, найденные на жизненном пути.
По-ребячьи начиная их перебирать и показывать зрителям, какие-то с гордостью, какие-то с грустью, он вызывал у кого-то благоговейное оцепенение, у кого-то – откровенное несварение, мол, что это за недотеатр – без конфликта, без действия, без отрепетированных реплик, без поставленных голосов и помпезности декламаций.
Но то, что это перевернуло мир, стало ясно лишь позже, когда по всей стране – от студенческих актовых залов до академических подмостков – едва ли остался театр, где бы хоть в одном спектакле актёр не вышел и не начал говорить зрителям вдруг что-то очень узнаваемо, непонимающе-искренне и наивно-рассудительно – «под Гришковца».
Минули годы, и вот посолидневший Евгений Валерьевич Гришковец не без стеснения делает широкий шаг в отечественный кинематограф – исполнителем полнометражной роли и автором оригинального сценария.
И на первый взгляд Гришковец не повторяется, тут он совсем не такой, как на сцене – хотя парой стекляшек из мальчишеской коллекции всё же не преминул похвалиться: его герои трогательно вспоминают, как клеили марки в ЖКХ и воровали арбузы, – но в чём он себе остаётся верен, так это в глубокой, доходящей до сарказма иронии над всеми условностями жанра.
Как на сцене его картонные самолётики и натянутые верёвочки срывали пафос со взаправдашности заскорузлой театральной бутафории, так и тут все эти сумки с миллионом долларов – это тот же добрый стёб: ну ведь положено, чтобы они в фильме были, так вот же, господа киноманы, вот, смотрите – ровно миллион.
А ведь кое-кто реально, на голубом глазу, начинает подсчитывать в уме, хватит ли этой суммы персонажам картины для счастья, и оценивать, а так ли в жизни выглядят прибайкальские олигархи. И слышится уже в адрес съёмочной группы всё то же самое, что и десять лет назад: мол, что это за недокино, без экшена, без конфликта, без внятной истории, без священной киновзаправдашности киноштампов.
Это не театральный Гришковец, но Гришковец-художник, который всю жизнь пишет одну картину, как бы кто ни жаловался, что, мол, невозможно догадаться, почему все роли отыграны, все реплики произнесены, все напитки выпиты, фильм закончился, а что хотел сказать автор – непонятно. Да, в общем-то, понятно – карты этого автора всегда открыты.
Вопрос Гришковца – это вечный рассказ о матросике, что со всех ног спешит, боясь опоздать из увольнения на отходящий корабль. И успевает, и несказанно рад. Хотя знает, что корабль уходит в бой, что обратно на берег матросу больше никогда не вернуться. Но ему кажется правильным не опоздать, а потом уйти в море и умереть, вместо того, чтобы остаться в объятьях приморского города, жить, упиваясь тропическими красавицами и южными винами.
Эта нестыковка между тем, что разумно, резонно, целесообразно, выгодно со всех точек зрения, с одной стороны, и чем-то таким внутри человеческого сердца, что заставляет поступать иначе – нелогично, нелепо, бессмысленно. И, поступив так, почему-то ощутить удовольствие.
Это острие гришковцовской боли, это тот вопрос, который, если внимательно прислушаться, кочует из спектакля в спектакль: почему человек хочет поступать не так, как считается правильным. А поступая правильно, он несчастен.
И бизнесмен Верхозин, персонаж «Сатисфакции» – это человек, разорванный напополам этим же вопросом. И он этого вопроса боится: он поступал неправильно и не понимает, почему.
И, чтобы спастись, создаёт чудовищного голема своей жизни – огромный «правильный» механизм из денег, людей, связей, забот и обязательств, непререкаемых норм и правил. Он думает, что так, имея власть и контролируя всё и всех, он сможет справиться с тем самым «неправильным» и непредсказуемым в человеческой душе.
Но люди до тех пор, пока ими владеют инстинкты – пока они боятся, зависят, подчиняются, – могут быть винтиками, но нельзя механически заставить человека любить, дружить, хотеть или не хотеть.
И дело не в том, что подчинённый Верхозина крутит шашни с его четвёртой женой – и это предсказуемо, этого можно было ожидать. Нет. Драма Верхозина в том, что именно это – закономерность, это как раз и реализовано в ладно скроенном механизме его жизни, где «всё настоящее».
И механизм этот возведён не для того, чтоб нести ему любовь женщины, благодарность детей, трогательное семейное счастье, а лишь для того, чтобы раз за разом удовлетворять самое «неправильное» его желание – быть отвергнутым и нелюбимым. Лежать в полном, тотальном одиночестве, когда никто тебя не видит, мир проносится мимо, и лишь в голове зудит фраза из попсовой песенки: «Тонешь-тонешь – не потонешь».
И тут наступает удовлетворение – сиречь сатисфакция. Полная сатисфакция.
У второго героя с именем Дима «настоящего» ничего нет и не было: как бы друзья, которым не нужен; как бы женщины, которые не любят; как бы смысл жизни – чтоб маме помочь. Успешная жизнь, как бы.
Гришковец – мастер малой формы, ему не интересен сюжет, ему интересна ситуация такой, какой она уже сложилась. И фильм «Сатисфакция» – этакий полуторачасовой стоп-кадр, дающий возможность деталь за деталью рассмотреть заформалиненные души героев.
И на это, пожалуй, стоит посмотреть, хотя бы из-за того, что в суетном мире мы этого сделать не успеваем. Лишь подобно работникам ресторана – персонажам, гениально введённым в канву фильма, что из «лакейской» подглядывают, как трапезничают баре, – мы воздыхаем: «Мне бы такую сумочку!» И в упор не понимая, что такими, как Дима, и такими, как Верхозин, становятся лишь от неизбывной душевной нехватки.
И не может тут быть дуэли. Не может быть и конфликта поколения «как бы» с поколением «на самом деле». И кина, в том виде, к которому мы привыкли, об этих людях не будет. Разве слишком простое и слишком нереспектабельное.
«Do you really love me?» – вопрошает герой Дима у смотрителя в сортире. И тишина в ответ – его просто никто не любит. Really.
[март 2011,по заказу Sqd]Аккуратный зиккурат
(«Generation П», 2010)
Почему все еврейские мамы это делают, почему все еврейские мальчики обязательно должны учиться играть на скрипке? Вы думаете потому что каждая еврейская мама думает, что её сын станет играть, как Додик Ойстрах? Вы недооцениваете еврейских мам. Просто любой еврейский мальчик, когда настанет нужный момент, должен уметь взять скрипочку и аккуратненько сыграть написанные ему ноты. И, может быть, даже этим чуть-чуть заработать. А что в этом такого? Пусть мальчик умеет в этой жизни что-то таки делать.
Виктор Гинзбург взял книгу Пелевина и аккуратненько экранизировал написанные там буквы. А что в этом такого? Режиссёр в пятьдесят лет может себе позволить это сделать.
Взять книжку об обсюренной жизни родной ему когда-то страны – в меру талантливую, в меру культовую, в меру конъюнктурную для своего времени – и аккуратненько наснимать видеоряд на основе написанного. Ибо мамочку-Родину надо любить.
Немного денег на это можно попросить у засвеченных в книжке брендов, и, видит Б-г, это не продакт-плейсмент. Немного актёров можно пригласить по национальной дружбе, немного – по причине культовости материала, немного вообще не актёров – как известно, и зайца можно научить спички зажигать. С двадцатого дубля, глядишь, и Станиславские во гробах содрогнутся.
Только не думайте, что написанное мной – это поток едкого антисемитизма. Скорее, напротив, почтительный наклон головы в сторону богоизбранного. Почёт и уважение автору. Ибо сделано всё аккуратненько.
Прокатный формат, правда, заставил кое-что сократить, но в телеверсии же всё недопроизнесённые диалоги и вынутые сцены вернутся обратно на свои места – никто не сомневается.
Вот исправленный текст. Я использовал стандартное выделение для жирного шрифта.
С виду придраться не к чему, но начинаешь глядеть на экран и, хочешь – не хочешь, славливаешь ощущение какой-то неуместности происходящего.
И дело даже не в том, что про лихие «братковские» девяностые лучше всё же посмотреть у Балабанова, а про кислотные трипы – у какого-нибудь там Гиллиама. Дело даже не в том, что никто сейчас не вспомнит, кто такой Кириенко, почему произошёл дефолт в незапамятном девяносто восьмом и в чём тут был пелевинский прикол с утраченными файлами. Тем более позабыты древние слоганы уже десяток раз переребренденных торговых марок.
Для нас – актуально живущих во втором десятилетии последнего века – всё это не то чтобы не близко, это просто не самое важное в тех пережитых девяностых. Даже чтоб просто выдавить ностальгическую слезу, нужно, чтоб на экране показали вовсе не это. А от того, что показывает Гинзбург – подборки дирижирующих оркестром Ельциных, – ни тепло ни холодно, ни уму ни сердцу, лишь как-то на душе пустовато.
Невольно думается о том, как в своё время уплывающие на легендарных «философских пароходах» из постреволюционной России интеллигенты увозили с собой мешочки с русской землёй. Они носили их на груди до самой смерти – неважно, в эмигрантском ли Париже или Шанхае, – навеки тем самым оставаясь со своей родиной, такой, какой они её запомнили, нося её в своём сердце.
И глядя на то, что эмигрант-режиссёр воспроизводит в своём фильме, я лично тревожно ёрзаю на кресле от мысли о том, какую такую русскую землю он носит в своём сердце.
Говорят, уехал из СССР подростком в середине семидесятых, впервые вернулся тридцатилетним и попал в девяносто первый. Тут, видимо, и глотнул той субстанции, что носит до сих пор в своих лентах. О том и снято, ибо смердит. Но не чернуха, чистенько всё так, аккуратненько.
Есть у любого автора такое слабое место – кухонно-цеховые страсти, так повседневно волнующие его пишущую натуру, отнюдь не всегда интересны читателю.
Тем не менее как народ прощает тому же Булгакову десятки страниц, посвящённые Массолитовскому ресторану, а Ильфу с Петровым – их витиеватые повествования об устройстве редакционных лестниц, так можно простить Пелевину наличную для него безысходность жизни литератора в беспросветные девяностые, заключённую в по-подростковому поляризованной дихотомии: либо сидеть в ларьке, либо сочинять плохие слоганы – как ни крути, а твой талант никому не нужен.
«Творцы нам на х.й не нужны», – голосом Гордона озвучено нынче с большого экрана. И, помыкавшись в этих кругах, невозможно не написать то, что напишет Пелевин в своём «Generation П». Напишет, впрочем, закамуфлировав правду жизни беготнёй по галлюциногенным тропам к прекрасному будущему в образе мистических далей воссоединения с династией шумеро-вавилонских богов, дескать, светящих добросовестному рядовому рекламисту.
Понятно, что любой прототип, с которого можно было написать Вавилена Татарского в девяностые, к сегодняшнему дню закончил уже свою карьеру так же, как герой другой «культовой книги о судьбе рекламиста» – «99 франков», пусть даже пройдя все предначертанные ему круги от рекламы зубочисток до политпиара и демиургизации геополитических перформансов.
Потому что зиккурат, в силу конструктивной особенности, всё же чем выше, тем у́же, а потом и вовсе заканчивается. Пелевин пятнадцать лет назад мог на эту тему резвиться. Но нынче Гинзбург – режиссёр, естественно, всю жизнь снимающий рекламу и клипы, – точно знает, чем это заканчивается. И это вовсе не смешно.
Если у Пелевина сатира (а если верить его поклонникам – сатира пророческая), то Гинзбург выглядит как первоклассник, радостно рассказывающий всем о том, что впервые узнал сегодня на уроке арифметики.
Но урок выучен прилежно, домашнее задание выполнено аккуратненько. Учитель может снисходительно покивать головой.
Проект выношен, подчищен, даже почти концептуален. А действительно, чем не концепт: набрать актёрский состав «голов из ящика», почти тех самых, что производят на виртуальной фабрике в гиперболизированной реальности романа, и заставить их играть. Причём порой неплохо, даже с забавными двойными донышками.
Телеведущий Гордон в своей мизантропичности мил и очень уместен. Шнуров на удивление мягок и почти обворожителен. Главный исполнитель – кажется, массово известный по каким-то телесериалам актёр Епифанцев – порой жестоко плюсует, но мужественно выполняет поставленные режиссёром задачи. Его партнёр Фомин более органичен и особо убедителен в моменты щипания главного героя.
Мелькают и без того примелькавшиеся лица, но при этом никто особо не раздражает. Правда, анализируя увиденное, мысленно производишь какую-то странную операцию с временным наклонением: ещё живой Трахтенберг, ещё не расстриженный Охлобыстин… А вы действительно уверены, что должны тут быть?
Экранизация – вещь мистическая. Что-то должно произойти где-то в параллельных мирах, чтоб фильм смог значить то же, а то и более того, нежели первоисточник. И если так думать, то от режиссёра тут мало что зависит: почему, к примеру, «Собачье сердце» стало тем, чем оно стало, а всё последующие потуги Бортко показали, что его личность, видимо, тут ни при чём. Просто Небесная Канцелярия так распорядилась. Или эпос Питера Джексона при всех его минусах – вещь, достойная книг великого Профессора.
Обвинять Гинзбурга в том, что с брендами и селебрити он худо-бедно договорился, а вот с ангельскими чинами – не совсем, наверное, не стоит. Впрочем, может, и сам материал вечности не достоин – нам, смертным, сие неведомо.
Кстати, я так и не смог представить, как видят этот фильм те, кто книжку-то не читал. А ведь наверняка половина зрителей – из этих.
Одна моя знакомая – двенадцатилетняя барышня, тотально проштудировавшая закрома районной детско-юношеской библиотеки – недавно делилась со мной читательскими радостями. Говорит, очень нравятся ей книги об эсэсэровских детях, у них там всё так прикольно было – пионеры, макулатура, металлолом…
Думаю: а вот пройдёт ещё лет пять, попадётся ей под руку книжка Пелевина про какие-то там прикольные девяностые. А её поколение будет смотреть фильмы Гинзбургов и, как само собой разумеющееся, считать, что «Поколение П» означает именно того Пятиногого Пса, наступившего прикольному эсэсэру.
А они, живущие уже в эру «пост-П», являют собой «Generation ПП», своей пятиноговостью наступая тому, что получилось у нас.
[апрель 2011, по заказу Sqd]Сансара красного комдива
(«Утомленные солнцем—2: Цитадель», 2011)
Вообще, проект «Утомлённые солнцем – 2», как и почти все сиквелы, что заранее как класс маркетологически рассчитаны на потребительскую лояльность, был обречён на зрительскую нелюбовь. Даже сама нумерологическая неестественность – «Предстояние» – это первая подчасть второй части, а «Цитадель» – вторая подчасть второй части – как-то была уже не от мира сего.
А по выходу «Предстояния» все, кто ещё помнил, о чём был первый фильм, вообще оказались, мягко говоря, обескуражены. Первый оказался ни при чём.
Кто-то дёрнулся было пойти посмотреть спецэффекты про войнушку – не нашёл. Кто-то кинулся было прочувствовать Великую Победу Русского Народа, но фильм оказался про набор каких-то абсурдистских ситуаций, что на Великую Войну никак не походило. Кто-то кинулся искать тайные месседжи – на безрыбье нашёл лишь русофобию, антисталинизм и арийскую человечность в некоторых отдельно взятых случаях.
Кому-то, правда, под хруст попкорна из ведёрка с пришпандоренной георгиевской ленточкой привиделись в «Предстоянии» похождения бравого комдива Котова – но как-то тоже не очень отчётливо. Возвели очи к небу, увидели там немецко-фашистскую задницу, испражняющуюся на красный крест.
В общем, никто ничего не понял.
Третий фильм – о, извините, второй второй фильм – уже никто не ждал, не испытывал никакой лояльности и никакой любви. И, может быть, кстати, напрасно.
Михалков всё-таки не Федя Бондарчук, он всё-таки режиссёр. Хотя и не Спилберг и не Коппола – и он это прекрасно понимает.
Михалков – режиссёр русский, и если даже предположить, что его православность и аристократичность – суть показное в массе своей, то на мелкую толику всё же за сердце оно зацеплено. А русский художник, он всё-таки о душе думать будет.
И оно ведь в глаза бросается буквально со второго эпизода, а уж после кульминации «Цитадели» вообще сомнений не остаётся – это никак не лобовой фильм.
Видим бой – безысходный, безвозвратный и безнадёжный, главные герои беспомощно копошатся под взрывами. Монтажная склейка. Солнце, птички, чистая речка: «Ничего не помню, а что случилось?» Пока можно считать, что это случайная оплошность сценариста и технические проблемы монтажа.
Далее идёт сцена расстрела или, если хотите, дуэли. Двое мужчин, из которых один должен умереть. Монтажная склейка. Они же живые в тихом жужжании авто, герою возвращают генеральские погоны. Вторая случайная оплошность?


